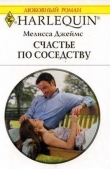Текст книги "9,5 рассказов для Дженнифер Лопес"
Автор книги: Александр Образцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Надолго?
– На неделю, за пополнением. На ночь?
Глазами: да.
– Болтают уже, дай хоть отдышаться-то... ведь не в последний раз...
– Что-то жарко у тебя.
– А ты сними китель. Я на кухню.
Завершенный, как пирамида, стекающий блеск бутылки. Скользкий хруст крошечных груздочков. Селедка с луком...
Вошла. Дымящаяся тарелка в руках, внимание и осторожная плавность. Пельмени.
– До утра пируем?
Улыбка вспышкой. Уходит снова. Как дышится!
– А-ах!
Она! Сидеть напротив, из граненых стаканчиков пить ледяную водку, вилкой вылавливать юркий гриб, обжигаться уксусной сочностью пельменей, встречаться пальцами над хлебницей, смотреть в самые зрачки полубессмысленным взглядом, голова ходуном от этого взгляда, и надо всем тик-ток – ходики. Секунды, как монеты.
И долгая, томительная встреча коленей под столом.
– Ешь, остынет, – шепот.
Пьешь, ешь, не отрывая глаз. Румянец, а у глаз, у точеного носика, выше – прохлада слепящей белизны.
...Два часа ночи. Жарко. Встаешь, босиком по холодному полу – на кухню. Пьешь воду из кадушки. Возвращаешься. Чиркаешь спичкой, чтобы прикурить, и боковым взглядом на нее. Сонная румяная щека, плечо под упавшей ленточкой рубашки, рука, охватившая подушку, как мягкий земной шар, – все в оранжевом дрожащем пламени.
Черт! Чуть пальцы не сжег.
Зажигаешь одну за другой, ломаешь спички от нетерпения, и каждый раз новее, желанней, и как довершение – притиснутая телом грудь в развале подмышки, где выбиваются легкие, вьющиеся волоски...
В полной темноте осторожно и расчетливо вытягиваешься рядом. Икра касается выставленного колена, переворачиваешься на бок, ведешь рукой по бескостной льющейся спине к затылку. Он ложится в ладонь, точный, легкий, сонный и праздничный, как жизнь.
"М-м", – говорит она, и ее рука охватывает тебя за пояс, по-хозяйски неспешно, нежно идет по отвердевшей спине.
"Ты не спишь..." – бормочет она, и лепет, бессвязно-обидчивый.
В нем плывешь и таешь, и вот – тебя нет, и вселенная полна жара, шорохов; вселенная – тенькающая капля в желобе...
– Но здесь обо мне не говорится, – сказала Дженнифер. Мы перешли уже на "ты", дело происходило в июле, жара стояла неимоверная. Я читал ей этот рассказик в одном театре на Бродвее на представлении "Скрипач на крыше", куда нас мисс Лопес провела по контрамарке, чтобы в фойе прослушать очередной рассказ. За дверями зала грохотала раскованная нью-йоркская публика, по сцене летали дисциплинированные евреи в сюртуках, котелках и пейсах, и воспринимались исключительно как артисты.
– Тебя тогда вообще не было. На свете, – почему-то оскорбился я за прошлое. Мол, здесь ты можешь владеть умами, глазами и прочими потрохами, а шестидесятые годы прошлого века оставь местным красавицам.
Не знаю, поняла ли она. Что-то в ней есть, что позволяет думать о понимании. Какая-то пристальность, почти исчезнувшая в остальных фигурах в горячке шоу-бизнеса. Боря назвал эту ее черту совсем просто: "клевая телка". Меня это немного покоробило. К Дженнифер я относился совершенно эстетически. Это позволяло мне восхищаться ее достоинствами и сохранять дистанцию. Она чувствовала эту дистанцию. Мы как бы были по разные стороны текста: то ли я читал ее, то ли она меня.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Я не люблю ходить на дни рождения. Я лучше приду в другой день и посижу, и мягко, как бы между делом, поздравлю.
Почему так происходит? Или мы совсем разучились праздновать?
Когда мне все-таки не отвертеться, я собираю всю свою волю в кулак и иду за подарками. Я заранее знаю, что подарок куплю не нужный ни в хозяйстве, ни в духовной жизни. Это будет либо кофеварка (окажется, что это уже третья за вечер), либо томик югославской драматургии (хозяин предпочитает Островского), либо, что уже совсем нелепо, какая-нибудь керамическая птица. И после того, как подарок вручен и можно пройти в комнату с накрытым столом, обмирая от заранее предусмотренного конфуза, окажется, что и
остальные гости улыбаются через силу и мечтают об одном – поскорее усесться и увильнуть от первого тоста за виновника торжества. Здесь уже полегче. Здесь уже хозяин натянуто улыбается и бегло, якобы лукаво и оживленно оглядывает стол: я, конечно, понимаю, что никто говорить не хочет, так вот за это ваше иезуитство я сам вас помучаю и буду молчать до тех пор, пока... И так далее. После первой рюмки дела пойдут веселее, о новорожденном скоро забудут, и лишь на кухне, вдруг заметив его рядом с сигаретой в зубах, начнутся хлопанья по плечу и восклицания, диаметрально противоположные по смыслу: "Скоко?.. Да ты что?.. Да ты же еще пацан!.." Или: "Ну, старик, в таком возрасте жить начинают!"
Словом, рассказывать о подобном дне рождения мучительно, о нем и вспоминать-то тошно. Лучше расскажу я о чем-нибудь веселом. А если и не совсем веселом, то динамичном, даже несколько скандальном. На подобный день рождения обычно попадаешь случайно, экспромтом. Как бы ты и не гость даже, а наблюдатель с подарком. На тебя и не рассчитывали, для тебя тарелка не сервизная, а ты еще и шампанское принес. И цветы за базарную цену. Это пусть тот, кто тебя привел, бледнеет и объясняется с хозяйкой Нинон вполголоса. А уж Нинон тебе, незнакомцу, обязательно улыбнется из кудряшек, и торжественно тебя введет, и громко представит приезжим из Новосибирска – вот, мол, дом у меня! Из самой Сибири на день рождения прилетают!
И в нем, в этом доме, все очень свободно. Каждый подарок торжественно разворачивают и цену не забудут сообщить по этикетке или по донышку. А знакомый, тот, что привел, злодей этот, Валериан, которому было не отвертеться и который тебя прихватил для дальнейших пьяных бесед по поводу твоих дел в банке, он уже веселится вовсю. Он тебе на ухо все расскажет о своей двоюродной сестре Нинон. Окажется, что Нинон устраивает необычайно широкие дни рождения. И цену она не от бескультурья так громко объявляет, а оттого, что день рождения у нее – предприятие коммерческое. И ей наплевать, кто и что подумает. Пускай по углам, вроде Валериана того же, перемывают ей кости. А вот принес тот же Валериан как раз то, что нужно было, – майку с видами Лувра.
А пока – к столу, дорогие гости!
Сама Нинон, как царица, садится во главе, и лицо ее, как у царицы, милостиво позволяет сказать тост.
А ведь действительно, отсюда, издалека, лицо Нинон тонко и одухотворенно, не сказать – прелестно! И румянец по верху щек, и синева чуть размытых глаз, и кудряшки блестят – Левицкий здесь нужен или Рокотов, чтобы запечатлеть для будущих поколений.
А голос Валериана слева создает контрастный фон: "Суп, представляешь? на костях варит, и собака не польстится. Глянь-ка на мужика ее, а? Видишь, как мечет? Он дня три, как пес на цепи, сидел, голодал перед этим днем рождения... А рыбу, знаешь, как жарит? На собственном жиру. Рыба-то, говорит, жирная, она в холодной воде плавает и не мерзнет... Да ты осторожней, это же не водка. Это – спирт технический, смородиной закрашенный..."
Нет, не верю я Валериану. Гнусная, злая клевета! А то, что несколько резиной в нос шибануло, – так это из-за его слов. Надо встать и сказать тост.
– Я хочу сказать... – начинаю я, вставая с рюмкой, и все мгновенно замолкают по жесту Нинон. – Что я случайно здесь, в этом доме... И мне... глубоко симпатично то, что все свободно! Что все говорится в глаза... Что наша прелестная хозяйка так... непосредственна и царственна! Я предлагаю выпить за то обаяние, за тот... воздух, который она создает своим присутствием! За тот... праздник!..
– Ура!! – кричит Валериан и бешено аплодирует. Когда я сажусь рядом с ним (в нос по-прежнему шибает резиной), он, давясь от смеха, уничтожает меня. По его словам, мой намек о воздухе поняли все. Я встаю и ухожу на кухню. Мне грустно.
Черный, чужой город в огнях вздыбился за окном до самого неба. Здесь второй этаж. И я думаю о том, что нужно совсем немного, нужно всем стать чуть-чуть человечнее и чутче друг к другу, и все поймут, что каждый из них достоин любви! Уважения! Нежности! Я еще не понимаю, почему у меня возникли эти мысли. На самом-то деле я уже влюблен в Нинон. Мне снова хочется видеть ее. Я возвращаюсь в комнату.
Она встречает меня странным взглядом. Я краснею. Она спохватывается и улыбается мне.
Мне не хочется садиться рядом с Валерианом, но других мест пока нет. Я сажусь и стараюсь не слушать то, что он клевещет.
Валериан: "У них две квартиры, обе в центре. Одну сдали грузину, аспиранту, за 300 баксов в месяц. И, заметь, как только грузин летит к себе в Тбилиси, они берут два рюкзака и полдня таскают пустые бутылки с балкона!.. Ладно. Покупает грузин письменный стол. "Я, – говорит, – вам его оставлю, когда кандидатом стану". А это когда еще станет? Летит грузин в Тбилиси. А они подгоняют фургон, грузят мебель вместе с письменным столом и везут все это в комиссионку. Понимаешь? У грузина денег много, ему понадобится – он еще купит!.."
Странно. Чем больше гадостей говорит Валериан, тем больше мне нравится Нинон. Как она слушает кого-то там, какие у нее при этом оживленные, внимательные, умные глаза! А почему ей не быть умной? Она инженер-экономист... Нет, нельзя мне влюбляться. Нельзя. Никак нельзя. У нас – семьи... Но как сладко щемит сердце! Как прекрасно, ослепительно ее лицо на том конце стола!..
Валериан: "Она с детства такая жадюга. Они в коммуналке жили, так она за соседкой кофе допивала. Допьет из чеплажечки, а потом воды добавит... А ты посмотри на мужика ее. Да, посмотри, посмотри! Это же святой человек... Прибегает она как-то к нам – разрывается от рыданий! Мы с женой водой на нее брызгаем – что случилось?.. Он, говорит, масло на хлеб намазал!.. Ну и что?.. Так вы бы видели, сколько он намазал!.."
Нет, не могу я с ним рядом сидеть. И уйти не могу из этого дома. Я снова иду на кухню.
"Откуда в людях столько злости? – думаю я. – А злословие? Что говорят о нас, как только мы выходим за порог? И ведь не со зла, нет. Не о чем говорить – позлословим. Чем гнуснее ложь, тем приятнее слушать. И того раздевают, кто вышел, и сами раздеваются своим злоязычием. Нет, не поверил я Валериану. И не поверю ни за что. Ведь как человек иногда нелогично поступает: значит, вы обо мне плохо думаете? А я сейчас нарочно буду вести себя хуже еще, чем вы думаете обо мне! И это сплошь и рядом. Потому что человек не любит судей и соглядатаев..."
– Наглая! – вдруг слышу я, и вижу Нинон (нет, не Нинон! Это Валериан называет ее так! Дженнифер назову я ее! Не меньше!). Она вбегает на кухню, глаза блестят от слез, грудь порывисто вздрагивает от сдерживаемых рыданий. – Шампанское... – говорит она. – Ваше! шампанское... Не может она, видите ли, пить это!.. А шампанское?.. Шампанское – конечно! Его все пьют! Почему бы шампанское не пить?..
Она никак не может успокоиться. Я в недоумении – какое шампанское? Почему? Кто эта – "наглая"? Как она по-детски страдает!.. Я пробую ее успокоить, приобнимаю за плечи – мы целуемся... Она целуется страстно, даже зло – мы выходим на лестничную клетку... В течение всего вечера... да, пользуясь любым случаем, – мы целуемся... Нас замечают, но как бы не замечают... Мне странно...
Когда мы с Валерианом выходим из подъезда (мы и не попрощались с нею так, быстро, все вместе стали уходить), голова моя совершенно ничего не соображает... Завтра, думаю я, надо встретить ее... утром... здесь, у подъезда... встану за теми тополями... она выйдет, и мы встретимся...
Я трогаю языком свои искусанные губы, а Валериан говорит:
– Вот жадюга, а? Не добрала подарком, так добрала натурой.
Мне надо бы ударить его по физиономии, но я лишь отстаю и иду в другую сторону, в очередной раз ничего не понимая в жизни.
– Я хочу ее сыграть, – сказала Дженнифер. – Я ее вижу.
КСД
В городе Свободном долго строили новый вокзал. Старый был деревянный, с вогнутой крышей, и странно видеть сейчас сверху, от площади Лазо, вместо привычной обвисшей бельевой веревки конька белый параллепипед.
Именно это пытался объяснить командированный Альберт своему попутчику по купе Кореноеву.
Альберт! Тебе сорок два года, а ты пытаешься все объяснить. Кому интересны твои рассуждения? Уж во всяком случае, не Кореноеву, у которого от твоей ностальгии изжога. Хотя ему не скучно. Он вместе с тобой смотрит вниз, на вокзал, двигает челюстью, как будто собирается плюнуть, на голове у него громадная черная шляпа, своей вогнутостью напоминающая Альберту старый вокзал...
Завод у Альберта никак не кончается. Наоборот. Брови вздернуты, глаза жадно хватают Вокзальную улицу, кинотеатр им. С. Г. Лазо на той стороне горбатой площади, пепельные апрельские деревья, родные дальневосточные фигуры людей – все это обваливается на двадцатилетней давности Вокзальную улицу и т. д.
– Тот вокзал был старикан, понимаешь? – говорит Альберт. Подслеповатый такой завхоз. А этот, гляди, набычился, руки упер в стол у-у!.. Если б ты знал, какие здесь КСД!
– Какие? – зевнув, говорит Кореноев. Он не любит, когда говорят загадками. КСД! Он сам любит говорить загадками. Этот длинный Альберт от Хабаровска прыгает перед ним на проволоке и хоть бы раз упал. Хоть раз! Но ничего. Не скучно.
– Вот! Посмотри! Посмотри, какая! – Альберт незаметно глазами указывает на приближающуюся КСД. Она в стеганой нейлоновой куртке, в джинсах, с подвитыми волосами до плеч, сероглазая, нежнопрофильная, какие на Кореноева и Альберта даже в доме отдыха, от скуки... Да что там говорить! Конечно, нет! Никогда уже!
– Какая? – снова зевает Кореноев в лицо Альберту.
– Да ты что? – в горячке шепчет Альберт. – Это же Красивая Свободненская Девка! Нигде в стране не встретишь!.. Ах, какая улица! Это главная улица, она идет вдоль железной дороги, видишь? Вдоль Зеи, там, дальше. И вдоль сопок, там, выше. И по ней ходят КСД. Как в Голливуде.
Однако улица перед ними не такая, какую хотелось бы видеть Альберту. Довольно жидкая улица с пыльным выбитым асфальтом, серыми домиками под плоскими четырехскатными ржавыми крышами, и лишенная к тому же главного украшения – коридора июльских тополей (после дождя, после танцев в горсаду, когда КСД неуверенно расходятся парами, выстилая незаметной оглядкой срочные понижения своих требований). Тополя по всем правилам обрезаны до культей.
Альберту больно видеть это глазами Кореноева. Он отвернулся, прикрыл глаза, снова открыл их. Кореноевская скука, как газовая атака, уничтожала все живое.
Кореноев. Сколько таких броневиков ползает по территории России! Все-то их развлекай, все-то в пасть положи! Заглотит, выжмет под прессом в своем механическом брюхе и снова смотрит скучающе, с усмешкой из золотой оправы.
Альберт. Допрыгался. Со случайным человеком в свой город возвращаешься, да еще и рекламируешь, как бедный родственник. Допрыгался до сутулости, до язвы, до морщин. Как будто скальпелем во сне разрисовали. Да где же деревянный тротуар на той стороне улицы, который помнят ноги? Где тут встать на колени, в какое окошко зарыдать?..
– Всегда этот город славился своими КСД, ты не говори, – продолжал свое Альберт. – Всегда. Они здесь, как в парнике, вызревают. А разве мало значит то, что этот город почти не растет? Когда город не растет, местные жители проникаются любовью к нему, к реке, к огородам, и у них рождаются красивые дети. Возникает такой мощный генотип, что и природа становится мягче, как в какой-нибудь Аркадии... Вот здесь была гостиница. Ты смотри! – Альберт озирался во все автобусные стекла.
"Да как же это? Зачем они это построили? Я же так любил старые бревенчатые дома с узорчатыми наличниками, деревянные тротуары, старый рынок с пыльной площадью! Зачем мне центральная площадь с панельными голыми домами, похожими на ободранных животных?!" – вскричал Альберт про себя.
– Где-то здесь, по идее, – сказал он Кореноеву. – В центре.
Они вошли в гостиницу "Зея". Альберт прикинул возраст администраторши да! Не она ли взлетала под баскетбольным щитом в начале шестидесятых, перепрыгивая неуклюжих подруг? Не она ли танцевала с Альбертом в тот вечер в парке ДОСА, после чего за ним гнались знакомые хулиганы из Северного городка, и его отбил Рекалов с друзьями. Не она ли... Альберт с любовью заглянул в ее глаза.
– Нет воды, мальчики, – сказала администраторша, по-своему истолковывая взгляд Альберта, – кончилась.
– Это еще как? – солидно сказал Кореноев. – Впервые слышу.
– В гостинице нет воды, – с уважением посмотрев на солидного Кореноева, пояснила администраторша. – Нет. Кончилась. Сегодня выехал последний гость.
– Да нам вода и необязательна, – сказал Альберт. – Нам только переспать.
– Вы понимаете... – начала администраторша, но Кореноев не дал ей продолжить относительно русского языка и бросил:
– Ясно. Что тут понимать. Нет воды – и нет вопросов. Но куда же все-таки податься командированному человеку?
– Ну... есть здесь недалеко ведомственная гостиница, – продолжала уважать Кореноева администраторша, – от комбината "Амурзолото"...
– О! Да я ее прекрасно знаю! – Альберт с новой волной любви и благодарности заглянул в ее глаза. – Это через улицу, да? Во дворе? Там еще такое симпатичное крылечко в тени деревьев?
– Вы дадите мне закончить? – Нет, не привыкла она еще со школы уважать таких людей, как Альберт. Таких вертлявых, недостаточно выбритых, на которых невозможно опереться – с ними даже под руку ходить опасно, того и гляди, взбрыкнет ногами и полезет по воздуху, как по стенке. А кому интересно идти с мужчиной, который неизвестно чего хочет? Который – неизвестно даже, хочет ли тебя? Поэтому администраторша переводит взгляд на Кореноева и продолжает: – Но там есть один нюанс... – когда-то ей так понравилось это слово, один гость из Москвы говорил ей: "Нюванс", что она сама не заметила, как оно стало ее личным, мощным словом, – приехал один высокий человек из области на посевную и туда поселился. Обычно мы для них держим "люкс", но у нас кончилась вода, и он переехал к ним.
– Понятно, – сказал Кореноев, выжидательно глядя на нее.
– И он там сейчас живет один. А на праздники он, видимо, поедет домой, в Благовещенск.
Альберт перевел взгляд на Кореноева и с удовольствием отметил, что на того произвела впечатление тонкость поведения администраторши и человека из Благовещенска.
– Вспомнил! – сказал вдруг Альберт. – Ваша фамилия – Ксендзенская, звать Наташа. Вы в девятой школе учились.
Настала пора удивляться администраторше.
– Н-не помню... – сказала она, внимательно оглядев Альберта.
– Еще бы! Через двадцать с лишним лет! – воскликнул Альберт, почему-то радуясь происшедшим в нем переменам. – Я же двадцать вторую заканчивал! Альберт Тулупов!
– Тулупов... – повторила администраторша, постукивая шариковой ручкой по конторке. – Тулупов... С Мухинской?
– Конечно! А мои родители вышли на пенсию и переехали на запад! В Смоленск!
– Поменялись? – недоверчиво спросила Ксендзенская.
– Ну да! Пятнадцать лет назад.
– Прямой обмен?
– Нет. Сначала они поменялись на Чимкент, с одним корейцем. Потом переехали в Запорожье. А уже потом, десять лет назад, в Смоленск.
– Без доплаты? – Наташа никак не могла поверить Альберту. Как будто только после выяснения окончательных условий обмена можно будет при-знать и самого Альберта.
– Без, – Альберт был удивлен: как можно за Свободный еще и доплату требовать?
– А вы... – уже значительно внимательнее посмотрела на него администраторша.
– А я в Ленинграде живу. Это под Смоленском, – пошутил Альберт. – Ну, какое это имеет значение?! – вдруг с вырвавшимся рыданием воскликнул он, уже как бы имея право на рыдание, заслужив его для себя в глазах Кореноева тем, что – не самозванец какой-то, а действительно местный, признанный, имеющий биографию. И тут он вспомнил, что с этой Наташей он целовался после первого курса, у ее дома на Торговой, в июле, после дождя, во втором часу ночи, и он посмотрел на ее губы, теперь уже бледные... Она, видимо, также вспомнила этот случай и поджала их.
– Да, друзья, – насмешливо сказал Кореноев, – завидую вашей вечной молодости.
Альберт и на него внимательно посмотрел. И только сейчас понял действительно завидует! От самого Хабаровска люто, ненасытно завидует! Потому что не может уже сам, не получается!
– Слушай, Натали, – повернулся Альберт к Ксендзенской, стремительно возвышаясь с каждым мгновением над недавним Альбертом Тулуповым. Послушай-ка меня внимательно. Нет ли у тебя чего-нибудь выпить?
– Выпить? – переспросила Наташа, мгновенно понимая, как всякая женщина, происшедшую с Альбертом перемену. – Мы же закрылись. И ресторан не работает.
– Жаль. – Альберт облокотился о конторку и опустил глаза.
– Намеки у вас, Альберт, надо сказать, необыкновенно тонкие, – сказал Кореноев, нагибаясь за "дипломатом". – И откуда вам известно, что у меня здесь расположено, я не знаю, уважая вашу порядочность...
– Ребята, – сказал Альберт, неощутимо для себя выпив полстакана кореноевского коньяка, – мы же первое поколение в этом веке, которое нормально постарело. Натали, тебя это не касается. Нас оглушила тишина, и мы не успели как следует пожить.
– Разве можно так, – поморщился Кореноев. – Это же цыганщина – то, что вы говорите, Альберт.
– Если бы ты знала, Натали, – продолжал Альберт, – как я ненавидел этого человека. Я готов был задушить его и выкинуть из поезда на полном ходу, но предварительно – понимаешь? – предварительно убедив его в том, что все это серьезно. Да! Серьезно! – Альберт готов был снова прорыдать, поэтому сделал паузу. – Это богатое соболиное, черно-бурое пальто моей жизни! Любая минута безнадежности или тоски прожита в ней с полной ответственностью! Я никогда не сачковал. Не то что вы, Кореноев.
– Может быть, нам лучше сменить обстановку? – спросил Кореноев. Его, казалось, ничуть не тронуло перерождение Альберта. – Извините, Наташа, но вы напоминаете мне часового, которого забыли предупредить о ликвидации объекта.
В плаще, туго собранном на талии узлом пояса, в черной велюровой шляпе с большими полями, с алыми губами и черными точками зрачков серых глаз шла рядом с Кореноевым бывшая баскетболистка. Ах, если бы они оставались на расстоянии десяти метров! Этакая парочка из Европы.
Но нет. Альберт надел черные очки. Город Свободный немного умерил свою интенсивность. Альберт сам себя спрятал от него и теперь мог наблюдать перемены не так остро.
Улицы, по которым долго ездили и ходили, в особенности, когда их не ремонтировали все это время, еще более закрепились в его памяти. Там, в памяти, происходило сличение топографических карт. Когда же попадался деревянный тротуар, доска на этом тротуаре, которую помнила его нога с тех лет, восторг Альберта газифицировался и на какое-то время опьянял его.
Пока Кореноев и бывшая баскетболистка от своего разговора снисходительно-ласково разворачивали внимание к Альберту (а это произошло между десятью и семью метрами от него), у Альберта было достаточно времени, чтобы повздыхать, прилежно припомнить свою службу в армии, послеармейские тусклые годы в Ленинграде (лет, пожалуй, десять-двенадцать), обратить особое внимание на почву. Иногда кажется, что почва везде одна и та же. Какое заблуждение! Альберт мысленно встал на четвереньки и различил между поребриком и травой родной состав. Затем лег на поребрик, ощущая хрупкость позвоночника, и заглянул в небо. С появления на свет все это пронизывало и месило состав Альберта, все по-муравьиному стаскивало к нему одно и отбрасывало ненужное, он снова в этой мясорубке! Но уже другой. Другое все квасило его и ломало. И он не сопротивлялся. Кто внушил ему счастье несопротивления? Кто позвал не барахтаться?
Жизнь любила Альберта за это. Он знал.
– Можете меня бить, Альберт, – сказал Кореноев, перешагивая семиметровую черту, – но я обнаружил здесь "мерседес".
Еще один! Из прошлых лет!..
Альберт сидел в мягких кожах, черная полировка капота ломала дома и деревья до американского состояния. Рассказ Толика Рекалова, подруливающего в коричневых перчатках без пальцев совершенно автономно от личности Толика, развалившегося в печальной беседе, поразил Альберта больше даже, чем восстановление баскетболистки.
– Эх, друзья-товарищи! – гудел Толик. – Замучили меня местные вла-сти.
Пораженный Альберт запомнил эту историю. Вот она.
Толик Рекалов после школы никуда не направился, не улетел. Он начал жениться. В школе Альберт помнил его с взбитым коком, с плавными движениями. Стиляга. Приходил иногда к Альберту слушать "Ноктюрн Гарлем" на радиоле "Эстония". А оказалось, что он думал в это время совсем не о том, чтобы поразить кого-то своим коком или плавными движениями (тоже, кстати, играл в баскетбол за сборную школы, был запасным), а он уже тогда размышлял о будущих женитьбах! Он рано понял, что жениться надо в родном городе, не стоит тратить время на дальние поездки. И только служба в армии отвлекла его от этого занятия. Но ненадолго. На втором году службы он познал объятия кирпично-румяной доярки из соседнего совхоза, познал радости деревенского быта, ночных побегов в еженощные самоволки, постиг силу постоянного давления на командование. Пройдя через четыре гауптвахты, он воспитал подполковника, готовящегося к отставке, и окунулся в плотницкие, скотопригонные и угонные дела, даже расчистка навоза была ему по-хозяйски в радость. Ни один из последующих разводов не был для Толика так тягостен. Крики доярки, плач ее, мат, лепет, стоны... Он оставил ее с матерью возмужавшей, готовой к новым изменам со стороны солдат своей части.
Единственное, что кольнуло Альберта в его рассказе, было то, что, оказывается, и баскетболистка Наташа полгода, уже тридцатилетней, варила ему обеды и заворачивала в полиэтилен ужины, когда он шел в ночную смену, работая таксистом. И она!.. Мы не ревнуем абстрактно. Ревность к близким непереносима. К счастью, Толик был для Альберта лишь одноклассником.
Пик женитьб Толика пришелся на возраст от тридцати до тридцати семи. Он жил во всех концах Свободного. В это время его слава достигла апогея. Женщины как бы соревновались друг с другом – кто остановит его, рвущегося по краю с дыней мяча к заветной черте? Кто собьет с ног, перехватит чемпиона? Этой счастливицей оказалась учительница начальных классов, крупная женщина в роговых очках. Однако не ее женские достоинства были причиной ухода Толика с арены. Другая страсть накатила: он поставил теплицу. То ли вспомнилось армейское крестьянничанье, то ли прорезался в нем общественный азарт, но скоро учительница бросила третий класс "в", влезла в ватник и резиновые сапоги, взяла в руки вилы; сам Толик скупил все свободненское оконное стекло, подрядил бригаду армян, бригаду сантехников, начитался агрономической литературы и в марте 198... года вышел на свободненский рынок с огурцами.
Тогда-то и началась его борьба с местными властями. Бешенство этой борьбы нарастало еще и оттого, что Толик продавал огурцы всем по одной цене: пять рублей за килограмм. Чертог его теплицы сиял по ночам на улице Почтамтской, его счет в сберегательной кассе сиял для глаз местных властей пожаром контрреволюции. Тогда и был принят горсоветом необычайный указ: "Уволить таксиста А. Рекалова с запрещением ему в дальнейшем работать в государственных учреждениях г. Свободного".
Толик понимал, что этим указом он ставится вне закона. Но он понимал также, что спасти его может одно: непрерывное наращивание капитала. Чтобы только-только родилось обвинение в прокуратуре, как тут же оно должно перешибиться новым символом обогащения, чтобы у властей не хватало времени сварганить ему какое-то дело, не включив в него новое. Он летал в Хабаровск за японской аппаратурой, добывал мотоблоки и хрустальные люстры, упаковывал комнаты и веранду в ковры, начал возводить спортплощадки в микрорайоне, открыл счет для развития музея г. Свободного и, наконец, въехал в город с железнодорожной платформы в этом "мерседесе" с фотографией Дженнифер Лопес на ветровом стекле.
В машине воцарилось молчание.
– Можете меня бить даже ногами, Альберт, – сказал Кореноев. – Считаю свою иронию преступной.
– Но нет! – воскликнул Альберт. – Вы должны убедиться в том, что КСД лучшие в мире!.. Где мы их будем отсматривать? – властно спросил он у баскетболистки.
– Пожалуй, у стадиона "Локомотив"? А, Толик? – обратилась Ксендзенская к полуседому затылку Рекалова.
Тот кивнул.
"Мерседес" в это время нырнул под железную дорогу, баскетболистка вполголоса рассказывала Кореноеву о Малой Забайкальской ж. д., самой длинной в стране пионеров, – она осталась справа, – и они помчались к Суражевке, где должны были выйти у реки. Город возник здесь в 1912 году и назывался Алексеевск в честь несчастного сына последнего русского царя.
Так они стояли, четверо великолепных русских, на берегу обмелевшей Зеи. Наводнения намечались к концу лета, в сезон дождей. Слева был речной порт с желтыми кранами, нагружался техникой для золотых приисков и БАМа сухогруз. Сзади, поверх высокого серого забора страшным звездчатым пунктиром нависала над зоной колючая проволока. Альберту вдруг стало тошно, язва дала о себе знать давящим изнуряющим вступлением под диафрагму: он вспомнил славу города Свободного в тридцатые-пятидесятые. По слухам, здесь на пересылке были Заболоцкий, Гумилев, Флоренский, останавливался эшелон с Мандельштамом...
Какие КСД?.. Бог с ними...
– Я не люблю насилие, – вдруг заявила мисс Лопес. – Как вы можете, русские, терпеть насилие и беззаконие? Неужели вы не понимаете, что свобода даст вам возможность быть богатыми и независимыми? Что ваша сила не в том, чтобы сообща воровать и драться, а в другом сообща? В уборке улиц, например. Я слышала, что у вас в России на улицах бывают мертвые собаки. А кошкам ваши дети отрубают хвосты. И еще у вас убивают поэтов. Это просто паранойя! Поэты должны умирать от водки! Или от катастроф.
– Полный абзац, – сказал Боря по-русски. – Она мне напоминает Наташу Ростову.
НЕ ЖЕНЩИНЫ, А САТАНИНСКИЕ СТИХИ
Георгий Козлов, 45-летний драгер из поселка Октябрьский на Дальнем Востоке, стоял на углу Тверской и Тверского, у справочного киоска, не доходя до кафе "Лира". Была жаркая погода, уже к вечеру, часов шесть. Козлов только что поднялся из метро "Пушкинская", час назад прибыл на Ярослав-ский вокзал. Он вообще впервые в своей жизни приехал в Москву. В жизни своей на западе не был дальше Читы. А вот дети, дочь и сын, жили теперь в Москве. Дочь в институте вышла замуж за москвича, а сын работал здесь на стройке и жил в общежитии.
У Георгия умерла зимой жена, он как-то совсем растерялся, начал попивать. И соседи в поселке, можно сказать – силком, отправили его в отпуск к детям. Сейчас он стоял в Москве, далеко на запад от поселка, на углу Твер-ской и Тверского и не мог идти дальше.