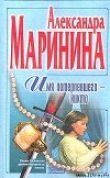Текст книги "Александр Посохов. "Всемогущий из С С С Р" (СИ)"
Автор книги: Александр Посохов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– А теперь, товарищи, позвольте перейти к радостному событию, – говорит парторг, ведущий собрание, пожилой мужчина пенсионного возраста с пышной седой шевелюрой. – За создание сквозных комсомольских бригад, – торжественно объявляет он, – и достижения в социалистическом соревновании комсомольская организация нашей фабрики награждается вымпелом Центрального комитета ВЛКСМ.
Раздаются громкие аплодисменты.
На сцену из первых рядов зала выходит Панкратов, но не по ступенькам с краю, а просто задорно запрыгивает на неё, что вызывает дополнительные аплодисменты. Из-за стола президиума в это время встаёт очень респектабельного вида специально прибывший из вышестоящего органа по такому случаю комсомольский работник, вручает Панкратову вымпел и тихо заговорщицким тоном говорит:
– Жду тебя в горкоме.
Квартира Маевских. На диване сидит Маевский, перед ним с угрюмым и озабоченным видом расхаживает Панкратов.
– Вот сегодня мне красивый вымпел ЦК вручили, – взволнованно говорит Панкратов. – А я не рад, Веня. Всё не то и не так. Все эти знамёна и грамоты совершенно оторваны от истинных проблем молодёжи. Вместо дела одни бумаги и показуха. Всё-таки дураки у власти пострашнее стихийного бедствия будут, от него хоть укрыться можно. А от них никуда не денешься. Я вот даже стишок такой по этому поводу сочинил, послушай. – И Панкратов читает:
Не бойтесь клопов и назойливых мух.
Не бойтесь худых и облезлых котят.
Пиявок не бойтесь и драных старух,
Которым по виду за сто пятьдесят.
Не бойтесь морозов, метелей и бурь.
Крапивы не бойтесь и даже волков.
Нигде ничего нет страшнее, чем дурь
У власти поставленных дураков.
Прочитав это, Панкратов тут же добавляет, – А можно и так ещё в конце:
Не бойтесь в помойку руками залезть.
Крапивы не бойтесь и даже волков.
Нигде ничего нет страшнее, чем спесь
Высокопоставленных дураков.
– Мой отец тоже как бы у власти и тоже не низко поставлен, – выслушав Панкратова, замечает Маевский. – Но ты ведь его не считаешь дураком спесивым.
– То-то и оно, что нет, – соглашается Панкратов. – И многие другие партийные чиновники очень даже не дураки, и сами по себе в отдельности вполне приличные люди. А все вместе бюрократы и демагоги. И я с ними. Вот в чём феномен! – всё более возбуждаясь, продолжает Панкратов. – Девки пашут в три смены, а я, здоровый мужик, какой-то ахинеей и словоблудием занимаюсь. Умом понимаю, что так заведено, такая идеология, такая политика, короче, так надо, в том числе для себя, для карьеры, а душа протестует. Последнее время сам себя постоянно спрашиваю, в кого же ты превращаешься, Панкрат? Ещё пару лет такой деятельности и всё, тебя нет, ты очередной законченный бюрократ, чинуша безликая. А я не хочу этого, Веня! Я настоящим, живым делом хочу заниматься, чтобы общество наше вперёд и вверх продвигалось. Я пользу хочу народу своему приносить, служить ему верой и правдой. Другие не могут, а я могу, потому что ум и силу имею. Но на Москву в этом смысле надежды нет, она сгнила окончательно, я же всё вижу. Для перемен к лучшему в Москве нет почвы, опереться не на кого. На Урал возвращаться надо, там узел и средоточие всех проблем. Там ещё остались нормальные люди, которых можно поднять на борьбу против существующего режима, за свободу и торжество разума. Так жить, как живёт сейчас наш народ, нельзя, Веня!
– Ты вот опять о свободе, Саша, а что она для тебя? – спрашивает Маевский. – Ты ведь мне так ни разу и не объяснил, хотя часто ссылаешься на её отсутствие.
– Свобода, – уверенно отвечает Панкратов, – это возможность наказывать тех, кто ведёт себя не по уставу, вплоть до полной изоляции от общества. По какому такому уставу, спросишь. Объясняю. По уставу, принятому умными и честными людьми, которые понимают, что ум должен быть свободным от любой идеологии, а поведение должно быть зависимым от ума, совести и справедливости. Руководящей и направляющей силой общества должна быть не коммунистическая или какая-нибудь другая идеологическая партия, а партия свободы, ума и морали. Ты спросишь, а кто будет определять, умный ты или честный. Отвечу. А никто персонально. Просто один раз волевым решением надо выстроить государственную систему так, чтобы наверх, к власти и деньгам, поднимались исключительно люди умные и честные. И заковать такую систему в незыблемую железобетонную глыбу на века, чтобы поколений десять в ней воспиталось. Вот в этом смысле и в таком контексте закостенелость я признаю. И чтобы, главное, навсегда извести бездельников. Иначе капут человечеству. Моё самое глубокое убеждение заключается в том, что в конце концов человечество погубят те его представители, которые сами ничего не делают и живут за счёт других. Безработицы у нас нет, а ты посмотри, сколько у нас разного рода тунеядцев, толку от которых обществу никакого. И страшно то, что их в настоящее время становиться всё больше и больше. Жрут, пьют, крышу над головой имеют, советское государство их защищает, а они взамен ничего ему не дают. Это не люди, а крысы какие-то в людском обличии, безудержно захватывающие наши города и сёла. Какой-то хмырь и шалопай, ничего не делает и не хочет делать, эгоист и лентяй, тупой и необразованный обормот с преступными наклонностями, а меня призывают уважать его и воспитывать в нём нового человека. Да с какой это стати! Палкой хорошей ему дать по хребту и, как миленький, заработает. Хочешь жить в нормальном государстве, спокойно ходить по красивым улицам, покупать всё в магазинах, растить здоровых детей и так далее, тогда иди и работай, участвуй в улучшении жизни вокруг. Не нравиться вкалывать на заводе, учись, становись, кем хочешь. Только работай, живи достойно. Каждый трудоспособный член общества обязан кормить сам себя на им самим же добросовестно заработанные деньги. По природе тот, кто может, но не желает честно работать, а всё хитрит, обманывает, злоупотребляет справедливыми социалистическими законами и радуется тому, как он ловко устроился, оставляя свою страну и других людей в дураках, тот подлежит жесточайшему изгнанию из общества. Всё должно быть так, чтобы бездельники были обречены на вымирание. И чтобы никто и никогда не смог бы жить за счёт другого человека. Это закон жизни. Надо каждого проверять, на что он живёт, откуда он берёт средства к существованию. Молодой, здоровый, сильный и ничего полезного для общества не делает, значит, к ногтю его. Давить таких надо. В противном случае либо все всегда будут жить средненько, так себе, как мы все здесь сейчас живём, терпеливо довольствуясь лишь самым необходимым, либо одна малая часть населения будет жить хорошо за счёт другой части, как там, на Западе. Чтобы такого не было, надо срочно начать исправлять ситуацию. Неправильно, когда политика государства продолжает формально находиться под диктатом идеи о всеобщей свободе, а всеобщий контроль за исполнением гражданских обязанностей практически исчез. В идеологическом смысле свобода нужна нам, как воздух. Но на гербе, на знамени и ещё, где угодно, надо записать – свобода во всём, кроме обязанности работать на благо общества. Если большинство не будет работать или будет работать плохо, или одни будут просто отбирать хлеб у других, воровать, грабить, то жизнь станет невыносимой и государство развалится. Сознательное меньшинство страну не удержит, дураки и бездельники её раздавят. Мне что противно, Веня. То, что у нас на деле сейчас ни реальной свободы, ни результативной работы. Конституция есть, а свободы нет. Пятилетки объявляются, планы как всегда грандиозные, а, например, половина москвичей ничего не делают. Чаи гоняют в конторах разных и дефицитом приторговывают. Вот я и говорю, пора уже всем нам выкарабкаться из грязных революционных пелёнок полувековой давности и освободиться, наконец, от порочной практики управления страной, когда умными, способными и приличными людьми правит невежественное, неблагодарное и ленивое большинство. Ну, сколько можно не очень-то сейчас уже и стройными рядами шествовать к какой-то фантастической цели, полностью игнорируя по пути обычное житейское благоразумие. С безликим и серым арифметическим большинством коммунизм не построишь. И хватит морочить людям головы. А, если уж и отнимать у них свободу, то только в том, что не вписывается в исторически справедливое устройство общественно-политической жизни. Свободу в человеческом обществе обеспечивает не диктатура господствующего класса, а диктатура ума, совести, справедливости и ответственности. Такой свободы у нас нет. А я только за такую свободу. Нельзя допускать больше, чтобы свою диктатуру устанавливали то богатые подлецы, то злые бедняки. Вот, как хочешь, так и понимай это, Веня.
– Ох, дружище, – вздыхает Маевский. – Ты оратор, конечно, спору нет. И говоришь убедительно. Но сдаётся мне, что тебе не за свободу, непонятно какую, бороться надо и не о народе, непонятно каком, думать. А надо, например, в девчонку хорошую влюбиться, благо на твоей фабрике есть из кого выбирать, жениться на ней, детей нарожать и жить, как все живут, приспосабливаясь к обстановке. В плане обычной человеческой жизни ты как индивидуум и так свободен. Живи и люби, вот и вся премудрость, Саша. Чего ты заковал-то себя в эти вечные рассуждения о справедливом общественном устройстве. Тебе от самого себя, такого вот беспокойного мыслителя о свободе, освободиться надо. Пока ты только внутренне конфликтуешь с существующим строем. Однако, если ты не изменишь в принципе своего отношения к происходящему вокруг тебя, то рано или поздно неизбежно вступишь в противостояние с властью. А чем это у нас заканчивается, все хорошо знают. Угодить в психушку – это ещё не самая печальная и страшная перспектива. Жизнь у человека одна. Потрать ты свою избыточную энергию на себя, на близких, на творчество, на увлечения, на путешествия, в конце концов. Больше позитива, друг мой!
Панкратов прекращает ходить по комнате и садится на диван рядом с Маевским.
– Может, ты и прав, Веня, – говорит он. – Я очень благодарен и тебе и твоему отцу. Но постарайся понять, не могу я постоянно приспосабливаться и лицемерить. Душа не приемлет почти всё, что вижу вокруг. Весь день как в маске хожу или роль какую играю, говорю не то, делаю не то. Слушаю серьёзно, когда ржать охота над элементарной тупостью и безграмотностью. Улыбаюсь, когда не смешно, руку жму, когда в морду дать охота. Сижу на разных собраниях и не понимаю, кому нужны эти скучные сборища. Нет, Веня, не как физический индивидуум, а как ответственный гражданин, я несвободен в таком государстве. И все несвободны. А, значит, практически всё равно кому-то что-то делать надо, чтобы изменить жизнь к лучшему. И я буду это делать. Позитивы с негативами тут ни при чём. Ты думаешь, я не могу жить так, как ты советуешь. Могу, Веня, я всё могу.
– Да я давно уже понял, что ты всемогущий, – добродушно улыбаясь, говорит Маевский.
– А ты зря хихикаешь, Веня, – продолжает Панкратов. – Мне ещё в детстве хорошо разъяснили, чью фамилию я ношу и что она означает. И имя у меня с определённой общественной обязанностью. И отчество опасное, колючее. Но это так, между прочим. А что касается женитьбы, на что, кстати, и мать моя давно намекает, то до этого мне ещё с одной особой разобраться надо, которая когда-то отвернулась от меня из-за того только, что я не по своей воле рабочим стал. Одним словом, предала она меня. А мы дружили с ней с третьего класса, и я любил её. И сейчас люблю.
Административное здание швейной фабрики, длинный коридор с кабинетами. Панкратов заходит в один из них. По вывеске на стене, рядом с дверью, видно, что это партком.
– Проходи, садись, – встречает Панкратова секретарь парткома.
Панкратов садится за стол напротив секретаря.
– Признавайся, тебе известно, что горком комсомола на тебя виды имеет?
– Впервые слышу, – отвечает Панкратов.
– Так и знал, – говорит секретарь. – Такая вот у них манера кадры себе подбирать. Мнение самого человека их не волнует. И со мной не посоветовались. В общем, забирают тебя от нас. Вопрос решённый. Жаль, конечно, мы тут все к тебе очень привыкли. На моей памяти таких секретарей у нас не было. За три года ты столько полезного для фабрики сделал.
– Да ладно вам, Сергей Сергеевич, не выдумывайте, – искренне возражает Панкратов. – Ничего выдающегося я не совершил.
– Кончай скромничать. Порядок во всём навёл, девчонки заработали лучше, получать стали больше, многие учиться пошли, самодеятельность возродилась, свой театр вон создали, спорт на подъёме, стадион отремонтировали, в общежитии ссоры и выпивки прекратились. Естественно, как такого работника к себе не забрать. Они же всё знают, Саша. Ещё говорят, что это большая честь для нашего предприятия, что тебя сразу в горком пригласили. Но, чтобы оформиться туда без проблем, поступила команда срочно кандидатом в КПСС тебя принять, пока ты проходишь как рабочий. По рабочим нет лимита на приём в партию, понял?
– Понял, – отвечает Панкратов. – А что для этого нужно?
Секретарь парткома подсовывает Панкратову чистые листы бумаги.
– Пиши заявление и автобиографию. А рекомендации мы с директором тебе дадим.
Глава 5.
Середина семидесятых
Московский горком ВЛКСМ. Кабинет того самого ответственного работника, что вручал Панкратову вымпел.
– Я, как завотделом, обязан заботиться о своих сотрудниках, – говорит хозяин кабинета сидящему напротив него Панкратову. – Надо не только вкалывать, отдыхать тоже надо. Сколько ты у нас уже работаешь, Александр?
– Почти год уже, – отвечает Панкратов.
– И зарекомендовал ты себя, надо признать, с самой положительной стороны. Поэтому в качестве поощрения мы предлагаем тебе, в счёт отпуска, разумеется, съездить во Францию по линии "Спутника". Группу уже набрали, но есть ещё одна путёвка. Для своих берегли. Через неделю выезд, так что срочно оформляй документы.
– Спасибо, – благодарит Панкратов своего начальника и уходит.
Панкратов в горкоме комсомола, сидит за своим столом в большом помещении, где работают ещё несколько сотрудников. Панкратов заполняет анкету выезжающего за границу. В графе, где требуется указать сведения об отце, он кратко записывает – «Умер». Закончив с бумагами, Панкратов звонит Маевскому и радостно сообщает:
– Привет, Веня, я это. Через неделю во Францию еду. Представляешь, я в Париже!
Несколько дней спустя встреча в горкоме ВЛКСМ. В кабинете те же – заведующий отделом комсомольских организаций и Панкратов.
– Вот что я должен сказать тебе, Панкратов, – с озабоченным видом, не глядя прямо на своего подчинённого, говорит завотделом. – Тебя в горком партии вызывают.
– Зачем и к кому конкретно? – спрашивает Панкратов.
– Зачем не знаю, – уклончиво отвечает завотделом. – А явиться ты должен сегодня в четыре на заседание бюро партийной организации горкома. Такое вот оттуда распоряжение поступило. А тебе не хуже меня известно, что мы всё должны делать в соответствии с их решениями.
Московский горком КПСС. Идёт заседание бюро партийной организации горкома. Просторное помещение с большим портретом Ленина, за длинным столом в один ряд сидят семь человек. Перед столом напротив стоит Панкратов. Выступает мужчина в очках, сидящий за столом посередине, секретарь партийной организации, ответственный работник горкома партии. В руках у него страницы каких-то документов. Но не совсем понятно, то ли он говорит по заранее заготовленному тексту, то ли своими словами.
– Предоставив недостоверные сведения о своём отце, товарищ Панкратов опозорил перед соответствующими службами ЦК и КГБ наши партийные и комсомольские организации, а также аппараты обоих московских горкомов. При подаче заявления о приёме кандидатом в члены КПСС и при заполнении анкеты выезжающего за рубеж товарищ Панкратов не признался, что отец его не просто умер, а как особо опасный рецидивист приговорён к расстрелу. Товарищ Панкратов в автобиографии обязан был дословно указать, что его отец расстрелян, как и в анкете в связи с выездом за границу, при проверке которой и был выявлен этот гнусный обман. Ваш проступок, товарищ Панкратов, – и выступающий, сдвинув очки на нос, переводит взгляд на Панкратова, – мы уже тут на бюро партийной организации предварительно обсудили и единогласно решили: в связи с обманом партии, а также в связи с тем, что органами госбезопасности выезд за границу вам запрещён, в приёме в партию из кандидатов в члены вам отказать, из горкома комсомола уволить. Об этом решении вашим комсомольским руководителям уже доложено.
– Извините меня, – с обескураженным видом и с трудом подбирая слова, начинает объяснять Панкратов. – Но, если всё это из-за отца, то я ведь его почти не помню. Мне было всего тринадцать лет, когда отца последний раз арестовали. До этого я его вообще не знал. По рассказам матери он появлялся на месяц не более и снова исчезал. За что отца расстреляли и когда точно, я тоже не знаю. Знаю только, что матери когда-то выдали свидетельство о его смерти, в котором ничего о расстреле не сказано. Там просто записано, что отец умер, и всё.
По лицам и позам членов бюро видно, что взволнованные объяснения Панкратова на них никак не подействовали и не вызвали никакого интереса или сочувствия.
– Мне что, повторить тебе решение бюро? – жёстко, перейдя вдруг бесцеремонно на "ты", спрашивает председательствующий. – Ты радуйся тому, что у тебя такой защитник нашёлся, товарищ Маевский, по просьбе которого мы и решили уволить тебя как бы по собственному желанию и не сообщать об этом в институт. Какой ты будущий юрист, если врёшь!
– А что я соврал? – с удивлением спрашивает Панкратов. – Со слов матери мне известно, что отец умер, а больше я не обязан ничего знать. Кому надлежит знать об этом, тот пусть и знает. И о каком-то расстреле я тоже знаю только со слов матери. Официально же и конкретно мне никто ничего о моём отце не сообщал, и никакими достоверными сведениями о нём я не располагаю. Но и отрекаться от него я никогда не собирался и не собираюсь, так как ничего о нём не знаю, да и знал бы что-то плохое, всё равно не отрёкся бы. Просто он мой отец и всё. Формально для меня он умер. Я был ребёнком, мне сказали, что он умер, я так и считаю всю жизнь. Не понимаю, почему я сам должен открыто, да ещё в письменной форме, распространяться о том, что мой отец не просто умер, а точно расстрелян. Мне что, кто-то вручал приговоры или акты какие-то об этом. А если он не расстрелян, откуда я знаю. Так в чём вы меня обвиняете и за что наказываете? И при чём здесь КГБ?
– Мы что тебе всё объяснять должны? – не скрывая раздражения, спрашивает ведущий заседание.
– А почему я должен из горкома уйти, разве я плохо работаю? – не унимается Панкратов, но в голосе его уже не чувствуется недоумения и растерянности, а скорее уверенность в своей правоте и взволнованное негодование. – И почему с оружием в армии за границей мне служить доверили, даже особый отдел поручения давал, а поехать в другую страну мирным туристом не доверяют? Хотя я сто раз мог бы сбежать из ГДР на Запад. А если бы я не согласился поехать во Францию, то ничего бы не вскрылось, и всё было бы в порядке? И вообще, в чём собственно проблема, в чём меня подозревают, я ведь весь на виду?
Заметно, что эти вопросы и непочтительное упрямство Панкратова только ещё больше разозлили партийных работников.
– Хватит притворяться, будто ты не знаешь, что отец у тебя настоящий уголовный элемент, вор в законе! – срывается на крик один из участников заседания.
– Да, я слышал об этом от других, но даже не представляю толком, что это такое, – тоже заметно повысив голос, признаётся Панкратов. – И что, именно так, вор в законе, расстрелян, и надо было записать в автобиографии и в анкете для всеобщего обозрения?
Вместо ответа председательствующий указывает ему на дверь.
– Свободен! – резко говорит он. – Ты ещё издеваться тут будешь над нами, голос тут будешь повышать. Можешь катиться отсюда на все четыре стороны и больше в партийные и советские органы не суйся.
Но Панкратов не уходит и продолжает упорно демонстрировать своё возмущение и категорическое несогласие с таким отношением к себе.
– А как же положение о том, что у нас сын за отца не отвечает?
– Об этом положении ты своей матери расскажи, – властным тоном советует Панкратову единственная присутствующая на заседании женщина.
После таких слов Панкратов молча поворачивается к выходу и удаляется.
Панкратов с дорожной сумкой на перроне Казанского вокзала. За спиной у него вагон поезда с табличкой «Урал. Свердловск-Москва». Как в день прибытия в Москву, он смотрит на всё сразу перед собой и тихо вслух произносит:
– Ладно, пока прощай. Но жди, я обязательно вернусь. Никто никуда от меня не денется.
Панкратов в Свердловске, в том же своём двухэтажном обшарпанном доме, в той же малометражной квартире, из окон которой видны те же сараи. Он сидит за столом, перед ним очень старая чёрного цвета с потёртыми кнопками пишущая машинка. Панкратов закладывает чистый лист бумаги и печатает по центру большими буквами слово – УСТАВ, под ним также большими буквами – СОЮЗА РАДИ СВОБОДЫ.
Другая квартира в Свердловске, просторная, светлая, добротно обставленная. В квартире Панкратов и Таня – статная, холёная молодая женщина с тонкими чертами лица.
– А как ты номер моего телефона узнал? – спрашивает Таня, доставая из шкафчика бокалы для вина. В ответ Панкратов пожимает плечами, показывая как бы, что это просто и не составляет никакого труда. – Я очень рада, что ты меня нашёл, – продолжает Таня. – А тебя не узнать, ты очень изменился.
– В лучшую или в худшую сторону? – спрашивает Панкратов.
– Да ты всегда хорошо выглядел, – отвечает Таня. – А сейчас вообще обалденно. Роскошный мужик, такими не разбрасываются. Посмотри на свои ручищи. Приодеть бы тебя ещё. Ну, что давай выпьем за встречу, открывай.
Панкратов откупоривает бутылку шампанского. После первого выпитого бокала Таня приближается к Панкратову и предлагает:
– Давай поцелуемся, что ли. Очень давно знаем друг друга, а сделаем это в первый раз.
Панкратов и Таня целуются, не сдерживая себя, страстно и долго.
– Между прочим, – с трудом выбравшись из объятий Панкратова, игриво предупреждает Таня, – муж сегодня может вернуться домой раньше. А тайное свидание должно быть оправданным.
Легко и без видимых колебаний Таня отдаётся Панкратову...
Таня, с растрёпанными волосами, в лёгком халатике, и Панкратов прощаются у дверей в прихожей.
– Ну и медведь же ты, измял меня всю, – с одобрительными и шаловливыми нотками в голосе говорит Таня. – Но я довольна и не протестую. Поэтому встречаться будем, когда захочешь и когда я смогу. Согласен?
– Надо подумать, – уклончиво отвечает Панкратов.
– Не ломайся, тебе это не идёт, – говорит Таня и чмокает Панкратова в щёку. – Завтра обязательно позвони, и я скажу, где, дома у меня больше нельзя. Я сама всё организую. – И перед тем, как закрыть за Панкратовым дверь, предупреждает, – Если не позвонишь, я обижусь и могу снова надолго потеряться для тебя.
Панкратов уходит. Выйдя из подъезда на улицу, он смачно сплёвывает, будто что-то горькое, приведшее к першащему послевкусию, побывало у него во рту, вытирает губы и вслух произносит:
– Да куда ты денешься.
Панкратов приходит домой.
– Мам! – зовёт он прямо с порога, снимая ботинки. Из кухни выходит мать Панкратова и внимательно смотрит на сына. Панкратов достаёт из кармана бутылку водки. – Я выпить хочу, разогрей там борща побольше.
– Хм, интересно, – произносит мать, принимая бутылку.
Панкратов на кухне из тумбочки достаёт гранёный стакан и садится тут же на табурет.
– Рюмку возьми, – советует мать и, продолжая с нескрываемым удивлением и любопытством наблюдать за сыном, спрашивает. – В честь чего выпивка-то, ты же совсем не пьёшь?
– В честь победы, – отвечает Панкратов. – Поэтому я и хочу, как когда-то в одном месте, выпить именно из стакана.
– В каком ещё месте и какая победа? – спрашивает мать.
– Долго рассказывать, – отнекивается от объяснений Панкратов, открывает бутылку, наливает полный стакан и провозглашает. – За долгожданную и убедительную победу! – А, выпив, не морщась, большими глотками, добавляет. – Хотя, признаюсь тебе, не очень радостной оказалась эта победа, с разочарованием. Тускло и вяло всё, без вдохновения.
– Опять что-то нехорошее случилось? – вздыхает мать.
– Ровным счётом ничего плохого, – выказывая явное умиротворение, отвечает Панкратов. – Наоборот, всё очень хорошо, только слишком естественно и обыденно. Успокойся, мамочка, никого кроме тебя я больше не люблю, – При этом он наливает ещё стакан водки. – За тебя, будь здорова! Лучше тебя никого нет.
– Ты особо-то не увлекайся, – предостерегающе советует мать. – Если что не так, эта гадость всё равно не поможет.
– Ты права, как всегда, – соглашается Панкратов и убирает немного недопитую бутылку в шкафчик над столом. – Но, понимаешь, когда душа не на месте, то надо иногда, наверно, и выпить немного.
– А почему она у тебя не на месте? – спрашивает мать.
– Потому, мама, что умных и смелых людей рядом нет, – отвечает Панкратов. – И потому, что не так всё устроено в этом мире, грязь и серость кругом. Смотришь на всё, и душа ноет. Вот послушай, какой я на днях стих сочинил. – И Панкратов читает:
Расхворалась душа моя бедная,
Что-то шибко ей враз нездоровится,
На глазах прямо жалкой становится.
Кабы хворь-то была ненаследная,
То ещё мог бы ждать излечения
И на долю надеяться славную.
Ведь душа – это всё-таки главное.
А коль выпало ей назначение
Захиреть в недовольстве безропотном,
Вместо кваса вино попиваючи,
Сам добью её, только не знаючи,
Проживу ль без души век свой хлопотный.
– О, господи! – сокрушается мать. – А повеселее ты ничего сочинить не мог? Да и не стихотворение это вовсе, а чёрт-те что – как попало зарифмованное и никому не нужное выражение своего плохого настроения. Я всё-таки в библиотеке работаю, разбираюсь маленько. При этом никаких особых причин у тебя для такого настроения нет. Ты же не старик девяностолетний, больной и немощный, к постели прикованный.
– Согласен, мама, – говорит Панкратов. – Мура полная, просто мрачные мысли и отчаянный крик души. При этом я сам уже не понимаю, чего она, душа моя, бесится, чего хочет.
– Да что ты так о душе-то своей печёшься, – перебивает его мать. – У тебя одного душа, что ли, есть. Но никто ведь так не изводит себя, чтобы угодить ей.
– А зачем жить тогда, мама, если не думать о душе в первую очередь?
– Эх, сынок, смотрю я на тебя и вижу, делать тебе нечего. У тебя диплом юриста, а работаешь ты каким-то электриком в гастрономе, да ещё на полставки. Почти ничего не зарабатываешь, хотя тебе уже скоро двадцать семь лет исполнится. Займись ты, наконец, полезным делом.
– Пока мне так удобнее, – объясняет Панкратов. – Больше свободного времени и меньше на виду. Никто не интересуется моей персоной.
– Ну, а вот зачем тебе свободное время, скажи на милость?
– Чтобы интеллектуальную революцию в стране совершить, – отвечает изрядно захмелевший уже Панкратов.
– Так для этого перегоревшие лампочки в магазине менять надо, что ли?
– Ну, ты даёшь, мамочка, – возмущается в ответ Панкратов. – Темнота! Если не понимаешь, не смейся. Просто хватит всем жить по-дурацки.
– А чего тут понимать, – улыбается мать. – И так видно, что ты сам дурью маешься. Какие-то подозрительные субъекты к тебе ходят, о чём-то шушукаетесь допоздна без толку. Лучше бы в театр или в кино сходил. Жил бы нормально, как все живут. Полюбил бы кого-нибудь, что ли. Вон, девушек вокруг сколько.
– Это не субъекты, а члены новой партии, партии умных, – не обращая внимания на последние слова матери, уточняет Панкратов. – А стремление к свободе по своему определению уже не может быть глупым.
– Знаешь что, – завершает разговор мать, выходя из кухни. – Ложись-ка ты лучше спать. А жизнь сама покажет, кто умный, а кто дурак.
Панкратов у себя дома, в своей комнате, проводит заседание Союза ради свободы. Участвуют человек десять молодых людей. Панкратов раздаёт всем документы – Устав Союза и «Обращение к гражданам СССР».
– Давайте договоримся, что главные цели Союза до наступления соответствующих условий в стране по соображениям конспирации остаются пока только в наших головах, – говорит всем Панкратов. – А на деле для успешного достижения этих целей в будущем занимаемся сейчас лишь тем, что записано в Уставе: просветительская работа среди населения, пропаганда идей свободы и демократии, повышение гражданской активности и объединение противников диктатуры КПСС. Что касается организационной работы и структуры Союза, то прошу внимательно ознакомиться с Уставом и быть готовыми на следующем заседании сформировать руководящие органы. От должности президента, если доверите, я не откажусь. А сегодня поручение ко всем такое. Надо каждому распечатать Обращение в количестве пяти экземпляров и как бы случайно по экземпляру оставить на видных местах, где обычно собирается много людей. В исполкомах, например, в домоуправлениях, в поликлиниках, в сберкассах, в учебных заведениях, на почтамте. Понятно? – Почти все присутствующие в знак одобрения и согласия кивают головами. – А далее в моих планах закончить составление программы Союза и написать серию статей на самые актуальные политические темы. Две статьи уже готовы, надо их только ещё немного подредактировать и тоже можно будет распространять.
Участники заседания тихонько и дружно расходятся. Панкратов провожает их до порога, затем возвращается в свою комнату, складывает все документы в небольшой дорожный чемодан, заполненный ещё какими-то бумагами, и заталкивает его под кровать.
Утром Панкратов собирается на работу.
– Опять ты вчера кого-то собирал, – выговаривает ему мать. – А потом опять почти всю ночь писал что-то. Господи, Саша, сынок, найди ты себе дело по душе и не занимайся ерундой всякой.
– Как раз по душе я и нашёл себе дело, – говорит Панкратов.
– О-ох, – грустно вздыхает мать. – Чует моё сердце, добром это не кончится.
В это время раздаётся стук в квартиру. Панкратов открывает двери и видит перед собой молодого милиционера в звании лейтенанта.
– Здравия желаю! – говорит милиционер и представляется. – Я ваш новый участковый. А вы Панкратов Александр Николаевич?
– Так точно, – отвечает Панкратов.
– Вам повестка, – и участковый передаёт Панкратову повестку.
Панкратов, не закрывая двери, читает вслух – "явиться в районный отдел милиции к заместителю начальника, кабинет номер два" и спрашивает:
– А по какому вопросу, в качестве кого и когда?
– Не могу знать, – отвечает участковый. – А явиться вы можете в удобное для вас время, так и приказали передать.