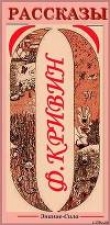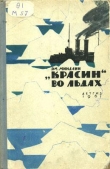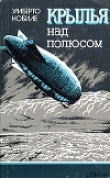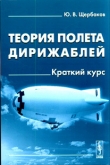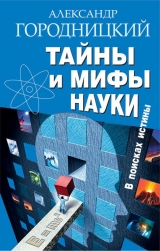
Текст книги "Тайны и мифы науки. В поисках истины"
Автор книги: Александр Городницкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Когда взорвется Черное море?
Когда смотришь на географическую карту нашей планеты, то легко заметить, что особую группу морей образуют так называемые внутренние моря, отрезанные сушей от открытого океана. На фоне таких внутренних морей, например Балтийского, Черное море самое изолированное. С ним могут сравниться только моря, ставшие озерами, такие, к примеру, как Каспийское. Почему так получилось?
Как показывают реконструкции океанов и континентов в палеозое и мезозое, около 130 миллионов лет назад огромный палеоокеан Тетис начал закрываться из-за того, что южные континенты, дрейфуя, начали сближаться с северными. Где-то около 36 миллионов лет назад произошло столкновение континентов. Африка ударилась о Евразию, и на линии их столкновения возникли огромные горные хребты, образующие альпийскую систему, которая тянется от Пиренеев на западе до Памира и Кунь-Луня на востоке. На месте закрывшегося Тетиса сформировались самые высокие в мире горы. От огромного когда-то океана остались три изолированных моря: Средиземное, Черное и Каспийское, отрезанное от Черного Кавказским хребтом и превратившееся в озеро. Само Черное море, отделенное от Средиземного высоким Босфорским порогом, тоже стало изолированным. Отсюда и пошли все его неприятности и беды.
Черное море – самый большой в мире морской бассейн, где вся жизнь сосредоточена только в верхнем слое воды – не глубже 120-170 метров от поверхности. Все, что ниже, заполнено сероводородом, где практически мертвая зона, если не считать анаэробных бактерий. Сероводород – это газ, который образуется в результате различных процессов, в основном гниения. В этой среде не может жить никто, кроме отравления, она ничего не дает. Сероводородный гидрат в Черном море имеет природное происхождение: он появился в результате многовекового выноса впадающими в море огромными реками, такими, как Днепр, Дунай, Днестр, Дон, большого количества разнообразной органики, которая попадает сюда как в ловушку.
Дело в том, что перемешивание водных масс в Черном море крайне замедленно. Для того чтобы частице воды достичь поверхности, требуется не менее 130-150 лет. Там, где застой, сразу же начинаются процессы гниения, сопровождающиеся образованием гнилостных бактерий и разложением органического вещества, и это один из источников появления в море сероводорода. Само органическое вещество берется от тех микроскопических организмов, которые живут в верхней кислородной зоне Черного моря. Организмы эти имеют свой жизненный цикл и, отмирая, оседают на дно. Этот процесс иногда называют дождем трупов.
В 1960-х годах мне довелось работать на Черном море на научно-исследовательском судне «Московский университет», и мы с коллегами обратили внимание, что в верхней части водной толщи очень высок процент содержания планктона и фитопланктона. Когда фитопланктон живой, он заряжен отрицательно, когда он умирает, то образует положительные заряды. Дождь трупов является источником нового вида электрических полей – биоэлектрического поля водной толщи. В последние годы многие ученые предполагают, что увеличение дождя трупов в связи с увеличением общего содержания планктона в верхнем слое воды может привести к утонению оставшегося слоя чистой воды и даже к выбросам сероводорода на поверхность.
Предпосылкой для существования и возникновения сероводородного слоя в водных бассейнах, где имеется сероводород, является плотностная стратификация вод. Воды, находящиеся внизу, более плотные или более соленые, поэтому они тяжелее, чем воды, находящиеся наверху. В Черном море концентрация солей в верхнем слое составляет где-то 1,8 %, внизу у дна – не менее 2,2 %. Из-за этой существенной разницы воды очень плохо перемешиваются. Не исключено, что за счет сильного загрязнения и лишнего органического вещества процессы, приводящие к образованию сероводорода на дне, могут привести к его активному росту и даже выбросам на поверхность. Доктор технических наук, профессор Игорь Чумак (1930-2007) из Одесской государственной академии холода считал, что в Одесском заливе такие выбросы бывают каждый раз, когда дует ветер с севера и северо-запада, уносящий поверхностный слой воды и вызывающий подъем сероводородных вод из глубины. Во время этого явления вода приобретает серо-голубой цвет и сероводородный запах. По мнению ученого, если долго находиться на берегу, можно получить отравление. Но так ли это на самом деле?
В мире известны случаи, когда сероводородное загрязнение воды имеет более катастрофический характер, чем в Одессе. Так, ситуация, аналогичная черноморской, сложилась в Атлантическом океане у западного побережья Африки в заливе Уолфиш-Бей. Там тоже в случае сгонных ветров, как правило, обнажаются нижние слои воды, обогащенные сероводородом, и так же, как в Черном море, чернеют предметы. Причем лежащие не только на дне под водой, но и на ближнем берегу. При этом пока никто не отмечал никаких признаков сероводородного отравления.
Однако сероводород – не единственная проблема Черного моря. Не меньшая проблема – большой запас газгидратов метана, которые расположены на глубинах более 300-400 метров. Когда в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года произошло самое сильное землетрясение на территории Крыма и Украины (наиболее мощные толчки достигали 8 баллов по шкале Рихтера), оно сопровождалось появлением огня в море. Свидетели видели огненную вспышку высотой до полукилометра и шириной около одной морской мили. В Севастополе также наблюдалась вспышка высотой более 500 метров и шириной в полторы морской мили. Согласно современной версии Ялтинское землетрясение спровоцировало выход из глубин к поверхности моря и самовозгорание огромного количества горючего газа, скорее всего газгидратов метана, выброшенных при подвижках черноморского дна во время землетрясения.
Столь грандиозная катастрофа наверняка бы вдохновила певца Черного моря – всемирно известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Именно на его берегу, живя в Феодосии, он создал свои лучшие картины, из которых, безусловно, самая знаменитая «Девятый вал». На полотне, завораживающим своей красотой, гигантская волна готова обрушиться на обломки судна и оставшихся в живых после кораблекрушения людей. Это грандиозное зрелище завораживает от страха и красоты.
С газгидратами некоторые ученые связывают так называемый эффект черной дыры, имеющий прямое отношение к таинственному исчезновению кораблей в печально известном знаменитом Бермудском треугольнике, который находится в Северной Атлантике, между Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и полуостровом Флорида. По мнению доктора технических наук, профессора Леонарда Федоровича Смирнова из Одесской государственной академии холода, в результате различных приливных течений либо небольшого повышения температуры этот газогидратный грунт начинает медленно всплывать. При этом он переходит в зону более теплой воды, более низкого давления и там начинает разлагаться, выделяется большое количество газа – огромный газовый пузырь, стремительно движущийся к поверхности и образующий бурным потоком крутящийся водоворот, куда могут быть затянуты корабли, а также низколетящие самолеты.
Известна история, когда в 1946 году пролетавшие над океаном в районе Бермудского треугольника пять самолетов американских ВВС бесследно исчезли с экранов радаров. Последними словами летчиков, которые слышали операторы наземной службы, были: «Вижу белые буруны». После этого связь прервалась, а самолеты на базу не вернулись. А белые буруны – это, скорее всего, не что иное, как бурное выделение газа. Такой мощный залповый выброс предположить можно и в Черном море. Помните о горевшем во время землетрясения море? Из разных источников известно, что и в нашем отечестве странные исчезновения в Черном море тоже бывали. Например, возле Крыма по непонятным причинам внезапно затонул рыбацкий сейнер. Эта катастрофа связывается с выбросом газгидратов. Известен другой случай – с исчезновением вертолета. Скорее всего, он тоже попал в зону выброса метана. Так что Бермудский треугольник при желании можно найти и в Черном море.
Надо сказать, что донные газгидраты имеют большую ценность как полезные ископаемые. В Одесской государственной академии холода украинские ученые показывали мне чертежи и макет грандиозной установки для добычи газгидратов с поверхности. Расчеты показывают, что их добыча в Черном море могла бы во многом снизить газовую зависимость Украины от России. Проект этот был доложен в Киеве и надежно похоронен чиновниками, тогда еще нисколько в этом не заинтересованными.
Представим, что мы живем в многоэтажном доме, где можно жить только на верхнем этаже, а все нижние этажи заражены, отравлены, там нечем дышать. Может быть, сейчас и рыба: скумбрия, чирус, ставрида – не заходит к нам в Черное море потому, что глубина залегания сероводорода настолько близка к поверхности, что нет такого количества планктона, который мог бы обеспечить им пищу. Что же касается придонных животных, то для их гибели совсем не нужны высокие концентрации сероводорода. Для этого достаточно лишь появиться его признакам, и все погибнет.
Существуют подсчеты, согласно которым в период с 1973 по 1990 год на северо-западном шельфе Черного моря погибло около 60 миллионов тонн различных животных, из них около 5 миллионов тонн рыбы, в том числе промысловой. В 1973 году ученые из севастопольского Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского обнаружили обширное поле гипоксии, то есть кислородной недостаточности у дна. Кислорода там настолько мало, что началась массовая гибель донных животных и рыб. С тех пор этот процесс развивается и площади, охваченные им, все время расширяются.
Надо сказать, что мелководная шельфовая северо-западная часть Черного моря является как бы его ахиллесовой пятой, потому что именно сюда производится сток огромного количества органики, которая после гниения превращается в сероводород. Не потому ли именно Ахиллес считался историческим покровителем Понта Эвксинского (так Черное море называлось у древних греков), а на одном из островов – Змеином – до сих пор сохранились развалины храма, посвященного Ахиллесу?
Положение осложняется еще и тем, что на самом деле в Черном море есть два источника сероводорода: один, как говорится, от Бога, второй – от людей. Этот второй, особенно у кавказского берега, связан с огромным количеством антропогенных отбросов, вызывающих, мягко говоря, переудобрение моря. Тот, который природный, давний, глубинный, заметного воздействия на живые существа не оказывает. А вот этот рукотворный сероводород, зона гипоксии, которая с каждым годом расширяется, вызывает ежегодную массовую гибель моллюсков, раков, креветок, крабов, разных рыб, донной фауны.
Реки выносят в море большой объем соединений азота и фосфора, которые и переудобряют это море. Происходит образование избытка водорослей, которые разлагаются и не всегда являются полезными для своего планктона, а тем более для других подводных обитателей. Важно отметить, что такое происходит не везде: не все Черное море страдает от гипоксии и от заморов, от цветения и от переудобрения. Например, южный берег Крыма и побережье Кавказа, по данным ученых, в целом пока находятся в благополучном экологическом состоянии.
Что же делать, чтобы избавиться от гипоксии и заморов рыбы? Прежде всего, необходимо сократить объем гниющих удобрений, которые выносятся огромными реками. Реки мы перегородить, конечно, не можем. Но вот сократить объем удобрений, которые попадают в речной сток, возможно.
Пару десятилетий назад в Российской академии наук мне довелось участвовать в обсуждении международного проекта спасения Черного моря от сероводорода. Проект предполагал строительство специальных установок для перекачки сероводорода, который является хорошим удобрением, из моря на поля прибрежных стран, что должно было бы очистить море и повысить урожайность на суше. Похоже, и здесь дальше разговоров дело не пошло.
Сможем ли мы, как раньше, отдыхать на прекрасных черноморских берегах? Смогут ли наши дети вспомнить их такими же красивыми, каким помним мы? И что они действительно будут вспоминать: запах соленой воды и южных роз или своеобразный аромат сероводорода? Что ждет Черное море в обозримом будущем? Многие ученые полагают, что ничего катастрофического не происходит и не произойдет. Что подобные ситуации сероводородного заражения были и раньше и имели в прошлом, как минимум, два или три случая-предшественника. Так что сероводородное заражение никоим образом не является катастрофой для человечества.
Может ли взорваться Черное море? Глядя на его ласковую спокойную воду, населенную рыбой и медузами, очень хочется все-таки поверить тем ученым, которые считают, что катастрофы можно избежать и Черное море останется невредимым и еще многие века будет вдохновлять новые поколения поэтов и художников.
Волны зыблются, упруги,
Черноглазый и худой,
Я качаюсь на фелюге
Над пустынною водой.
И нахмурен лоб мой низкий,
И сияет светлый щит,
А под нами Понт Эвксинский —
Море Черное шумит.
Брезжит медленное утро.
В плавнях плавится туман.
На одной из «чаек» утлых
Я качаюсь, атаман.
Пахнет мятой берег близкий,
Люлька верная дымит.
А под нами Понт Эвксинский —
Море Черное шумит.
Унесет теченье в реках
Этот день и этот час.
Миф останется от греков,
Радиация от нас.
Но надежда брезжит искрой,
Что всегда – теперь и впредь,
Будет вечный Понт Эвксинский
Медью солнечной звенеть.
Кто съел рыбу в Черном море?
Черное море – морской бассейн, равных которому в мире нет. Когда 36 миллионов лет назад южные континенты навалились на северные и закрылся палеоокеан Тетис, остались фрагменты этого океана – Средиземное и Черное моря. Возникшая несколько тысяч лет назад подводная плотина Босфорского порога отделила Черное море от Мирового океана, и возник полуизолированный бассейн. Поэтому все животные, которые здесь жили с пяти тысяч лет назад и до сих пор, живут примерно в одном биологическом соотношении. Это прежде всего фитопланктон (мелкие водоросли), зоопланктон (мелкие зверюшки, которые их едят) и рыба, которая ест зоопланктон. Все жили в мире и согласии. И вдруг произошла катастрофа. Появились так называемые вселенцы. Представьте себе, что на нашу планету прилетели марсиане и стали уничтожать все, что есть на Земле, начиная с людей. Или то, что гунны или монголы вторглись в Европу. Нечто подобное произошло в глубинах Черного моря.
Вдоль побережья Черного моря живет около 40 миллионов человек. Когда вдруг начала исчезать рыба, население черноморских стран потеряло один из главных источников дохода и, конечно, питания. Это была настоящая катастрофа, которая усугубилась тем, что ее виновник поначалу оставался неизвестен.
Черное море населено довольно бедным сообществом мелких планктонных организмов, к тому же экологически ослабленных. Тем не менее это был прекрасный корм для черноморских рыб – для ставриды, кефали, дельфинов. В это относительно спокойное царство, потраченное, правда, к этому времени сливом с полей разного рода гербицидов, а также перепромыслом рыбы, которую и так ловили больше, чем могла вынести биосистема, неожиданно вторгся свирепый захватчик по имени мнемиопсис, который стал активно поедать зоопланктон, отнимая его у голодающей рыбы.
Новый для Черного моря организм-вселенец – гребневик мнемиопсис (Mnemiopsis leidyi). Его родина – распресненная лагуна Атлантического побережья Соединенных Штатов. Ему пришлось переплыть Атлантику, Средиземное море, прежде чем он появился в Черном море. Сам этот грозный вселенец, безобидный с виду, совершенно не похож ни на марсианина, ни на гунна. Буквально разваливается в руках. Причем интересно, что он – гермафродит. Он сам себя оплодотворяет: достаточно попасть небольшой частице этого студенистого вещества из трюма судна в воду – и он начинает быстро размножаться. За короткое время – три тысячи яиц. Заполняет собой любой объем воды. Поэтому действительно колоссальная угроза для зоопланктона.
Внешне мнемиопсис похож на медузу. Однако это совсем другая группа животных. Медуза плавает, реактивно сдвигая колокол. В то время как мнемиопсис оснащен гребными пластинками, с помощью которых он передвигается в воде. Эти пластинки расположены рядами. Когда на них попадает свет, то мнемиопсис начинает переливаться всеми цветами радуги. По всем восьми полоскам гребных пластинок будто пробегают электрические огоньки. Зрелище это настолько красивое, что возникает ощущение – перед вами действительно некое фантастическое существо, пришелец из другой Галактики.
Форма тела и устройство мнемиопсиса таковы, что у него есть две лопасти, которые тоже могут принимать участие в движении. Чаще всего эти лопасти используются в аварийных, критических ситуациях. Самые крупные особи гребневика мнемиопсиса достигают 12-14 сантиметров. Средний же мнемиопсис не превышает 8 сантиметров. Если его разорвать на части, то каждый кусок начинает регенерировать в целую особь. Растут они необычайно быстро и так же интенсивно размножаются. Наряду с обычным размножением у мнемиопсиса есть такое экзотическое: младенец, который только родится, уже выметывает небольшое количество яиц. Это все равно как бы новорожденный у вас нарожал еще маленьких. Крупный гребневик в течение своей жизни выбрасывает 30 тысяч яиц.
Это маленькое прозрачное существо, совершенно безобидное на вид, на самом деле страшный хищник. Мнемиопсис питается фитопланктоном и зоопланктоном, а также мелкими рачками. Таким образом, он съедает все то, чем питается рыба. Кроме того, он уничтожает икру и личинок рыб. У мнемиопсиса рот – это две лопасти, которые покрыты клейким веществом. Они захватывают рачков и потом движением ресничек на клетках загоняют в желудок. Там еда переваривается и через рот выбрасывается обратно. Рачки зоопланктона выполняют в море роль фильтров, пропуская через себя и переваривая фитопланктон, а также взвесь, которая висит в толще воды. Этот морской мусор, пройдя обработку рачками, превращается в комочки, которые опускаются на дно. Как только мнемиопсис съел в Черном море зоопланктон, очистка воды прекратилась, а ее мутность повысилась в три раза. В результате, если бурые водоросли в Черном море жили в толще воды от 0 до 25-30 метров, то сейчас бурые водоросли находят максимум на глубине 10 метров. Соответственно, все, что было ниже, от отсутствия света погибло, растворилось, добавив в воду органических и минеральных веществ, от чего фитопланктон начал развиваться еще активнее.
В северо-западной части Черного моря на мелководье существовало уникальное природное образование, сопоставимое только с неприкрепленными ко дну, плавающими по поверхности водорослями Саргассова моря. В Черном море на глубинах от 30 до 70 метров лежал сорокаметровый слой не прикрепленных красных водорослей филлофоры. Совершенно своеобразный биоценоз с приспособившимися к жизни в красной водоросли животными, которые все имели соответствующий цвет, чтобы маскироваться. Так как виды были неспецифические, те же самые, что и в поясе бурых водорослей, но только красной окраски. Биомасса поля считалась порядка десяти миллионов тонн. Упала прозрачность воды. В настоящее время филлофорного поля больше не существует вообще. Оно полностью исчезло. Это тоже одно из следствий воздействия гребневика.
Десять лет назад, в самом начале сентября 2004 года, я со съемочной группой программы «Атланты. В поисках истины» приехал в Геленджик, в Южное отделение Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, где полным ходом шла работа наших ученых под руководством академика Михаила Евгеньевича Виноградова (1927-2007). Вот что он мне тогда рассказал: «В девяностом году мы проводили съемки, исследования по всему Черному морю. Оказалось, что количество этих животных, их масса составляет 800 миллионов тонн в одном только Черноморском бассейне. Если представить себе, что весь мировой промысел берет рыбы во всем Мировом океане около 100 миллионов тонн, то здесь 800 миллионов тонн навалилось на ту же пищу, на которой сидела рыба. Рыбе есть стало нечего».
Каким же образом мнемиопсис смог попасть в Черное море и почему это произошло только в конце XX века? Ученые предположили, что гребневик был привезен в балластных водах танкеров. Современные суда, перевозящие нефть, имеют двойное днище и двойные борта. Для того чтобы танкер, после того как сливается нефть, не потерял устойчивость, в донное и межбортовое пространство заливается вода. Сотни тысяч тонн этой воды доставляются, скажем, с побережья Чесапикского залива к берегам Черного моря, к Новороссийску или Одессе. Черное море оказалось благоприятной средой для мнемиопсиса. Еды оказалось более чем достаточно, а естественные враги отсутствовали. Кроме того, гребневик оказался необычайно плодовит. Все это позволило мнемиопсису добиться беспредельного господства на новом месте.
Однако такая удача ждет далеко не всех пришельцев. Большинство из них погибает, попадая в чужую для себя среду. Тем не менее, только в Черном море сегодня живет несколько организмов, вселение которых прошло весьма успешно. Так, в 1947 году, после Второй мировой войны, сюда перевезли по железной дороге торпедные катера из далекого Порт-Артура, с дальневосточных морей. Вместе с этими катерами сюда приехал другой вселенец – брюхоногий моллюск, который носит название рапана (Rapana). Его раковины продают по всему черноморскому побережью в качестве сувениров. Но красивая с виду рапана всего за пять лет, с 1947 по 1952 год, уничтожил все устричные банки. Деликатесные черноморские устрицы, пользовавшиеся большим спросом из-за низкой солености воды, просто перестали существовать. Рапана питается взрослыми двустворчатыми моллюсками. Пока не появился мнемиопсис, у моллюсков, как видно, была еще возможность балансировать на грани выживания. Однако с середины 1980-х годов уничтожение моллюсков стало тотальным. Рапана подъедала взрослых, а мнемиопсис уничтожал молодь. В результате к 2000 году некоторые обычные моллюски тоже исчезли. Например, черноморский гребешок, небольшой, но очень красивый. У себя на родине, в Южно-Китайском море, рапана не производила столь сокрушительного воздействия. Там у нее был естественный враг – морская звезда, которая в Черном море не живет, поскольку оно недостаточно соленое для морской звезды.
Прошло около десяти лет, прежде чем в Черном море появился естественный враг мнемиопсиса – гребневик биройя (Beroe ovata). Интересно, что вместе эта пара гребневиков обитает не только в черноморском бассейне, но и у нас в Баренцевом море, и в Мексиканском заливе, и у берегов Японии. Один не дает размножиться другому. В Черное море биройу никто специально не привозил – она попала сюда так же, как и мнемиопсис, с балластными водами судов.
1999 год выдался очень теплым. Вероятно, это обусловило то, что гребневик биройя, оказавшись в Черном море, почувствовал себя в новой среде как дома и размножился в огромном количестве. Тем более что в еде недостатка не было. Если к биройе на несколько десятков сантиметров поднести мнемиопсиса, то начинается охота. Надо отметить, что мнемиопсис не является для биройи совсем уж легкой добычей. Охотясь этот гребневик, как правило, движется кругами. Причем круги вокруг жертвы со временем становятся все меньше и меньше, до тех пор, пока биройя не поглощает ее. Финал этой охоты можно сравнить с натягиванием наволочки на подушку.
Гребневик beroe полый внутри. Когда он плавает и у него не содержится внутри пищи – он практически плоский. Но, поглотив мнемиопсиса, он раздувается как шар. Он становится гораздо менее подвижным, начинается ее переваривание.
Гребневик beroe сразу же улучшил экологическую обстановку в Черном море. Количество мнемиопсиса резко сократилось. Увеличилось количество планктона и, соответственно, рыбы. Однако совсем мнемиопсис не пропал. Поэтому ученые продолжают вести тщательное наблюдение за гребневиками.
В Южном отделении Института океанологии постоянные исследования буквально от пирса до глубин сотни метров ведутся на маленьком суденышке «Ашамба». Другое научно-исследовательское судно, «Акванавт», работает в открытом море. Возглавляет научную работу здесь сын академика М.Е. Виноградова, кандидат биологических наук Георгий Виноградов. Для того чтобы правильно представить себе развитие популяции всей массы гребневика, берутся пробы на разных глубинах. Главная задача – посмотреть общее количество гребневика на разном расстоянии от берега, интенсивность размножения и установить, есть ли угроза для планктона и для рыбы. Причем, если «Ашамба» делала отбор гребневика и других биологических проб на малых глубинах, от линии берега до глубин порядка 80 метров, то на «Акванавте» – на глубине до тысячи и более метров и на расстоянии от берега порядка 100 или 200 миль. Таким образом, оба разреза «сшиваются» в один, и получается единая картина распределения гребневика, его флуктуации вдоль всего гидробиологического разреза Черного моря.
Проводимые исследования позволили выяснить, что два вида гребневика уже давно научились сосуществовать вместе, поделив между собой время массового размножения. Сначала пик дает мнемиопсис, который выедает планктон, но не успевает он сильно размножиться, как появляется биройя и съедает мнемиопсис. Бывали случаи, когда несколько маленьких гребневиков биройя набрасывались на большого мнемиопсиса. Даже на таком примитивном уровне развития присутствуют элементы стайной охоты. Несколько мелких гребневиков могут разорвать крупного мнемиопсиса на части. Один мелкий гребневик может просто откусывать соответствующий аппетиту кусок. Мнемиопсис с отгрызенным боком может продолжать плавать, питаться и регенерировать, превращаясь в нормальную полноценную особь. Удивительно, с какой легкостью гребневику биройя удается отсекать часть тела мнемиопсиса. Такое впечатление, что у него ряды острых зубов, которые позволяют ему моментально расправляться со своей жертвой. На самом деле роль этих острых зубов выполняют мельчайшие, но жесткие выросты, микроцилии, расположенные вокруг рта. Синхронно двигаясь, они помогают биройе продвигать жертву внутрь своего тела. Буквально за две-три недели биройя выедает мнемиопсиса в верхнем теплом слое воды, то есть до глубины 30 метров. Для того чтобы выжить, мнемиопсису приходится прятаться в слое термоклина, где температура резко отличается от температуры выше– и нижележащих слоев.
Через Волго-Донской канал мнемиопсис уже попал в Каспийское море, где стал уничтожать там уже весь корм для рыбы, и наступила катастрофа на Каспии. Особенно для кильки, которая является одним из главных предметов вылова, особенно в южной части Каспийского моря, где тепло. Для Ирана это национальное бедствие. Сейчас задача состоит в том, как бы извести мнемиопсиса на Каспии. Каспий – это осетровое и килечное море. Кильку в его водах вылавливают в промышленных масштабах. Она идет на консервы и рыбную муку, которую используют для подкорма и выращивания рыб, а также добавляют в корм птицы. Килька является основой питания крупных каспийских сельдей, астраханского залома, осетра и белуги.
Каспийское море обладает принципиально иным солевым составом, чем Черное море. Мнемиопсис, вселившийся в Каспий, отличается от черноморского. Он более рыхлый, менее устойчив к механическим воздействиям. По размерам он вдвое меньше своего собрата, живущего в Черном море. Все это позволяет сделать вывод, что среда Каспийского моря для него не комфортная. Тем не менее, мнемиопсис сумел в ней акклиматизироваться. Гребневик биройя оказался более чувствительным к условиям среды. Эксперименты по акклиматизации биройи в каспийской воде ведутся, и уже не первый год. Удалось добиться не только выживания взрослых особей, но и размножения, и даже роста этого гребневика.
Каспийское море принадлежит целому ряду стран. Поэтому вселение биройи должно происходить с согласия всех государств, владеющих Каспием. Вопрос спасения каспийской рыбы должен решаться не только учеными, но и, в первую очередь, на государственном уровне. Необходимо создание международной программы действий, а также международных институтов, которые могли бы регулировать совместные усилия, направленные на спасение обитателей Каспийского моря. К сожалению, пока ничего этого нет.
Колорадский жук, австралийский кролик, рапана, наконец, мнемиопсис – все это вселенцы, агрессоры, которые, по случайности природы или по недосмотру человека попав в чуждую для себя среду, размножаются там и живут какое-то время. Но иногда они опустошают среду своего обитания, как это произошло с мнемиопсисом. Остается надеяться только на милость природы, чтобы они исчезли. Однако хотелось бы, чтобы в будущем в этом вопросе мы могли надеяться на достижения науки.