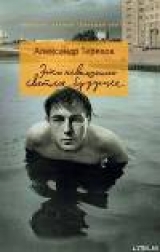
Текст книги "Это невыносимо светлое будущее"
Автор книги: Александр Терехов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Я сперва холодно думал: врет. Мы сидели на концерте, Сергей Захаров – такой певец с оленьим носом, прославленный как тюремный сиделец, любимец моей мамы, и Шах пел: «Каким я его встретил в семнадцать лет, работал в ресторане, из историй вызволял, повозиться пришлось…» Я подумал: врет – Шах протащил меня за пазуху сцены до Захарова: «было? было?» (не упуская деталей, в таких случаях Шах не щадил), и тот стоял навытяжку, и сверху вниз покорно кивал: да. Да! Да и сам я – разве нет? – Шах таскался по исполкомам, выкапывая из-под песка мне жилье, квадратные метры, искал заказы, носил по редакциям статьи, возил к родителям в Тульскую область, перепечатывал рукописи, издал три книги (я только ездил подписывать договора и улыбаться), познакомил с будущей женой, и только вышли на вечернюю улицу: будет ваша жена! – да я ее увидел пятнадцать минут назад, она же днем подала заявление в ЗАГС с одним ублюдком! я шел на ту работу, про которую Шах говорил: да! (может, он угадывал, что мне хотелось), – и главное: Шах слушал. Днем, ночью можно позвонить 269 41 сколько-то там, не видевшись год, позвонить: не спрашивайте ничего, сейчас к вам приеду. В каждом (себе, мне, московском мэре Лужкове) он видел несостоявшегося клоуна. Людям, которые ему нравились или шкурно были нужны, он говорил: «Мне кажется, вы смогли бы стать хорошим клоуном. В детстве никогда не хотелось?» Соглашались все.
П-т не дожил до приватизации общежития, его вышибли за незаконное подселение пожилой женщины, неаккуратное употребление спиртного и высказывания, что я человек немаленький, кого хочу – уволю. Литературу он писать не начал, продолжил пить, со штатных работ его одинаково выгоняли. Когда я начал издавать небольшой журнал «Кутузовский проспект», я дал п-ту небольшое задание. С тех пор я его не видел. Зато в булочной на Кутузовском проспекте человек, по описанию похожий на п-та, просил наличные деньги за рекламу в моем журнале.
Моя мама опасалась, не веря в доброту москвичей: «Сынок, а он не аморальный?», Шах помогал сотням и тысячам людей во времена, когда не все покупалось, все могли только связи и упорство: суды, квартиры, прописка, операции, образование, работа, телефон, похороны, семья, коротко говоря – судьба. Люди Шаха, отдавая свою судьбу на поправку, плакали: «ВладиВлаиыч, чем я смогу вас?..» – «Бутылку боржоми!» – «Да я… Ящик!!! Двери моей квартиры всегда! Да просто живите в моем доме в Сочи каждое лето!» Шах хмыкал: «Все говорят: ящик. И никто потом даже бутылку». Шах не ошибался. Я – ни одной бутылки боржоми, хоть божился.
«Ничего не надо. Буду стареньким и слепым, пойду по обочине от Сокольников на Комсомольскую площадь, вы будете ехать на «мерседесе» – остановитесь и подвезите старого Шахиджаняна». А однажды: «Да ничего не надо. Если только кухню мне помоете, когда попрошу». Мы не виделись после этого полгода. Кухню я мыть не буду. Шах попросил прощения. Вы меня неправильно поняли.
Помыть кухню. Внутри меня среди многих людей один считал: Шах обязан делать для меня все. Этот один человек внутри не слышал: «А с какой стати?» Шах подкармливал этого человека, он (и всех, наверное) убеждал: «Если б не я, вам помогал бы кто-нибудь другой». Но внутри меня были и другие люди, совестливые и работящие. Их было больше. Помыть кухню. Многие изделия Шаха батрачили на него впрямую: ходили по магазинам, в прачечную, выгуливали пса, скребли полы, стирали простыни-наволочки, носки-трусы, стряпали, мыли посуду – взамен они получали Москву. Помыть кухню. Шах жил запущенно, сын в армии, жена умерла, внешняя бедность и грязь, поразившая мою маму (бедность и грязь, и особенно дырявые носки, Шах показывал охотно), – сам пауком сидел в чужих бедах, не имея на рубашку десяти рублей старых денег, уборки его, больного и слабого, мучили, и разве стыдно – помочь? – ведь я весело лопатил снег от гаража, пока он грел машину (меня же ночью везти в общагу, уверяя: с удовольствием!), писал заметки для его шкурного интереса. Помыть кухню. Я не знаю.
Бабаев и Шах прожили в Москве, в своих гнездах. Без самолетов, коньков и футбольного мяча, ни разу не увидев Черного моря. Только жизнь Бабаева казалась строительной: он копал шахту, добывал золотые, верные слова для своей песни, копил мудрость – прямо в пасть печи Донского крематория. Шах жил шабашником, бросками, искал золотую жилу, топор Шаха стучал там-сям, ощущение всемогущества поднимало Шаха над ремеслами и дипломами, порядком честного труда, выслугой лет – порядок пинался, гнал волосатого, наглого, в панической обороне затрагивая национальный вопрос и многолетний интерес Шаха к гомосексуализму – и кто переспорил?
Шах из ребенка неясного происхождения вырос в гениального (все признавали!) юношу – пионерским вожатым, руководителем какой-то творческой студии он перезнакомился с будущими звездами советского кинематографа (ленинградцами), а многих из них воспитал. Через наставника и возможного отца Григория Рошаля (и его супругу Веру Строеву, актрису, красавицу) Шах коротко сошелся с монстрами, зубрами, бронтозаврами и сталинскими лауреатами черно-белого кино. В режиссеры (словно «В штыки!»). Шах понимал смысл и опасность желания делать небо: «У вас все хорошо. Я боюсь только, что вы начнете читать философские книги и захотите в режиссеры».
Нет, Шаха не приняли во ВГИК (Всесоюзный государственный институт кинематографии) – юноша рыдал. Шах никогда не говорил, как он не поступил. Страшная рана. Затянулась, зажила. Но Шах хмуро поглаживал шрам: не пустило КГБ (Комитет государственной безопасности), не простили дружбы с антисоветски настроенными Довлатовым и Гинзбургом. Без конца повторял. Что было потом, в точности мне неизвестно. Работал на радио «Маяк» (километры пленки, Шостакович и проч.), на телевидении (и снова выучил там многих), зачем-то оказался в Саратовском университете (за дипломом, скорее всего), там приплелась любовь с женщиной югославского происхождения, долгая работа таксистом в Москве, женитьба на враче, сын, дружба с клоуном Юрием Никулиным, начавшаяся в львовской гостинице – семь лет они писали книгу (имея взаимоисключающее мнение о том, кто же ее на самом деле написал и кто должен получать больше денег, мнение Никулина перевесило) – актер, клоун, русский любимец стал главной шаховской «плантацией», основным пробивным устройством таранного типа, народную любовь Шах аккуратно и настойчиво эксплуатировал при жизни (заполучив гостя на Егерскую, Шах через пятнадцать минут вдруг вскидывался: «А давайте-ка проясним этот вопрос у Юрия Владимировича Никулина», – набирал телефон, переключив на громкую связь, и трубил: «Юрочка! Тут у меня сидит хороший человек Василий Иванович Сидорякин…» – «Привет ему передавай», – обрыдло подхватывал в миллионный раз Никулин – Василий Иванович Сидорякин краснел и потрясенно оглядывался на задохнувшуюся счастьем жену и гордо заерзавших детей – и обрыдло в миллионный раз отвечал про здоровье свое, жены, собаки, отсутствующие успехи сына, доказывая интимность знакомства), старался и после смерти; пробивание квартиры, журналистика («Московский комсомолец», «Советская Россия»), цирк (пробовал как режиссер), студенты факультета журналистики Московского университета – КГБ куда-то делось или потеряло след, и Шах заново шагнул в кино. Это был шаг в бездну: ставить фильмы в СССР мог человек с дипломом «режиссер кино», и только. Но Шах поднялся. Государственные постановления значения не имели. Он научился писать куда надо и отпирать кабинеты, в которых «решали вопросы». Когда Шаху не хватало химчистки, с первого этажа его дома выехал «Ремонт обуви» и въехала химчистка, когда далековато стал магазин, химчистку перепрофилировали в «Продукты», когда подрос сын, во дворе отстроили детский сад, когда он еще подрос, ближайшая школа вдруг встрепенулась, отряхнулась, оказалась лучшей в Сокольническом районе и не вылезала с экранов Центрального телевидения.
Также Шах пробил подписку «МК» («Московскому комсомольцу»). Газету любили молодые любители рок-музыки, но продавалась она только в розницу. Подписку не разрешали. Требовалась добрая воля московских коммунистов. Шах зарядил студентов: каждый студент в день посылал десять «писем трудящихся» прямо в Кремль со слезой: отцы, разрешите подписку на «Московский комсомолец». Отцы ошеломленно лопатили почтовые сугробы, пока один наиболее наглый студент (Воликов фамилия, рыжеватый, я с ним в общаге жил абитуриентом) не подписался «группа старых большевиков» – проверка большевиков не нашла, но Воликова «установили» и схватили – тот отбрехался и учителя не предал – «Московский комсомолец» стал подписным изданием.
Шах убедил правительство Советского Союза – правительство создало сумасшедшее объединение «Дебют» для непрофессионалов – художники без образования, пробуйте делать кино! Шах снял фильм о цирке. «Клоун Мусля». Ничего не произошло, он продолжил заниматься журналистикой, изучением сексуальной и гомосексуальной жизни, отвечал со сцены Дома культуры авиационного института тысячной аудитории «Может ли активная лесбиянка жениться на пассивном гомосексуалисте?», создал теорию машинописи, школу «Учись говорить публично», взял щенка и начал книгу про собак, купил пианино, четырнадцать раз переиздал книгу Никулина, в последней строчке которой бегло и мелко автор благодарил Владимира Шахиджаняна «за помощь», лечил учеников от алкоголизма, вымучивал кандидатскую, протискивался в народные депутаты, растил из студентов журналистов – вырастали торговцы овощами и компьютерной техникой, выступал в ночном радиоэфире с караваном передач «Путь к себе», торговал своими книгами на Арбате, рекомендовался как психолог в телепрограмме «Утро» и… так (гуляли с Шахом дотемна в парке Сокольники, затеяли жечь костер. Ветки сырые, береста не рвется с берез. Шах сидел, прижавшись к костерку, и дул что есть сил), погодите.
Фильм не увидел людей. В жизни Шаха, мало интересной окружающим (как и любая. И моя. И ваша!), которую он, справедливо не надеясь на посмертные розыски учеников, настойчиво наговаривал сам правдиво, легендарно (напр.: абсолютно все женщины с первого взгляда на Шаха тяжело и пожизненно любили…), в этой версии кино «Клоун Мусля» не числилось – Владимир Владимирович мимоходом подымал с пола какую-то луковую шелуху: такой-то писал музыку для моего фильма, Носик снимался в главной роли, случилось это в то самое время, когда я делал кино, на премьеру я выставил у кинотеатра слона – и только. Шах (а он мог любое очевиднейшее и позорнейшее поражение представить величайшей победой) молчал, Шах (а он учил, как с величайшей легкостью пережить смерть близкого человека, да все!) молчал, Шах (а он твердил: пишите, книгу за книгой, не печатают, не печатают, не печатают – да плевать, ваше дело – писать) кино больше не тронул, хоть ронял иногда: сейчас я бы мог. Вот только здоровье. Вот тайна. Словно он понял про себя что-то не сводимое к спортивному «могу – нет». Он с больным любопытством смотрел громкие фильмы и всегда что-то говорил ревниво причастное, как равный.
Шах всегда умирал. Слеп, нащупал под кожей зловещие шишки, врачи говорили страшное про изношенное и прокуренное сердце; как про домашнюю собаку, он рассказывал про язву и плакал оттого, что не может вспомнить простые слова, жалкими упражнениями укреплял память – год, год и год еще я сострадал ему, пока я заметил, что единственная угроза его жизни исходит от постоянных перееданий, и – успокоился.
Душой Владимир Владимирович страдал дважды в год: в день рождения и когда выпадал снег. В первом случае ему будто бы приносили боль поздравления и знакомые голоса в телефоне, во втором – на глухом, черном осеннем дне ждал утешений (я – все наоборот – поздравлял и не утешал). Мне двухдневные муки казались выдуманными и нескромными, я не признавал за Шахом права на нежную душу.
Шах ждал убийства – его тянуло к жизненным краям, он подбирал в машину и катал ночами странных людей и заканчивал разговорами под магнитофон дома, он приглашал на исповеди малознакомых людей с извилистыми сексуальными судьбами (а люди склонны спьяну порассказать незнакомцу и пожалеть), он наживал лютых врагов, легко поднимаясь на войны за судьбы людей, взятых на вырост или за собственные деньги (Шах считал, что издатели его обирают), ему звонило угрожающее быдло как защитнику педерастов, еврею, непонятному человеку, к нему тянуло странных и пьяных – он шел ночами от автостоянки до дома и ждал ножа: давно от милиции, теперь от бандита – он боялся так сильно, как только может бояться тщедушный человек, у которого есть одна тысяча причин быть убитым, и одну тысячу раз он встречал у подъезда тяжело молчащих мордоворотов в три часа ночи, но продолжал жить, как жил – с невероятной отвагой. Я больше не знал человека, способного с такой легкостью вмешаться в уличную драку или в начале разговора с незнакомым, высокопоставленным быдлом (попали на прием чудом!), разговора, в котором единственная надежда на квартиру, на целую жизнь, и Шах при первом снисходительном матерке мог спокойно: «Не материтесь. Я не люблю». Что бы ни случалось, я знал: пока я могу дозвониться Шаху – ничего страшного.
Шах мечтал женить сына и жить одному, сын результативно влюблялся, но девушки срывались и вылетали замуж в другую сторону, и всегда удачнейше, у отца досада: «Может, тебе открыть брачное агентство?!» Мы обсуждали на автомобильном ходу новую попытку, я: «Высокая?», Шах: «Нет». – «Красивая?» – «Нет». – «Кормит вас?» – «Да нет». – «Любит сына? А он ее?» – «Хватит. На все вопросы «нет». Кроме одного». – «Какого?» – «Она беременна?»
В имперские времена по глухим местам катались «мастера психологических этюдов», афиша объявляла «сеанс фантастической реальности», «телепатия», «ясновидение», «быстрый счет, феноменальная память», сходивший народ рассказывал о «резервных возможностях человека» страшноватые и непорядочные вещи: от угадывания взятых у публики предметов и математических решений в голове до вывода на сцену любого, зрители сцепляли по команде гипнотизера руки, он говорил пару слов, совершал тройку движений, и большая часть народа никакими силами руки расцепить уже не могла и с бараньей тупостью по первому свистку поднималась на сцену, тут же теряя обличье и начиная по прихоти гипнотизера изображать плавание, прыжки кенгуру, тявкать и с распоследним бесстыдством отвечать на вопросы личного характера, вызывая в зале дикую жадность – это надолго, несчастному не прощали жалкой правды, – я на представления не ходил из страха попасть в рабы и омерзения – как в одной стране помещались шабаши и социализм?
На свободе эти ребята года на два победили всех: на государственных телеканалах сидели Кашпировский и Чумак, «заряжая» с телеэкрана воду, отращивая лысым волосы, снимали порчу, отсасывали черную энергию – тысячи писали благодарственные письма: нам помогло! бесплодные рожали, утюги прилипали к животам, Кашпировский пер в президенты, стадионы ломились, и так же быстро все свернулось, сдохло и заново разъехалось зарабатывать по глухим местам.
В горячее время «психотерапии» мы с Шахом приехали на концерт в забытый Дом культуры. Шаха позвали как выдающуюся личность, личного друга Вольфа Мессинга, обладателя глубоких гипнотических познаний, меня пригласили, прочитав в «Вечерке» мое доброе слово клоуну Грачику Кещяну – вот парень, веселое перо, хорошо умеет хвалить, пусть и нас похвалит. Я взял с Шаха страшную клятву, что он не даст сцепиться моим рукам и не позволит испариться моему сознанию. Мастера звали Шойфет или Шайхет, нам он представился учителем Кашпировского из Львова.
Мы опоздали, сели по центру в девятый ряд – пойманные рыбки уже бесновались: ученики Шайхета (пусть так для удобства) теряли чувствительность и падали навзничь на дубовую сцену, не причиняя себе видимого вреда, взмахом руки учитель Кашпировского превращал любого придурка или дуру в Аллу Пугачеву или Иосифа Кобзона – придурки и дуры начинали вопить и подпрыгивать, отвечали на вопросы «журналистов», описывая свои лимузины и бриллианты, дуры заторможенно целовали Шайхета на глазах деревянно улыбавшихся женихов, сидевших в зале, и задирали юбки – музыка и грохот, и так до конца, мы заперлись в гримерку поблагодарить, мастер в строгом костюме, черном, сидел среди корзин цветов, как покойник, и плавал в успехе: вот! им по букету цветов! – нам сунули гладиолусы – вашим женам! «У меня нет жены», – признался Шах. «И у меня», – Шах чуть не свалился со стула, таким образом узнав, что я развожусь. «А будете ходить ко мне, – подхватил мастер, – жен себе быстро найдете! У меня такие чудесные пары образуются на представлениях!» – первый раз я остро подумал: может, не разводиться? Понравилось? Да? Да? Могу, могу… А вы, сказал мастер, удавом потянувшись к Шахиджаняну, сверкнув, то морщась, то расслабляясь, – вы посмотрите на меня, вот так, родились в Ленинграде, у вас… Сын! – Покосившись на меня: точно? Я сделал движение, означающее: прямо щас упаду от удивления. Шах тоже что-то изобразил, а потом поклонился: мы поедем, уже поздно, а вам ехать далеко, до «Текстильщиков», наверное, снимаете там… трехкомнатную, мне кажется, квартиру – на пятом этаже, собака (должна обязательно у вас быть собака) заждалась – возможно, коккер-спаниель, а детей не вижу, нет, от первого брака есть: сын и дочь – свита гипнотизера смолкла и сжалась ледяной кучкой за спиной хозяина, словно его кто-то обижал, – думаю, дочь хорошо рисует. Шайхет с запнувшейся недобротой разглядывал Шаха, тот скромно сказал: «Это я так. Случайно». Шайхет медленно и как-то жестоко сказал: «Хорошо, что вы это сами понимаете».
Я присутствовал при нескольких убийственных «попаданиях» Шаха и относился к ним с полным недоверием. Как и все обыкновенные люди, работающие за кусок хлеба, я не верю в сильные проявления духовной жизни – в нравственные страдания, силу раскаяния, муки неразделенной любви, вечную любовь, судьбу, ненасытную жажду истины, возмездие, мне кажется, все эти красивые и обременительные для семьи и соседей вещи происходят от недостаточного питания, тесных квартир, бедности или, напротив, лишнего жира, зависти, сильного влияния на нервную систему менструального цикла, неутоленного честолюбия, злой жены (настойчивый, между прочим, мотив в русских летописях и сказках), уставшего мужа, несложений личной жизни, и возрастных «периодов», и физиологических изменений. Я верю в то, что может занести в протокол служащий Петровки или Лубянки, «правой рукой проник в левый карман потерпевшего», это – правда.
Новобранцев семинара Шах приглашал домой, выведывал суть, звонил «по громкой» Никулину, хвастался ласковыми подписями на подаренных книгах великих, указывал на свою нищету, наискось смотрел принесенные дневники и рукописи, у каждого вдруг замечал великое будущее: о, как много вы можете – со мной вы получите все, что захотите, и отвозил заготовку в общагу, по дороге оживляя трупы. У «Националя» ловил машину счастливый кудрявенький парень – книжки прижаты к груди (Шах вез в общагу меня, молчали час, он телепатически заставлял меня говорить, я по настырности дожидался его слова – и выиграл!), октябрь, Москва, еще не страшно прощающаяся с советской властью (скучно писать, сколько стоил ужин в «Национале»), подвезем парня, Шах раз обернулся к нему и покатил дальше – я знаю куда, метро «Университет» – не ошибся? – вас, наверное, зовут Никита. Родители биологи? Один в семье. Это я не спрашиваю, это я говорю про вас. Двадцать один год. Парень говорил только «да! да!» или «а откуда вы знаете?!», протискивая голову вперед, меж нашими головами, и я заодно наливался силой, хоть и молчу, но тоже неспроста, причастен. Проводили девушку – да, Никита Валерьевич? Валерьевич ведь? А девушка Лена или Света. Света. Живет на Сущевском валу. И познакомились с иностранцем. Испанцем. Интереснейший человек, часто бывает в Советском Союзе. Гуляли, разговаривали, книжки вам подарил – по живописи? да? – зашли в «Националь» перекусить. Он даже предлагал в номер подняться, чтобы показать еще книжки – собирает по истории искусств. Как и вы. Но вы в номер не пошли. Потому что уже поздно. Договорились встретиться еще, телефон не потеряли? Так вот, Никита Валерьевич, испанец ваш – гомосексуалист, и интерес его к вам связан только с этим. Вам надо это знать. Об этом закончили. И еще он что-то вяло поугадывал. Парень продолжал удивляться, но не так сильно, как поначалу. Мы его бесплатно довезли, и он ушел: спасибо, чтобы не встретиться никогда, фактически умер. Шах победно взглянул на меня. «Владимир Владимирович, вы это подстроили. А перед выездом позвонили ему и попросили ждать у «Националя». Он ваш знакомый!» Шах от возмущения пять минут не мог тронуться с места.
Позже я думал: Шах повидал (и в таксистах) тысячи людей в десятках ситуаций (ситуаций меньше, чем людей) и научился их узнавать – да? Но вот родители-биологи, девушка Света с Сущевского вала… Это что? Случайное попадание (закончить точкой, тремя или знаком вопроса?).
Чтоб развлечься, мне хочется написать про Бабаева (на обочине свалка лысых-рваных – «текст», «произведение», «воспоминания», «труд») без красных словец – правду, все как на самом деле – один раз за жизнь, как дневник – и пишется как дневник, редкими стежками нитки, пришивающей тебя к жизни: абзацы невидимо переложены днями-неделями, месяцами. Я допрашивал свидетелей в пустых факультетских аудиториях, они испуганно шептали: «Только не ссылайтесь на меня. Декан все знает. И даже то, что мы сейчас с вами говорим», и по сорок минут многословно шарили в пустых карманах, нащупывая в швах бусинки и хлебные крошки: «Он спросил у меня: что вы делали в 1952–1953—1954 году. Я ответила: я была несчастна. Он: я тоже».
«Я увидела его впервые: ужасное пальто, закутанный, с палкой, шапка с опущенными ушами, только очки видны – одни глаза…»
Не о чем говорить. Бабаев жил лекциями, был лекциями, «когда вхожу в университет, меня словно бьет током», все, что кроме, – бессмысленно; читал и быстро уходил, на всех заседаниях молчал.
«Лирика Ростопчиной отличается светской простотой и сдержанностью, благородством слова и мысли. У нее было изящное перо, изысканные эпиграфы.
Никаких «воплей», никаких «стенаний» или «рыданий».
Все тихо, просто, поклон, два слова, пристальный взгляд, и целая история жизни в одном стихотворении.
К элегии «Вы вспомните меня» она взяла эпиграф из безымянной французской книги. Это одно из лучших ее стихотворений, где каждая мысль – картина, а все вместе – судьба:
Вы вспомните меня когда-нибудь… но поздно,
Когда в своих степях далеко буду я,
Когда надолго мы, навеки будем розно —
Тогда поймете вы и вспомните меня!
Проехав иногда пред домом опустелым,
Где вас встречал всегда радушный мой привет,
Вы грустно спросите: «Так здесь ее уж нет?»
И, мимо торопясь, махнув султаном белым,
Вы вспомните меня».
Вступил в коммунистическую партию в Ташкенте (вдова Мандельштама напутствовала молодого преподавателя: «Конечно, вступайте! В партии должны быть порядочные люди!») и счастливо улыбнулся, когда коммунистов распустили: «Я бы никогда не отважился выйти сам». Однажды сказал секретарю парткома: «Я думаю…», «А мне наплевать, что ты думаешь». Двадцать пять лет молчал от ужаса на партсобраниях, сидел на одном и том же месте, или мученически застывал, наклонившись в сторону говорящего слышащим ухом, или с первых слов отрешенно смотрел прямо перед собой и не слышал ничего. Свидетельница вспомнила единственное произнесенное после собрания вслух: «Конечно, у нас все есть, зато мы всегда правы!»
Свидетели бормотали: нет, он не боец, не борец, он себя недооценивал, всем уступал, жена Майя Михайловна и дочь Лиза встречали Бабаева на Прибалтийском вокзале, приехали пораньше отдыхать, его задержали экзамены, люди из вагона выходили и выходили, вагон пустел, дочь не выдержала и заревела, Майя Михайловна приказала: «Не плачь! Он выйдет последним. Пропустит всех и выйдет».
Над всей этой ерундой, что окружает человека, он смеялся, особенно оглядываясь: «Я вырос в моровой полосе, когда невозможно было читать. Читали только древнюю историю и литературу XVII века. Нельзя было сказать «эпоха Александра I». Нечем было дышать. После лекции подходили и спрашивали: а откуда вы вот эту мысль взяли? И записывали». Вот те, которые, которых невозможно пофамильно, помордно выделить, они его не любили или любили не так много, как ему хотелось (или требовалось), «Вы разделили курс между собой, словно торт разрезали, и разобрали лучшие куски: кому с розочкой, кому с шоколадом», отдавали не то, что он хотел. Повезло: он замещал ухаря, уехавшего позарабатывать русской литературой в Америку, и когда назарабатывал и вернулся, Эдуарду Григорьевичу велели: давай, дуй назад, на вечернее! – а студенты уже втянулись, им не хотелось другого, они собрали демонстрацию идти к декану – Бабаев попросил: не губите.
Да и он тех, которые вон те, не любил: «С нашими факультетскими можно превратиться в камень». Они зарубили первую диссертацию Бабаева – инфаркт, а потом ползали перед ним на коленях – защищайтесь, ну защищайтесь же, жена про него сказала: «За внешней сдержанностью – бешеный темперамент. Копится, копится, а потом – взрыв». Поэт Евгений Винокуров пытался распорядиться Бабаевым (Эдуарда Григорьевича, видимо, не считая поэтом): «Вам надо написать монографию про меня, на пятьдесят печатных листов. Чтоб в ней были мои детские фотографии… Вам ведь нужны деньги. Договор уже готов, осталось подписать», – Бабаев пять лет не здоровался с этим парнем.
Шаха тошнило: ну, ну зачем Бабаев затеял эту диссертацию?! сгубил здоровье, столько потерянного времени, потраченных сил – зачем ему доктор наук, когда он БАБАЕВ, сокрушался Шах, десять лет упорно и безуспешно в изнурительной вражде со всем миром пытавшийся ночными штурмами, подкопами, ползком, измором защитить кандидатскую, колеблясь от самоубийственного отчаяния до ледяной ненависти: додавлю!
Свидетель, знавший покойника двадцать лет, терялся, спрашивая себя сам: «А какой Бабаев национальности?» – «Вроде с Кавказа. Может, азербайджанец?» Брат Ашот, сестра Седа. Меня к этому Бабаев не подпускал: «Национальное чувство есть нечто сокровенное, как половое чувство. Кричать о нем глупо» – это рукой, на бумаге.
«Он был похож на отца. Люди грубо делят армян на «круглых» и носатых, длинных. Эдуард Григорьевич был круглым. Он отдал почти всю жизнь изучению Толстого, и ему было очень больно прочитать воспоминания Маковецкого о Толстом с презрительными отзывами об армянах. Он не знал языка. Родители его из Шуши, из Нагорного Карабаха. Он страшно болел за Армению…» Я оторвался от блокнота и уточнил: «То есть он считал, что в карабахском конфликте пострадавшая армянская сторона?» Майя Михайловна Бабаева подскочила: «А так оно и есть!»
Я не замечал, что Эдуарда Григорьевича тяготит война в Нагорном Карабахе, потому что она не тяготила меня, но человеку близкому, Берестову, в ответ (у демократической интеллигенции есть привычка отыскать, обнажить, назвать, затронуть, занять позицию, разобраться, наконец, и во что-то поверить, ля-ля-ля, ля-ля-ля) Бабаев, послушав-послушав, однажды тяжело сказал: «О Кавказе говорить не будем», – навсегда.
Студентка пришла: «Из новой газеты, выходит новая газета, интервью для новой газеты университета: а что вас волнует последние годы, последние годы?» – «А что за газета?» – «Студентов-мусульман». Он не смог ответить. Пришло время, когда невозможны прямые ответы и короткие пути, которыми Бабаев ходил, – он смолк.
Хотя, казалось бы, что ему Кавказ – он же из Средней Азии. Да. И это. Он потерял сразу Родину всю, землю – профессор кафедры русской литературы, армянин, не знающий языка отцов, Эдуард Григорьевич Бабаев, выросший в Ташкенте, живущий в Москве, – как в обыденной жизни, в редакциях и библиотеках, среди поэтов он не был своим, так в большой, исторической жизни он стал не своим – по родному Арбату ходил с опаской (это так), «лицом кавказской национальности», сторонился милиционеров и слушал, как идиот журналист (я, да я это был!) твердит, наклоняясь к уху, чтобы разборчивей: «Я вот тут решил статью в «Огонек» написать, Эдуард Григорьевич! Чтобы с нелегальным проникновением кавказцев покончить! Надо, я тут подчитал, использовать, Эдуард Григорьевич, иммиграционную практику Канады! Чтобы квоту на сто пятьдесят человек в год – начальник РУОПа меня поддержал, статью назову «Гости дорогие»…» – и он слушал, шел и кивал, поддакивал, мы прощались у ограды двора, у входа в ночной магазин, торговавший водкой, и через двор он шел один – я вспомнил только сейчас, и там у себя, «на лежанке», он написал: «Не годится выходцу, пришлецу и инородцу слишком упорно вникать в домашние споры той страны, где он всего лишь гость; не годится также судить или осуждать тех людей, которых он до конца понять не может». Я перечитал слова «слишком упорно», поставленные перед «вникать». Вот с чем он жил:
Чужбина есть чужбина. Иногда
Он чувствует какую-то тревогу…
Всему научит новая Среда.
Не сразу. Постепенно. Понемногу.
Молчанье. Взгляды холоднее льда,
И отступи. И уступи дорогу.
Его Родину я могу назвать Советским Союзом, русской литературой, но это все рядом, точно он описывал ее в стихах, но не называя:
С борта самолета видны
Млечные трассы дорог,
Звездные туманности городов,
Огненные пунктиры
Железнодорожных переездов.
И все это – светоносные строки
Государственности,
Великой книги,
Созданной историей
И наполненной шумом времени.
Если перелистать
Страницы этой книги
На сто лет назад
И еще на несколько десятилетий
В глубину истории,
Можно увидеть
Черную бурку Ермолова
На площади в Тифлисе,
Услышать голос Грибоедова
В Тебризе,
Узнать Пушкина в одиноком всаднике,
Который скачет по склонам гор
Благословенной Грузии
И поднимается по каменистым тропам
Заповедной Армении.
Он останавливает коня на перевале,
Чтобы отыскать глазами вершины Арарата…
«Кавказ принял нас в свое святилище»,
Когда ты просыпаешься
И распахиваешь окна,
Локаторы пеленгуют пространство.
Часы показывают московское время,
И самолет преодолевает звуковой барьер.
На референдуме о судьбе Союза, вместе или порознь, Эдуард Григорьевич поставил «за», вместе, жену и дочь подхватил и нес поток, они – «против», Майя Михайловна разрывалась между телевизором и «Эхом Москвы», легко выходила на баррикады защищать демократию – «Смотри, чтоб тебя там не раздавили», – он говорил ей в спину, что он думал про смерть Империи – неизвестно, только обрывки: «Горбачеву не надо было ничего говорить, а тихо дать мужикам землю. А они бы из-за забора закидали нас колбасой», «Жданов грязно обругал Зощенко и Ахматову, но ведь правильно выбрал лучших!»








