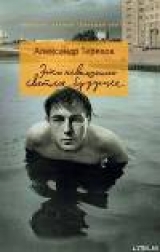
Текст книги "Это невыносимо светлое будущее"
Автор книги: Александр Терехов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Следующий – оказался паскудным днем. Чуть и муторно поспавшие, мы влезли с хохлом в лодку и в похмельной муке от каждого движения гребли от скалы до скалы, болтались от буйка до буйка вдоль купальщиков. От однообразия и идиотизма занятия болела башка. На корму напрыгивали футболистки. Широкие, толстые спины, водянистые животы, кудрявые разводы мокрого пушка под пупком и внизу спины, сползающие трусы, жир, прошитый синими жилами – коротконогие, голые телеса, заклеванные родинками, вислые груди. Косы расплелись и жидко растекались грязными сгустками вокруг плывущих плеч, бабье прощалось с соленой водой и питанием по профсоюзным ценам – с гиканьем сигали с лодки, взрывая воду, брызгали в нас солью и так все раскачали, что меня (еще напекло) замутило. Хохол разрешил: иди. Без жалости. Чтоб не мыть облеванную лодку. И погреб меня высадить в стороне от начальственных глаз и пляжа. Я пробрался в домик, кровать, ложись, закрыл глаза – и посмотрел. Немного времени я не видел ничего, пригляделся и заметил невдалеке покой, казавшийся наслаждением, я хотел подойти, но вперлось уродство по фамилии Жеволупов, как так, наш дежурит отряд, я говорил глухому: плохо чувствую, тошно, погнали разгружать фургон – привезли холодильный шкаф для столовой. Восемь человек, кирпичные морды, свекольные плечи, пытались спустить холодильник наземь по трем доскам – не удержим, и досками по зубам даст. Кладовщица с усиками, в цветастом халате. Перевернем набок и сам съедет? Померяйте. Сколько? Нет, за крышу зацепит косяком. Разбирайте на части. Ковырялись, крутили – не разбирается. Если только ломом. А если по краям поставить трех здоровячков и все же по доскам? Ноги обломаем. Молчат. И досками по зубам. Не удержишь, конечно. Мной уже можно мыть полы. Липкая тишина. Трещат твари, которых хочется назвать цикадами. Жеволупов ухватил подбородок, как стакан. Все лупятся на холодильник. Да разбейте его на хрен и выбросьте по кускам – надо отпускать машину. Как в армии. Подряд три часа. Хохол спал, по-особому мертво вывернув локти. Я без «ну все, до свиданья» покидал в сумку тряпки и ушел в Пицунду, я не хотел ехать автобусом скопом со всеми, купившими билеты в поезд на Харьков и Тулу. И заранее занять место. В тамбур пришла дышать Лена (по-хорошему бы загар и очертания зада, обойдемся, ладно?): вот, буду с ней ехать-говорить, но по второй полке протянулось что-то длинное в коротком сарафане – из нашего отряда девочка Воробей, город Ясногорск, ее видели только в столовой, купаться уходила далеко, чтобы одна. Хохол сказал: потому, что сильно волосатая спина. Осенью сказал. А летом я поменял свою нижнюю полку на верх, напротив, она протянула мне яблоко из свеже-купленных, только помойте, да, ладно, я протер и сожрал. Все подзаснули, она перелегла ко мне на полку, чтоб не кричать сквозь колеса и гудки, не будить соседей. Полка сама собой сделалась в два раза шире. В глазах проводника базарной национальности я выглядел мастером. Все близко и ощутимо, но тут заболел живот и с грязного яблока меня понесло в тридцать три струи, всю ночь я летал от купе до туалета: рвать и метать, стонать – восхищенный проводник думал, что я бегаю мыться, с девушкой мы устраивали будущее (ее общага на Ломоносовском, от нас трамвай плюс троллейбус), она читала короткие стихи – длинные я слушать не успевал. Простились на рассвете, и я, как дерьмо – зеленого цвета, вывалился на харьковский перрон, вслепую отстоял парализованную очередь в кассу на Старый Оскол, какие-то там улицы города, и всю жизнь, как мне показалось тогда, медленной скоростью, посылкой тащился до Валуек – вечером в городе (еще жила моя бабушка, тополя, побеленные до колен, жареные семечки в мешках) навстречу двоюродная сестра, она катила красную коляску – в июле у меня родился племянник Леха, из него решили растить таможенника или нотариуса.
Валуйская смерть была дальней родственницей (хотя и жизнь там была другой), она жила не у нас, но на глаза попадалась, во сне ее встречали запросто, как соседа в магазине в час, когда подвозят хлеб; выходит, сон для смерти – близкое место, раз так часто она приходила туда, значит, засыпая, мы ходим неподалеку от ее дверок. «Вижу я Комсомольскую улицу, захожу в вашу хату – печка развалена, стоит мой брат, что помер, и протягивает мне пригоршню вишни. Я проснулась и сразу: надо теть Шуре позвонить. А она умерла ночью». «Баба Аня наладилась к Людке ходить по ночам, ходила-ходила кругами, а потом вдруг: «Говорят, ты к нам собираешься? Ты это брось!» Людка тут не сдержалась: «Что это ты ходишь ко мне? Посмотри, что твой внучек Женька (жил на две семьи. – Прим. автора) вытворяет. К нему сходи!» Баба Аня на два года перестала сниться – обиделась». Ее хоронили – дочь одела ее «на дорогу» по своему вкусу (баба Аня сурова, лишь мертвую посмели ослушаться), тотчас она принялась сниться: «Вы почему такие твердолобые?! В каком платье я приказала хоронить?» Дочь дождалась оказии – умерла родственная нам баба Маруся – ей положили в ноги передачу, то самое платье: на! и баба Аня про платье замолчала. Вещи туда передавали часто, мать, ничего не жалея, похоронила дочку в туфлях на высоком каблуке, «Пожалела ты три рубля на тапки, а мне здесь неловко ходить», ближайшим гробом передали тапки – на родине смерть давала себя немного разглядеть, и про то страшное, что виднелось сквозь ночь, камыши и вишневые деревья, не скажешь «пасть» или «морда», она была нашей фамилии. И я знал, и, может быть, еще буду знать, что на улице Комсомольской вечность я не буду чужим – сползутся старики, подымутся древние веки, примолкнут лавочки, рентгеном-ультразвуком-томографом просвечивая прохожего, пытающегося заглянуть в окна несуществующих домов под камышовыми крышами, и качнется голова, припечатав: это наш. Так, когда перестала жить моя бабушка, я сидел, сидел, нечего мне было делать, все делали другие, чужие разговоры: «Он повалился на могилу матери и заплакал, и так долго пролежал, что простыл и всю жизнь ходил согнувши», «много водки не давать, а то как копачи гроб понесут, скользко», одно доверили дело – провожал до хаты читалку в половине первого ночи, тащил по льду ее и трехсотлетний псалтырь с посвящением на первой склеенной странице живому Александру II и кричал ей, кто кому кем в похоронной публике в родственно-имущественном смысле, бормотала: «Часто бывает сглаз. Вот недавно девочку отпевала, маленькую совсем, плакала и умерла – может, и сглаз. Как, может, и я по молодости свою сестру, она в селе у учителя в прислугах жила, я прям подумала: «Какая же у нас Олька здоровая», а у нее лицо круглое, щеки как вырезаны, как из миткаля, а она стала сохнуть и умерла. Правда, там ее один железным притыком избил…», некуда смотреть, нечем жить, собственное ничтожество за то, что уехал, и только раз, когда привели глухого старика, ему кричали про всех, и про каждого он понял, только коротко запнулся на мне, его подтолкнули: «Ну, Саша, маленький Саша», и он понял: а-а – и поехал дальше, я, тратящий четвертый десяток, небритый человек, замерз, как только понял: я останусь здесь навсегда только тем, кем уже не буду.
Бабушке перед дорогой приходили сны. Последний сон, страшный, она не рассказала никому, наверное чтоб не сбылся. А первый рассказала: новость. Ей приснился муж – мой дед, отправившийся в свою дорогу в 1942 году в районе Курска, пропавший без вести – дед не снился давно. «А все-таки приснился» – ходил по большой, но тесно заставленной квартире: «Давай будем убираться в моей квартире, чтобы вместе жить!», она радовалась: выходит, переехали в город (а то всю жизнь в хате-столбянке), и по-молодому забыто позвала его: «Федя, здесь кругом одни ящики…» Дед, коротко стриженный телеграфист, как-то смутился, опустил руки: «Это товарищи мои. Они уйдут, когда ты приедешь». Бабушка ответила: «Нет пока. Подожди еще». Она пересказала и вывела недоступное мне: «Значит, его похоронили в братской могиле. Их там всех вместе покидали». Я представлял «пропадание без вести» взрывом – пыль, теперь я знаю: он ждал ее в большой квартире с товарищами, теперь они живут вдвоем. Мне не снятся.
Потом, после всего, тогда, только доехал грузовик, я, чтоб не идти домой, не видеть, чтоб не уничтожать следы, не относить лопаты, лавки, столы, не чистить ковры, я прыгнул с грузовика, поправил лисью шапку, пошитую из енота, и убежал в редакцию районной газеты «Звезда» города Валуйки, чтобы мое облегчение связалось с чем-то другим, не с выносом тела, – убежал к людям, помнившим меня молодым, год, стиснутый школой и армией, – вусмерть пьющие люди, презиравшие алкоголиков, падавших под кустами в Агошковском лесу. За годы между моими приездами там не менялись пиджаки, прически, настенные календари, фотография ответственного секретаря, летчика, деревянная нога: «Умер Шатский Петр Сидорыч – коммунист. А ты посмотри фотографию похорон. Гроб несли одни члены ЛДПР!» – принес бутылку? больше не интересовало ничего, я умер.
Я не пил и Гена Пазюк. Нас приняли в один день, Гена всплыл с сахарного завода, от контрольно-измерительных приборов. Фотографировал «передовиков» в заводскую историю и «заснимал» для души пчелу на одуванчике, листья, мордастых девушек нога на ногу на диванах – его творчество шагнуло за пределы (в Валуйках шестнадцать тысяч жителей) – иди в газету. Гена невеликого роста, черноволосый, нос клювом, смеется все время, очки, один костюм, две рубашки, отучил меня бояться бедности на три года. Я плакал: нет денег, мало, не будет никогда. Замуж выходит сестра – что подарю? На мои слезы Пазюк рассказал: его сестре для начавшейся семейной жизни понадобилась кровать, машину никто не дал – Гена потащил кровать на горбу с соцгородка до Раздолья. Я представил муку и позор: белым днем кровать, на спиняке, с соцгородка (название района, хрен знает почему) мимо молочного комбината, ж.-д. больницы, через переезд у разбомбленного немцами элеватора, вдоль реки мимо Зацепа, налево у дома слепых и на крутой мост к домику Петра Первого, мимо хатенки 1680 года и бывшего штаба Первой конной армии, до «шкабадерки» (среднее учебное заведение крановщиков) и прямо на Раздолье – мне до этого далеко! – я на три года забыл страх нищеты, и только в Москве эта картина перестала смирять.
В Москве я дошел от метро до ворот Даниловского кладбища, по грязи, по воде, по асфальту – свежо вымылись желтые ворота кладбища и светло от оставшихся листьев, последняя зелень, мокрая взъерошилась на холмике, и две старушки за стеклянной щекой остановки, рельсы впереди уткнулись в туман, рельсы назад растворились в тумане, идет человек, качнул вверх рукой, и с хлопком расцвел над ним кусочек черного неба – зонт, приехал трамвай, полупустой, промокший и замерзший, он поскрипывал, за окном серая кожа брусчатки и качается мир. Как-то все это тогда чисто, просто и очень грустно, будто осень – конец, из-под рухляди последний осмысленный взгляд: я была.
Гена жил с бабищей, она рожала белобрысых сыновей и Гене рассверливала башку. Когда сверло прошло череп насквозь и у Пазюка начали сохнуть мозги, художник и сатураторщица сахарного завода развелись. Свободный Гена, несчастный отец, завернул в кино – его бывшая уселась точно перед ним (так сошлись билеты) под руку с неизвестным ублюдком – Пазюк встал да пошел в комаристый валуйский вечер носить веточки в новое гнездо, метаться на велосипеде по детским садам, сгребая халтуру: закажите фотографию вашей(его) малютки – жить особо негде, мать доживала на огороде в Солатях в хате с земляным полом, неожиданно приняв неизвестного деда – там разгорелось, там грело кого-то скупое, скромное пламя, куда там вваливаться с дождя давно отрезанному сыну, которому хорошо за тридцать, ему отдали все, что могли, и готовы отдать последнее – но разве за этим протянешь лапы? Гена поболтался, и его подхватила завуч средней школы номер два, что-то кудрявое, мышье, с тоненькими губками и двумя взрослыми сыновьями – на срочной службе в армии и военном училище.
Завуча задушила идея: дети пристроены, руки развязаны, свобода в стране – деньги, надо зарабатывать деньги. Зарплата – нет, с зарплаты платятся алименты Генкиным родным пацанам – и Пазюк ухнул, как в овраг, в отхожий промысел – там, во тьме, выходными и вечерами собственноручно строился гараж, тарахтел ржавый «москвич» (все, что выделила прежняя жена из совместно нажитого), катал с товаром по деревням мотоцикл с коляской, затевалась пасека, пахло подсолнечным маслом валуйского маслоэкстракционного комбината, грузились испачканные коровьей кровью свертки, передавались «на Москву» мешки сахара, на дневной свет изнеможденный Гена вынырнул в джинсовой рубашке, наши алкоголики проснулись: «Гена, ты такой прикинутый!» – «Это вы еще не всё видели!» – ему нравилось, там нарастал жирок.
Чтоб взять капитал рывком, решили доглядать деда. В валуйском слове «доглядать» ударение падает на букву «а». Доглядать. Завуч, как математик, научно выписала в столбик всех одиноких, готовых посмертно отдать в собственность хату за догляд, и вязала в узелок желаемое, но трудносоединяемое, требуется: дед (живут меньше бабок), кирпичный (или сруб, обложенный вполкирпича) дом, в городе (а не в паршивой Малоездоцкой), газовое отопление (лучше магистраль), вода в доме, постарше (поближе к могиле) – мечты сошлись, и на пересечении золотым рублем сверкнул ветеран ликеро-водочного завода верзила бородатый дед Елкин, дом под железной крышей на восемьдесят миллионов рублей какими-то ходившими в тот момент деньгами (двенадцать тысяч долларов, ну-ну…), за новым мостом налево (в сторону детской стоматологии на Казацкой), огород, сад. Восемьдесят девять лет! Дед похоронил не всех (только бабку и сына) – в Харькове три дочери, но они твари: когда у деда Елкина на губе раздуло опухоль, он поехал облучаться в Харьков – ни одна дочь не пустила жить, и он торчал в гостинице. Дед решил – подпишу дом чужому, кто доглядит. Вот еще опухоль, отметила завуч, всем говорят поначалу «доброкачественная», знаем, – и подписалась с Пазюком под «полным обеспечением плюс похороны за свой счет», и начали ждать прибылей, балуя деда Елкина домашней сметанкой и козьим молоком, чтоб ему нравилось, чтоб не передумал.
Радостного ожидания не выходило: дед читал без очков газеты, возился в огороде, неумеренно много ел (Гена катал три раза в день на велосипеде с кастрюлями и бидоном и горбатился в огороде), завуч к затратам на жратву плюсовала задравшиеся, как назло, цены на гробы, копачей и поминки, спрос и цены на валуйские дома поскромнели – беглецы с Севера, где растаяли баснословные северные надбавки, и не желавшие присягать Украине военные отставники уже купили все, что хотели и могли, молодежь строилась сама, капитально и трехэтажно, объявлялись неучтенные дедовы племянницы и ныли дурными голосами: «Вы, конечно, доглядайте, но насчет имущества пусть смотрит суд!», а дед Елкин месяц за месяцем вредил – жил. Призадумывался: может, жениться? – завуч просто взорвалась: «Только попробуй! Цыганям отдадим – они тебя живо досмотрят!» Я приезжал в Валуйки раз в год: «Гена, как твой дед?» – «Живой, гад!» Среди лета приперлись дочки: «Хотим проверить, есть ли у нашего папы теплые вещи». Пазюк вынес два свитера – они забрали и уехали в Харьков. Дом, шальной капитал – разность между нынешними затратами и будущим доходом ежемесячно усыхала (и многих валуйчан радовало это, зрители кричали деду, как марафонцу: держись, давай еще! догляданью чужими людьми за дом мало кто сочувствовал, а чужим доходам не сочувствовал никто), Гена изнемог, он мечтал из дедовой собственности только о ружье, но в ружье, как только деду Елкину исполнилось девяносто, особо посланные люди просверлили дырку, делающую невозможными выстрелы.
На догляде дед Елкин упорно прожил четыре с половиной года. Завуч нашла событие, равное по тяжести потерь и длине: «Как Великая Отечественная война». Он, может быть, из вредности жил бы еще, но дочки зимой сняли с дедовой сберкнижки три пенсии (пенсии не тратились, в договоре прописали «полное обеспечение») – дед Елкин огорчился и стал падать, но вредил до конца – умирал месяц («Ел до последнего очень хорошо», – добавлял Гена) и, как ребенок: боялся оставаться один – ночевали на пару с Пазюком. Деду Елкину не лежалось в кровати («Значит, его тянет земля», – предчувствуя свободу, соображал Гена), каждые полчаса Елкин звал: «Посади меня», – Пазюк просыпался, подскакивал и, надрываясь, ворочал грузного, тяжеленного длиннобородого деда, как колоду – приподымал и держал – дед Елкин утыкался Гене головой в живот – так они сидели, большой и малый, посреди ночи, замерев, но фактически двигаясь в противоположные стороны.
Бабки, обмывавшие мертвого деда, отметили у него покраснение правой руки и правой половины груди и сделали заключение: инсульт. Умер Елкин, как и жил, – в страшный убыток: в январе, в самую стужу – могилу копать желающих не было ни за какие бутылки. Экскаватором с осени нарыли могил на всю зиму, но дед распорядился положить себя с женой и сыном, посреди старых захоронений – только ручками долбить и копать: лом, топор, лопата. Десять утра, сегодня хоронить, а могилы нету. Гена взвыл и понесся на ликерку: ваш же ветеран! Ликерка: Елкин? не помним, это ж сколько лет прошло, поэтому дали только двоих. Еще с «Горгаза» согласился работяга из уважения к Пазюку. Все привлеченные ковыряли так-сяк, один Гена бешено грыз мерзлоту – своими руками прошел три «шага» вглубь – на три штыка.
Вот и выловили рыбу. Поминали деда Елкина: раз – дочь с мужем, два – дочь, три – двухметровый зять третьей дочери, Гена-обмороженные руки, синюшные ногти и завуч и еще какие-то сопливые внуки. Посидели и в три часа ночи перешли к рассмотрению вопроса: чьи будут старые часы с боем – кто сколько к деду ездил, кого он больше любил, раз – по морде, два – по морде, муж дочери, чтоб переспорить двухметрового зятя, схватил дедово ружье и пальнул – взорвалось в его руках! – дети обороняющихся в ночных рубашках понеслись по январю к соседям звонить «02» – взрослые рубанули топором телефонный кабель, мигом покидали вещи по сумкам и унеслись, стуча копытами, на станцию – муж и зять уже привлекались на Украине к уголовной ответственности – им не понравилось.
Завуч и Гена, не шелохнувшись, как две сосульки, остались за накрытым столом, внутри пойманной рыбины и ночи: дом, сухой погреб, летняя кухня, восемь яблонь, десять соток огорода, вода, газ, близко рынок, оформлено в собственность – день победы. Пролито столько пота и крови за полторы тысячи дней-ночей. Это их дом. Хозяева («а» – ударное). Разогнуться и все кроить по себе (то есть – жить). Жить.
Прощайте, до свиданья, счастливо.
Жаль, что этим не кончилось.
В перерыве никто не ушел, и зрители продолжили просмотр кинофильма. Во второй серии развернулись приемыши – пасынки Пазюка, здоровые такие, моторные ребята – полторы мозговые извилины на двоих.
Младший, сломав армию (дважды едва не сев в тюрьму за длительные самовольные отлучки, Гена с завучем облизывали всех военкоматских, вздрагивали от ночных звонков: опять сбежал?), женился, сидел на съемной квартире в Москве, кушая и тратя, но не работая – завуч слала ему деньги, Гена таскал к московскому поезду неподъемные сумарики с продовольствием, большие, словно подушки молодоженов. Старший бросил военное училище, приехал «подыматься» домой, купил заметный для Валуек автомобиль БМВ – и разбил в металлолом на Зацепе. Но приемыш не стал размазывать сопли по лицу, а огляделся и смекнул: можно хорошо положить в карман на поставках в Белгородскую область дешевого украинского бензина – бензин, так совпало, возили хорошие друзья-сослуживцы. Он собрал по Валуйкам немало денег под большой процент, перекинул сослуживцам-друзьям – в той стороне что-то сразу лопнуло, и навсегда пропало изображение и звук.
Приемыша вызвали вечером поговорить: деньги. Он пытался показать свои договора и расписки, в ответ ему показали что-то такое, что «Гена, мы должны продать квартиру!» – зарыдала завуч и перестала спать, и – они продали квартиру.
Семья вылетела и приземлилась в завоеванный дом деда Елкина, деревянный туалет рядом с навозной кучей. Но через неделю продали и дом – завуч била ластами, пытаясь поддержать темп, чтоб Гена скакал дальше, греб, возил, не отвлекался и нагружал, хрипела: ничего, так бывает, не повезло, Васик не виноват, его обманули, найдем на догляд нового деда, бабку – нашли одну в развалюхе («Так себе бабка, на двадцать пять миллионов!» – прикидывал Гена), но кандидатка потребовала образцово содержать огород, Пазюк постоял на краю этой земляной финишной ленточки (ширина всего метров двадцать пять, но длина девяносто четыре) и почуял: сдохну. Нашли другую, в квартире – мать, подписывай все бумаги, квартиру сразу продаем, при твоей жизни (чтоб наконец перестали пасынка вечерами выводить за гаражи), для тебя снимаем дом, живем вместе, кормим и холим, но бабка уперлась: не хочу доживать с туалетом во дворе, мне холодно, привыкла к унитазу – так, так твою мать, билась мордой об стены завуч, но ничего – знаешь, что: мы поедем на Запад, мы заработаем на уборке овощей в Испании, мы будем собирать мусор на пляжах, в песке попадаются монеты и браслеты (в газетах таких объявлений печатали много) – пиши, им ответили почему-то из Саратова: заполните анкету и вышлите по десять долларов с носа, выслали, в ответ открытка – давай еще по двадцать долларов на подбор места работы – все стало понятно.
Завуч заклинающе крикнула: пмж! Мы поедем на пмж: на постоянное место жительства, звони Терехову, он в Москве, все знает, какие нужны документы, – разбуженный, я тупо спрашивал: Гена? Ну на какое на хрен место жительства без профессии, без языка? Завуч: все равно поедем, а ты пока продавай свой гараж, продавай свой «москвич», давай, давай!
Гена Пазюк (я никогда не видел его грустным и недовольным) вдруг пошатнулся и убрал одну ногу с педалей: как я могу «москвич» свой продать? Чем я своим детям помогать буду? А нечего им помогать, ты вон сколько алиментов им платишь! Или продавай, или проваливай, чтоб завтра наклеил объявления в городе и на вокзале и дал на телевидение и в газету. Гена наклеил объявление на забор у библиотеки, а на вокзале – рука не поднялась, постоял над рельсами, как над водой, разорвал объявление и бросил клочки в железную реку.
Наклеил? Да. А на телевидение дал? Нет. Почему?! Не телефонный разговор. Тогда я сейчас сама приду и дам. Давай, но… Но я… Все равно: продавать не буду. Ах, ты… Дебил! Пьявка! Трах! – удар телефонной трубки. «Ты – дурень!» – сказал пасынок Васик Пазюку при личной встрече. Гена переехал в редакцию и в доказательство, что наслаждается свободой, купил себе магнитофон-двухкассетник: «А что делать, если я не могу без музыки?»
Я думал: почему ему было больно? Что же держало его среди тех людей, там? Страшно остаться одному?
Я видел его пять лет назад и больше не увижу. Последний раз: ну, что у тебя? Гена нашел и доглядал за дом бабку на Пушкарке, двор тридцать восемь на восемнадцать, огород семьдесят пять метров длиной, про дом я не спросил. Что вечерами? Телик и стучу с бабкой в домино. Что бабка? Бабка – молодец, забыла ключи от ворот и самостоятельно перелезла двухметровый забор, который Гена не может осилить. Сколько лет? Всего-то шестьдесят пять. Но – сахарный диабет!
Меня мутит на любых качелях, самолет должен меня выворачивать, и я не летал, пока не приперло (послали в Баку, азербайджанский хан захотел почитать мою запись беседы с прежним азербайджанским ханом, который укрылся в Барвихе, рядом с Москвой, играл в больного, глядящего в землю, желающего только – хоть одно доброе слово над могилой! – и всех переиграл, передавил и правил еще сто лет, приучая подданных к старшему сыну, ветеран госбезопасности, чтец-декламатор Маяковского, известный изнасилованием женщины-агента на конспиративной квартире, я слетал напрасно – в Баку начали убивать армян, пришли войска, не до меня), я согнуто чистил зубы во тьме половины шестого утра в квартире тестя и тещи на Бутырской улице, собираясь на самолет, и уже тошнило, вдруг проблеск: а ведь большую часть своей жизни я проведу без Шахиджаняна. Я математически подвигал цифры – да, точно. Меня это поразило в сердце, стало холодно и страшно. Через годы я сумел сказать: он всех переживет. Еще через годы это стало не важно.
Каждый русский житель провинции в прежние годы, приезжая в Москву, чуял странную потерю движения навсегда: точка, ехать дальше некуда. Рельсы уперлись в Павелецкий вокзал и дальше не ведут. Над русским мальчиком витало многое, но последним: в Москву поедешь, Кремль посмотришь. Ничего выше нет. Каждую осень я решал бросить университет и, брызгая бешеной слюной, загибал под носом Шаха пальцы: военная кафедра, английский, долбанутая Светлана Михайловна с физвоспитания, сессия – пять экзаменов и четыре зачета! – курсовая по западной философии, отчет за производственную практику – Владимир Владимирович, ну какая на хрен производственная практика, и отработки по физкультуре, и «зравжелаю, товарищ полковник» в восемь утра?!! – я два года как специальный корреспондент «Огонька», я женатый человек – мне двадцать три года! – да за каким хреном мне сидеть и потеть, что я не готов ответить по теме «Карл Маркс и «Новая Рейнская газета», и списывать со шпаргалки трясущейся рукой, вздрагивая от окрика, «Революционное искусство 20-х годов»? Мне жить надо! Мне писать надо! («И поэтому прежде чем думать, что лучше – многопартийность или однопартийность, начнем с того, что решающий этап перестройки пройдет, безусловно, при однопартийности» – так я тогда писал. Нецензурное слово мужского рода. Правда, тогда все так примерно писали.)
Шах в ответ пробивал зачеты, отдельную комнату в общаге, приносил справки о моем остеохондрозе, чтобы по четвергам меня не ждали вечером на теории и практике печати, где профессор Гуревич полтора часа размеренным голосом рассказывал, что в газете бывает дядя, которого все называют редактором, а есть еще дядя – заведующий отделом, – я в это время на рукопашном бое поднимал ногу выше лба. Шах ходил к декану, объясняя прогулы. Шах водил к стоматологам, окулистам, дерматологам, кардиологам, подвозил на вокзал, ждал после экзаменов. Выслушивал все, помечая на бумажке, переспрашивал: «Все?», свалив голову набок, как птичка-очкарик, и задавал бронебойный вопрос: «Александр Михайлович, ваша мама гордится, что вы учитесь в Московском университете? Гордится. Ей будет приятно, если вы получите диплом? Будет. Доучитесь для мамы».
Шах верил: человеческое желание сильнее атомной бомбы. Это его делало похожим на Ленина (сам Шах считал, что внешне напоминает Маркса). Все можно. Шах показывал. Он мог переустроить любую жизнь. В каждый свой поход в Цирк на Цветном он оглядывался на пороге на безбилетных и тыкал пальцем в ближайшую маму с ребенком: и повсюду – эту маму с ребенком – на первый ряд, на манеж (клоуны вытаскивали гостей Шаха за руки: это наши люди!), за кулисы верхом на верблюде, морковкой кормить цирковых лошадей, за руку с дрессировщиком: «Медведей сейчас лучше не тревожить, но вам можно посмотреть», маму с ребенком на чай в гримерке у фокусника Кио, в кабинет к директору Никулину – автографы и конфеты, в кафе, на машине по вечерней Москве – это был обыкновенный день Шаха, но он знал – с ребенком этот день останется до гроба. Мама заикалась: «Вы кто-о?» Шах любил про себя так: «Добрый волшебник!»
В июле, в день объявления результатов битвы за Москву, когда на дверях факультета журналистики жалкая бумажка делила пушечное мясо списками на уцелевших и трупы (уцелевшие пили шампанское и весело плакали на маминых плечах, трупы синего цвета отходили, держа спину прямо и сжимая пыльные кулаки, ехали в метро, раздавливая на щеках слезы, качались в трамвае номер 26 к Дому аспиранта и студента на Шверника, погружаясь в горячий бред: ничо! попомнят! будут меня еще проходить на пятом курсе! декан еще побегает за лауреатом и звездой: «Пал Сергеич, шо же вы не заходите?!» – года не пройдет! – видите ли, трех запятых не хватило! – и с заплечными мешками и ручными сумками, пахнущими круглым московским хлебом и колбасой, достигали нужного вокзала и исчезали навсегда), – в этот день Шах приходил на факультет и цеплял рукой, как багром, проплывающий мимо труп, задавал несложные вопросы: пол, возраст, почему хотите писать? Труп молчал, расходуя все силы, чтобы не заплакать прямо на проспекте Маркса (теперь Моховая), 20, у памятника Ломоносова, чтоб дотерпеть до вагонной подушки, труп жестикулировал: не прошел по конкурсу, правды нет – Шах листал в приемной комиссии его «дело», если в предъявленных на конкурс публикациях что-то шевелилось, агукало и поднимало голову – Шах наваливался на Ясена Николаевича Засурского, декана, американиста, и душил: надо взять, талантливый парень, не хватило полбалла – декан хрипел, пытаясь сорвать с горла цепкие руки и кликнуть секретаршу из приемной (всего было две, одна – корова, вторая – единственный опыт удачного скрещивания собаки и человека), елозил ногами по ковру и сдыхал: да на!!! Шах выходил на высокое крыльцо факультета и бросал горсточку праха: «Живи», – из праха вылетал белый голубь, и Шах с высокого крыльца смотрел, как делает первые шаги заживо сделанный им из осинового бревна студент Московского университета.
Ему написал (до Интернета Шах обожал переписку, телефон, в конце своих появлений на страницах, экранах и радио указывал: звоните, пишите, вот я такой) педераст из Оренбургской области: тридцать три года, нету зубов, живу в деревне, ношу почту. Читаю книжки, да мало их доходит, тянет писать, да не способен. Живое письмо, глаголы, существительные. Что ждало этого сельского оренбургского педераста? Ничто! Бутылка и срамное слово на воротнике. Шах вытащил п-та письмом в Москву, у себя поселил на Егерской, измучил декана именем оренбургского самоцвета, поступил п-та на подготовительное отделение журфака, через год засадил на первый курс, устроил работать дворником и жить в шестикомнатную квартиру на Волхонке (счастливый п-т кухарил для соседей и весело пил), его статьи печатали черно-белые газеты и глянцевые журналы, мужские, женские и профильные, Шах выгнал п-та из дворников и вогнал в штат «Вечерней Москвы» и в хитрое общежитие, плывущее к приватизации (об этом знало только московское правительство) – п-ту надо было полгода пожить не шевелясь – и он собственник московской однокомнатной квартиры (тридцать тысяч долларов США по минимуму – ну почему не я?!) – я много видел таких глиняных человеков, которых вылепил Шах: глухоманистые белорусы, не знающие русского языка и мечтающие о психиатрии, чтоб переделывать людям пол, участковые милиционеры, детские писатели, главные редакторы, клоуны, врачи, певцы, мастера спорта по стрельбе из лука, пианисты, отцы психоанализа и любители животных, начинающие массажисты, компьютерные дарования, дремлющие в акушерах, – люди, поначалу ничего не знавшие про себя.








