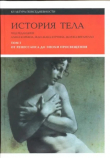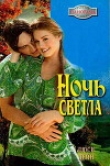Текст книги "Хлыст"
Автор книги: Александр Эткинд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Блок потом с гордостью провозгласит крушение гуманизма. Формула Иванова – новое варварство. И на Западе, и в России, пишет он, происходит «варварское возрождение», реставрация исконного мифа, реконструкция «органической» культуры, какой она была до Просвещения. Это и есть «приникновение к душе народной, к древней, исконной стихии вещего „сонного сознания“, заглушенного шумом просветительных эпох». И хотя одним из источников этих идей был Вагнер, другим было народное сектантство. Надо остерегаться, писал Иванов, «насиловать поэтическую девственность народных верований и […] – в борьбе с церковью государственной – бороться с верой вообще» [794]794
Иванов. О веселом ремесле и умном веселии – По звездам,244–245. Об этой статье Иванова Белый возмущенно писал Метнеру: «„гы-гы-гы“ русского мужичка в греческом хитоне, соборно предающегося педерастии» – Литературное наследство, 92,кн. 3, 296.
[Закрыть]. Из этой формулы ясно, как антиклерикальная позиция Иванова в его петербургский период сочеталась с надеждой на нецерковные элементы народной религиозности. Это они, под должным руководством, разовьются в полномасштабный дионисизм. «Тогда встретится наш художник и наш народ. Страна покроется орхестрами и фимелами, где будет плясать хоровод, где в действе […] воскреснет истинное мифотворчество» [795]795
Иванов. О веселом ремесле и умном веселии, 246.
[Закрыть].
Розанов, сравнивая дионисийские таинства с хлыстовскими радениями, восклицал: это «как грибы белые и боровики – одна порода» [796]796
В. Розанов. Апокалиптическая секта,115.
[Закрыть]. Иванов сочетал безудержный утопизм с историческими знаниями, и его рассуждения на эту тему более тонкие. «Символы […Обнаруживают одну сторону своей природы перед историком: он открывает их в окаменелостях стародавнего верования и обоготворения, забытого мифа и оставленного культа» [797]797
Иванов. Поэт и чернь – По звездам,39.
[Закрыть]. Действительно, найти в современном символе его исторических предшественников – задача историка. Иванов претендует на несравненно большее. Подлинным творцом искусства является народ, «народ-художник»; но без художника-профессионала ему не обойтись. Ему дано распознать в народе символы, сотворенные народом и ему самому непонятные. Художник есть «орган непосредственного народного самосознания» [798]798
Иванов. Копье Афины – По звездам,344.
[Закрыть]. Как говорит Иванов о нем и, конечно, о себе, «все дальше влекут его марева неизведанных кругозоров; но, совершив круг, он уже приближается к родным местам» [799]799
Иванов. Поэт и чернь – По звездам,41.
[Закрыть].
В 1909 Дионис уже был объявлен «фракийским богом Забалканья, […] нашим славянским богом» [800]800
Иванов. О веселом ремесле и умном веселии – По звездам,234.
[Закрыть]. Патриотизм военных лет и энтузиазм 1917 года заставляет автора низвести свою идею до особого рода расизма, – не биологического, а мифологического:
На мой взгляд, германо-романские братья славян воздвигли свое духовное и чувственное бытие преимущественно на идее Аполлоновой, – и потому царит у них строй, связующий мятежные силы жизнеобильного хаоса […]. Славяне же с незапамятных времен были верными служителями Диониса […] – и потому столь похож их страстной удел на жертвенную силу самого, извечно отдающегося на растерзание и пожрание, бога эллинов […] Недаром и Фридрих Ницше […] приписывал это открывшееся ему постижение […] своей природе славянина [801]801
Иванов. Духовный лик славянства (речь 15 октября 1917) – Собрание сочинений, 4,668–669.
[Закрыть].
Ставкой в рискованной игре с национальной идеей была личная мечта. Каковы бы ни были ее индивидуальные источники, эта мечта соответствовала времени, находила в нем культурные формы и их создавала. Если Ницше мог удовлетвориться «природой славянина», то Иванову нужен более конкретный субстрат.
Иванов верил в оккультные влияния, тайное знание, мистические союзы, внезапные перерождения. Он имел опыт общения с другим миром и его представителями на земле – бывавшими у него на «башне», подолгу жившими там и внезапно исчезавшими оккультными визитерами. В быту этот опыт, понятно, был чреват разочарованиями; но он вкладывался в тексты как первичная, достоверная и многое объясняющая реальность. «Древность в целом непонятна без допущения великой, международной и древнейшей […] организации мистических союзов, хранителей преемственного знания и перерождающих человека таинств» [802]802
Иванов. Две стихии в символизме, 288.
[Закрыть]. Без такого допущения ему непонятна и современность. Мистические союзы могут быть разного рода, от близкого Иванову розенкрейцерства и кончая народными сектами. От 1905 до 1917 надежды на аристократическое лидерство уменьшались, а на мистическое народничество увеличивались. «Народная мысль не устает выковывать, в лице миллионов своих мистиков, духовный меч, долженствующий отсечь то, что Христово, от того, что Христу враждебно», – утверждал Иванов в эссе О русской идее [803]803
Иванов. О русской идее – По звездам,314.
[Закрыть]. Художник, и в особенности символист, должен следовать за этими миллионами. Теург работает с народным мифом как с самым ценным из материалов. Он прививает новые символы к молодым росткам народного верования. «Не может быть истинно-нового творчества без последнего сведения счетов с преданием», – провозглашал Иванов [804]804
Иванов. Собрание сочинений, 4,111.
[Закрыть]. Следуя этому принципу, Иванов свободно, без комментариев вставлял в свои петербургские тексты раскольничьи идиомы, перемешивая их с терминами других культурных эпох. Конечно, их больше всего в О русской идее:«раскол в сердце нации»; «только у нас могла возникнуть секта»; «уже в некоторых сектах»; «факты, касающиеся нашего сектантства»; «мы, народ самосожигателей» [805]805
Иванов. О русской идее – По звездам,328.
[Закрыть]. В рецензии на ПетербургАндрея Белого утопический образ России назван «Белой Фиваидой» [806]806
Вяч. Иванов. Вдохновение ужаса (о романе Андреи Белого Петербург) – Собрание сочинений, 4,620.
[Закрыть]: скорее всего, это понятная современникам отсылка к афонскому скиту «Новая Фиваида», в котором впервые появилась имяславская ересь.
На этом пути Иванова ждала тяжкая ошибка; вряд ли он мог не знать о ней, но в доступных текстах он ее не признал. Со ссылкой на Пришвина Иванов указывал на свежий пример национального духа, источник гордости и надежды:
Из статей и записей Пришвина следует с точностью, что эта формула принадлежала лидеру секты хлыстов-‘чемреков’ Алексею Щетинину и подкрепляла практику, которую другие современники считали изуверской [808]808
Подробнее о Щетинине см. ниже, часть 7.
[Закрыть]. Повторяя «ты более чем я», он пользовался имуществом своих последователей и их женами. Сравните со словами Иванова о «знамени» секты пришвинскую запись о Щетинине, сделанную со слов его ученика и преемника Павла Легкобытова:
Недостаточно информированный Иванов приветствовал в формуле чемреков проявление «русской идеи», серьезное и искреннее выражение народной души. Откликаясь, в дневниковой записи того времени Пришвин ставил имя авторитетного лидера символистов между именами хлыстовских вождей, которых знал в Петербурге:
Интересно, что Пришвин подозревал в таких интенциях не только хлыстовских лидеров, но и Иванова. Пришвин показывает здесь самую суть этих языковых игр. «Ты больше Я» утверждает права Другого. Но если Я считает себя Богом, то верующие в него как в Бога должны понять эту фразу как применимую к себе, но не к Богу. Иными словами, каждый из чемреков должен был следовать норме «Ты больше Я» в отношении лидера и друг друга; сам же лидер, как Бог, в этом сравнении не участвовал. «Ты больше Я» вместе с «Я – Бог» диктует не идеал равенства, взаимных уступок и всеобщего альтруизма, а напротив, подчинение лидеру и слияние членов общины в едином теле. Одна из них вспоминала:
Я была не Клавдия Васильевна, а раба, творение Творца, повинующееся слову господина. Своя воля, хотение, желание должны быть подавлены, если не уничтожены совершенно, только в таком виде я могла служить, как служили другие [811]811
Материалы к истории русского сектантства и старообрядчества(под ред. В. Бонч-Бруевича). 7. Чемреки, 377.
[Закрыть].
Гиппиус была точнее Иванова, когда слышала в словах Щетинина «несомненно-марксистские формулы» и видела у чемреков и марксистов «ту же общую идею, – „ты больше я“, „коллектив выше индивидуальности“» [812]812
Лев Пущин (З. Гиппиус). Литературный дневник. III. Обратная религия, 174–174.
[Закрыть]. Сами чемреки интерпретировали свой лозунг не в националистических терминах, как Иванов, а в идеологических, как Гиппиус. В 1908 Легкобытов с увлечением говорил Пришвину: «Ты выше я – (это) коммунизм» [813]813
Архив В. Д. Пришвиной. Картон «Богоискатели», 64.
[Закрыть], и пояснял: «мы в рабстве познали друг друга, мы как в чану выварились, мы знаем не только, у кого какая рубашка, чулки, а всякую мысль, всякое желание знаем друг у друга» [814]814
Пришвин. Собрание сочинений, 1,793.
[Закрыть]. Пришвин сравнивал этот мрачный тоталитарный эксперимент с «кораблем невиданной формы», отправленным на Парижскую выставку одним народным умельцем. Круглый корабль утонул, не дойдя до моря. В отличие от этого корабля, тексты Иванова вдохновляли современников и продолжают интересовать потомков. Радикальная мысль может долго сохранять свое обаяние, если не пытаться ее осуществлять; слишком конкретные примеры тоже могут подвести автора.
В 1910-х годах Иванов водил на свои лекции «хлыстовскую богородицу», которую мемуарист описывает как молодую красивую крестьянку; на вопрос о том, понятна ли ей лекция, в которой много ученых слов, та отвечала: «Что ж, понятно, имена разные, и слова разные, а правда одна» [815]815
Е. Герцык. Воспоминания.Париж: YMCA-Press, 1973, 53.
[Закрыть]. Скорее всего, это была Дарья Смирнова, о знакомстве которой с Ивановым мы знаем по записям Пришвина; нам придется еще не раз с ней столкнуться. Иванов со своей стороны пересказывал хлыстовское учение в том же ключе: слова другие, правда та же.
Здесь тайна Второй Ипостаси, тайна Сына. «Семя не оживет, если не умрет» […] Эти таинственные заветы кажутся мне начертанными на челе народа нашего, как его мистическое имя: «уподобление Христу» – энергия его энергий, живая душа его жизни […] Воспроизводя в своем полуслепом сознании […] христианскую мистерию Смерти крестной, одного ждет он […] Он ждет и жаждет воскресения [816]816
Иванов. О русской идее – По звездам,330.
[Закрыть].
Среди множества подтверждений этой идеи Иванов выбирает такие, которые не задевали никого. Самый большой праздник в России Пасха, а не Рождество, – рассказывает он о давно уже подмеченной особенности русской религии. Уподобление Христу– трактат святого Фомы Кемпийского, признанного православной церковью; но название обычно переводят как Подражание Христу, и Иванову лучше кого бы то ни было известна разница между этими версиями. Формулы успокаивают своим многословным ритмом, но они менее всего каноничны. Они близки к разным вариантам масонских, розенкрейцерских, сектантских ритуалов умирания-возрождения. Внутреннее воспроизведение «Смерти крестной» считали условием духовного перерождения голгофские христиане и, конечно, хлысты.
Со ссылкой на Достоевского, Иванов описывает «своеобразное отношение нашего народа к греху». Своеобразие это связано с «принципом круговой поруки и хоровым началом». С грешника снимается личная ответственность, и «религиозная реабилитация» может дойти до «крайности оправдания греха в принципе». В результате, пишет Иванов, возникает «целое религиозное движение грешников», и более того, «в некоторых сектах […] особенное почитание согрешивших» [817]817
Там же, 336.
[Закрыть]. Пришвинские рассказы о Щетинине снова слышатся за этими формулами. «Императив нисхождения […] определяет […] народ, вся подсознательная сфера которого исполнена чувствованием Христа» [818]818
Там же.
[Закрыть]. Иванов вновь повторяет Достоевского, и даже Мышкина и Шатова. Подобно этим предшественникам, он указывает своим тезисом не на миссионерские достижения церкви, а на народную веру, как она представлена в сектах. Потому и нужны здесь темные психологические и мистические символы: «подсознательная сфера», «полуслепое сознание», «неясный соборный внутренний опыт» и, наконец, «неложные признаки»; к тому же ссылка на «факты, касающиеся нашего сектантства» находится тут же.
Иванов обращается и к «Этим бедным селеньям» Тютчева. Здесь он вновь следует за Достоевским, но предлагает новый, даже парадоксальный способ чтения. Иванов вопрошает: «Разве христианская душа нашего народа […] не узнает себя в мифотворческих стихах Тютчева?» [819]819
Иванов. Поэт и чернь – По звездам, 41.
[Закрыть]Иными словами, не Тютчев «узнал» Христа в народном мистике, а наоборот, народ «узнал» себя в тютчевском мифе. На подобную роль надеется и Иванов: не в силах «узнать» своего Бога в народной душе (и болезненно ошибаясь, когда он все же пытался это сделать), он надеялся на то, что «народ» узнает своего Бога в сотворенном им, поэтом, тексте. Ибо «мифу принадлежит господство над миром […] И ключи тайн, вверенные художнику, – прежде всего ключи от заповедных тайников души народной» [820]820
Там же, 41–42.
[Закрыть]. Один художник имеет доступ к народной душе. Превращая свое знание в господствующий миф и передавая его народу, он, художник, наделяется небывалой властью надо всеми – мифом, народом, миром.
Хоть Иванов в обращении с типическими представителями русской идеи и бывал неосторожен, он осмотрительнее самого неистового из русских мифотворцев, Блока. «Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силою, неистовством только разрушительным» [821]821
Иванов. Собрание сочинений, 4,360.
[Закрыть], – знал Иванов. Его неонародничество было менее всего наивным. Иванов видел дистанцию между идеями и их осуществлением. Он провозглашал возможность ее преодоления чудесным актом, инициатива в котором принадлежит поэту-мифотворцу, самому Иванову; но даже сотрудничая с революцией, он не поддался блоковскому искушению принять ее за этот самый акт. Его книга По звездамначинается с античного мифа о безумном герое, пожертвовавшим собой ради того, чтобы его народ отказался от обычая человеческой жертвы и заменил ее более отвлеченным вариантом дионисийского культа.
И жители той страны, в свою очередь, угадывают в нем обетованного им избавителя от повинности человеческих жертв, которого они ждут, по слову оракула, в лице чужого царя, несущего в ковчеге неведомого им бога, он же упразднит кровавое служение дикой богине [822]822
Иванов. Ницше и Дионис – По звездам,2.
[Закрыть].
Современник двух цареубийств и несметного количества массовых расправ, Иванов фантазировал о способах, которыми его народ перейдет от навязчивого повторения ритуалов смерти к обрядам более тонким и эротичным. В его терминах, это был переход от кровавого Диониса языческих культов к религии страдающего и возрождающегося Бога; в терминах более понятных, переход от революции к карнавалу. Вдохновенный мыслитель революции, Иванов верил в свою способность дать народу недостававшие ему символы – и в способность народа узнать себя в изысканных словах, которые и столетие спустя с трудом понимают исследователи.
Бердяев
«Очень трудно охарактеризовать религиозные искания в народе […] по книжным, печатным источникам», – писал Николай Бердяев [823]823
Н. Бердяев. Духовное христианство и сектантство в России – в его: Собрание сочинений.Париж: YMCA-Press, 1989, 3,446.
[Закрыть]. Сам он претендовал на некнижное, непосредственное знакомство с сектами. Он документировал эту свою причастность в характерной для него форме философской проповеди, перемежающейся личными воспоминаниями и критическими анализами литературы.
ЯМА
Мне пришлось ряд лет жить в деревне Харьковской губернии по соседству с духовным центром, в котором […] жили и толстовцы, склоняющиеся к мистике, и добролюбовцы, и свободные искатели божьей правды, и разные сектанты, духовные христиане, свободные христиане, постники […]. Я много беседовал с этими людьми, и некоторые духовные типы запомнились мне навеки. Знаю твердо, что Россия немыслима без этих людей [824]824
Там же, 447–448.
[Закрыть], —
писал Бердяев в статье 1916 года в Русской мысли.Это описание «духовного центра» создает впечатление эзотерической тайны и подлинности. Позднее Бердяев рассказал о нем ближе к житейской правде. Владельцы усадьбы близ Люботина, толстовец Владимир Шеерман и его брат-теософ, устроили у себя колонию, в которой давали приют разным странникам-одиночкам. Одни проходили здесь по дороге на Кавказ, другие жили дольше. Бердяев тепло вспоминал этих людей. Был там, например, бродяга Акимушка, который своими манерами напоминал Андрея Белого. Встреченные Бердяевым люди не были сектантами-общинниками, ведшими традиционную оседлую жизнь; скорее они казались разлетающимися осколками древней культуры, подорванной новыми временами.
Если под Харьковом Бердяев увидел сельских странников, то в Москве он общался с городскими богоискателями; так что его картина сектантской жизни оказалась на редкость объемной.
В известный год моей жизни, который я считаю счастливым, я пришел в соприкосновение […] с новой для меня средой народных богоискателей […] В то время в московском трактире […] происходили по воскресеньям народные религиозные собеседования разного рода сектантов. […] Я принял очень активное участие в религиозных спорах и с некоторыми сектантами вступил в личное общение. […] Там было огромное разнообразие религиозных направлений – бессмертники […], баптисты и евангелисты […], левого толка раскольники, духоборы, скрытые хлысты, толстовцы. […] В общем, беседа стояла на довольно высоком уровне […] Для изучения русского народа эти собрания были неоценимы. Некоторые из сектантов были настоящими народными гностиками […] Мотивы дуалистические соответствовали чему-то во мне самом. Но я очень спорил против сектантского духа [825]825
Н. Бердяев. Самопознание – Собрание сочинений, 2,228.
[Закрыть].
В «Яме», самим своим названием воплощавшей идею нисхождения, знатоки из интеллигенции общались с сектантами из народа. Сюда приходили Чертков, Боборыкин, Сергей Булгаков, Чириков, Брихничев [826]826
А. С. Панкратов. Ищущие Бога. Очерк современных исканий и настроений.Москва: скоропечатня А. А. Левенсон, 1911, 13.
[Закрыть]. Так что биограф не прав, когда говорит, что в «Яме» Бердяев был единственным интеллектуалом [827]827
Donald A. Lowrie Rebellious Prophet. A Life of Nicolai Berdyaev.New York: Harper, 1960, 127.
[Закрыть]. Сам же Бердяев, по словам его жены, говорил, что в интеллигентных салонах никто не понимает его так, как понимают в «Яме» [828]828
Там же, 127.
[Закрыть]. Особенно поражен он был тем, как близки мысли некоторых сектантов «Ямы» к писаниям Якова Беме, известным в России по масонским переводам начала 19 века. После визитов в трактир Бердяев стал перечитывать немецкого мистика и нашел в нем учителя [829]829
Бердяев. Духовное христианство и сектантство в России, 461.
[Закрыть].
«Россия – фантастическая страна духовного опьянения, страна хлыстов, самосожигателей, духоборов, страна Кондратия Селиванова и Григория Распутина, страна самозванцев и пугачевщины» [830]830
Бердяев. Душа России – в его: Судьба России.Москва, 1918, 13.
[Закрыть], – увлеченно писал Бердяев в Душе России.Особенно увлекали его странники-бегуны, в которых Бердяев раньше других увидел аллегорическое воплощение судеб русской интеллигенции. «Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник – самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушна […] Величие русского народа […] в типе странника» [831]831
Там же.
[Закрыть]. Старая и новая русская эмиграция легко соотносилась с этими странниками; и так же прямо Бакунин с его образом революции как мирового пожара связывается со старообрядцами-самосожженцами. «Славянский бунт – пламенная, огненная стихия, неведомая другим расам. И Бакунин […] был русским, […] был мессианистом» (там же). Вообще «революционная интеллигенция […] превратилась у нас в секту» [832]832
Бердяев. Русская религиозная мысль и революция – Версты,1928, 3,51.
[Закрыть]. В сопоставлении и даже отождествлении явлений высокой интеллектуальной жизни с русскими сектами – важный аспект историософии Бердяева.
И в 1931 году, все еще пытаясь понять немало изменившийся мир в терминах своей молодости, Бердяев писал то же:
Раскол есть характерное и определяющее явление русской истории, и мы до сих пор не вышли из его орбиты […] Апокалиптические настроения […] очень глубоки в народной среде, и они же обнаруживаются […] у русских писателей и мыслителей […] Русская интеллигенция XIX века была интеллигенцией раскольничьей [834]834
Бердяев. Русская религиозная психология и коммунистический атеизм.Париж: YMCA, 1931, 6–9.
[Закрыть].
Еще одна формула взята Бердяевым у Иванова; это дионисийская природа России и, соответственно, ее чуждость аполлоновскому началу. У Бердяева дионисизм легко снабжается эпитетом «народный», и тогда становится очевидным, что он имеет в виду именно хлыстовство. Впрочем, он видит и противоположные начала русской души – ее инертность, пассивность, тяжелые и негибкие ее формы. Опытный философ, он знает: столь неопределенное явление, как «русская душа», может быть описано как единство полярных характеристик; и он не устает подчеркивать антиномичность русской культуры. По Бердяеву, в той же степени противоречиво и русское сектантство. В силу его внутренней антиномичности сектантство оказывается удобной метафорой и для того, чтобы рассказать о вершинах русского духа, и для того, чтобы рассказать о его катастрофах.
ТЕМНОЕ ВИНО
В острой статье Темное виноБердяев пытался понять кризис государственной власти в годы первой мировой войны. Его диагноз беспримерен по своей откровенности:
Это хаотически-стихийное, хлыстовское опьянение русской земли ныне дошло до самой вершины государственной жизни. Мы переживаем совершенно своеобразное и исключительное явление – хлыстовство самой власти […] Темная иррациональность в низах народной жизни соблазняет и засасывает вершину [835]835
Бердяев. Темное вино – в его кн.: Судьба России, 52–54.
[Закрыть].
Считавший себя мистиком, Бердяев понимал происходящее в трезвых, отчетливых терминах рациональной культуры. Он переворачивает руссоистское поклонение ‘стихии’, перенятое символистами. «В России есть трагическое столкновение культуры с темной стихией», – писал Бердяев. У Блока идея ‘стихии’ отождествлялась с ‘народом-природой’ и наполнялась отчаянным, вполне наивным оптимизмом. Бердяев видел трагический характер ситуации и историческую ответственность готовивших ее интеллектуалов.
За формулами Бердяева стоит, конечно, неназванная фигура Распутина. Но анализ Бердяева содержит в себе ссылку и на собственный опыт общения с сектантами, лично пережитый соблазн. «В этой стихии есть темное вино, есть что-то пьянящее и оргийное и кто отведал этого вина, тому трудно уйти из атмосферы, им создаваемой», – пишет здесь Бердяев. Освобождаясь от собственного любования хлыстовством, он характеризует его не в мистических и не в эстетических, а в политических терминах, как символическое воплощение и даже средоточие реакции, особого рода Вандея, определяемая на этот раз не географически, а религиозно: не как провинция, а как секта.
Реакция всегда у нас есть оргия, лишь внешне прикрытая бюрократией […] Всякая опьяненность первозданной стихией русской земли имеет хлыстовский уклон […] Эта темная русская стихия реакционна в самом глубоком смысле слова […] В русской земле, в русском народе есть темная, в дурном смысле иррациональная […] стихия. Как бы далеко не заходило просветление и подчинение культуре русской земли, всегда остается осадок, с которым ничего нельзя поделать. В народной жизни эта особенная стихия нашла себе яркое, я бы даже сказал гениальное проявление в хлыстовстве [836]836
Там же.
[Закрыть].
Бердяев знает, что народ не вполне, не до конца поддается Просвещению; что есть в ‘народе-природе’ нерастворимый в культуре «осадок», некая «непросветленная и не поддающаяся просветлению стихия». Но в отличие от многих, Бердяев относится к такому умозаключению с трагизмом; его двойственное отношение к «народу» разрешается не в народническом восторге саморазрушения, а в признании трагической антиномичности самого ‘народа’. Философ знает, что природа человека и вообще «никогда не может быть рационализирована». Всегда остается иррациональный остаток, и в нем – «источник жизни» [837]837
Н. Бердяев. Миросозерцание Достоевского [1923] – в его кн.: Философия творчества, культуры и искусства.Москва: Искусство, 1994, 2,37.
[Закрыть]. Жизнь трагична как таковая. Иррациональность в человеке вообще, и хлыстовство в русском народе в частности – одновременно корень зла и залог лучшего будущего. Гегельянец счел бы все это диалектикой самой природы; фрейдист – амбивалентностью автора; персонализм Бердяева признавал внутреннюю антиномичность условием человеческой свободы.
Радикальные положения философа иллюстрируются, конечно, литературой. Бердяев, автор лучшего из разборов Серебряного голубя,ссылается на повесть Белого как на «гениальное художественное воспроизведение этой стихии». Достоевский тоже знал «страстную мистическую стихию», но в отличие от Белого он «открывал ее не в жизни народа, а в жизни интеллигенции» [838]838
Н. Бердяев. Темное вино – в его: Судьба России,1918, 53.
[Закрыть]. Иными словами, Белый нашел в хлыстовстве народный субстрат для тех страстей, прозрений и падений, которые Достоевский описывал в жизни высших классов. Одна и та же стихия живет в текстах русской литературы и в явлениях народного духа. Великие писатели лишь открывают и выражают ее, но благодаря им она становится доступной всем, и со ссылкой на них, писателей, о стихии можно писать дальше.
ВИХРЕВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Так, сравнивая с Белым, Бердяев подбирает ключ к творчеству Достоевского, к его «новой мистической науке о человеке». Человек увиден здесь с помощью особого метода, и результат – природа человека в понимании Достоевского в понимании Бердяева – тоже особенный. «В человеке же действуют исступленные, экстатические, вихревые стихии. […] Все написанное Достоевским и есть вихревая антропология, там открывается все в экстатически-огненной атмосфере». Особенное знание Достоевского – об экстазе как высшем состоянии человека; его могущество – плод соприкосновения с вихрем. «В глубину эту всегда вовлекает исступленный, экстатический вихрь. Вихрь этот есть метод антропологических открытий. […] Доступ к этой науке возможен лишь для тех, кто будет вовлечен в вихрь» [839]839
Бердяев. Откровение о человеке в творчестве Достоевского [1918] – в его кн.: Философия творчества, культуры и искусства, 2,153.
[Закрыть]. Вихри бушуют на глубине и не видны с поверхности; оттуда же, из глубины, исходит и подлинный свет. По Бердяеву, Достоевский «опускается в эти темные бездны и там добывает свет. Свет – не только для благообразной поверхности, свет может засветить и в темной бездне, и это более подлинный свет» [840]840
Бердяев. Миросозерцание Достоевского, 38.
[Закрыть]. Такой Достоевский дионисичен и апокалиптичен, он анти-платоник и гностик; Бердяев употребляет именно эти слова [841]841
Бердяев. Откровение о человеке в творчестве Достоевского, 163.
[Закрыть].
Все же Бердяев ведет любимого писателя дальше, от древних ересей к более близким. «Вихрь», как метод и система Достоевского, превращается в более узнаваемую метафору. «Всегда образуется какой-нибудь человеческий центр, […] и все вращается, кружится вокруг этой оси. Образуется вихрь страстных человеческих соотношений, и в этот вихрь вовлекаются все, все в исступлении каком-то вертятся». Это кружение воплощено в тексте, а не в теле, но воспроизводит особенный национальный опыт;
Творчество Достоевского полно не только откровений о человеческой природе вообще, но и особых откровений о природе русского человека, о русской душе. В этом никто не может с ним сравниться […] Природа человека […] должна более всего раскрыться в России. В России возможна новая религиозная антропология [842]842
Там же, 175.
[Закрыть].
Подчиняясь уже известной нам логике, описание уникального национального опыта трансформируется в описание уникального религиозного опыта:
Достоевский раскрыл жуткую, огненно-страстную русскую стихию, которая была скрыта от Толстого и писателей-народников. Он художественно раскрыл в культурном, интеллигентском слое ту же жуткую сладострастную стихию, в народном нашем слое выразившуюся в хлыстовстве [843]843
Там же и в «Миросозерцании Достоевского», 73.
[Закрыть].
В отношении Достоевского воспроизводится тезис, который Бердяев высказывал в отношении Белого. Но если Белый в Серебряном голубедействительно показал жуткую стихию народных сект и их истовые кружения, то Достоевский ограничивался намеками. Бердяев воспринимает Достоевского через общение в «Яме» и через опыт чтения Белого. Ритуал кружения, свойственный хлыстам, Бердяев переносит на текст Достоевского, в котором этот ритуал, как таковой, нигде не описан. Но Бердяев находит кружения, быстрые как вихрь, на другом уровне – в структуре текста, а не в его предметном содержании. Бердяев использует хлыстовский культ как эпистемологическую метафору, как инструмент философского дискурса и, наконец, как схему литературного анализа. Кружения, прямо описанные в тексте Белого, используются для понимания скрытых механизмов, по которым работает текст Достоевского. Бердяев-читатель, и читатель Бердяева, то включаются в этот текстуальный ритуал, то смотрят на него со стороны.
ЧУВСТВО КОНЦА
На основе своего персонализма Бердяев преодолевает циклическую конструкцию, с помощью которой русские интеллектуалы вкладывали собственные идеи в ‘народ’, а потом доказывали ‘народом’ новые рассуждения. Эссе Бердяева о Белом и Достоевском, по жанру принадлежащие к литературной критике, – непревзойденный в русской политической философии анализ популизма как общественного движения.
За русским народничеством даже позитивного образца скрывалась своеобразная мистика […] Замечательнейшие русские писатели хотели верить в то, во что народ верит, и так верить, как народ верит. […] Для русского мистического народничества народ был выше веры и истины, и то было истиной, во что верил народ. […] Народничество – хроническая русская болезнь, препятствующая творческому возрождению России [844]844
Н. Бердяев. Русский соблазн – Собрание сочинений, 3,417.
[Закрыть].
Со знанием дела Бердяев перечисляет формы, в которые последовательно превращался русский популизм, от славянофильства до толстовства и символизма. В этот перечень у него вошло и старообрядчество, а также явление, обозначенное здесь как «национализация православной церкви». Этой огромной массе русской идеологии Бердяев мужественно и последовательно противопоставляет свой персонализм. «Народное не вне меня, не в мужике, а во мне […] Достоевский и есть народ, более народ, чем все крестьянство России» [845]845
Бердяев. Миросозерцание Достоевского, 119.
[Закрыть]. Бердяев писал об этом и раньше, споря с Серебряным голубем: «личность в хлыстовской стихии затеряна», и поэтому хлыстовство «скорее реакционно, чем революционно» [846]846
Бердяев. Русский соблазн, 422.
[Закрыть]. Поэтому же, рассказывая о кружении в текстах Достоевского, Бердяев не устает подчеркивать: их отличие от других форм дионисийского исступления в том, что здесь экстаз не уничтожает человеческой личности.
Поэтому Бердяеву так нравится Александр Добролюбов и так не нравится Лев Толстой. Эссе Бердяева в Русской мысли1916 года, содержащее обзор русских сект, начинается с Добролюбова. «Создается новое францисканство. Мистически настроенные толстовцы делаются добролюбовцами», – увлеченно описывал Бердяев новых сектантов, которых он встречал в усадьбе своего харьковского соседа [847]847
Н. Бердяев. Духовное христианство и сектантство в России – Собрание сочинений, 3,443.
[Закрыть]. Из воспоминаний философа очевидно, что тогда он и сам ощущал «русский соблазн» поклонения сектантам, ухода к ним и слияния с ними.
«Испорченный наследственным барством и эгоизмом философа и писателя, […] я мало делал по сравнению с этими людьми для осуществления праведной жизни, но в глубине своего сердца я мечтал о том же, о чем и они» [848]848
Бердяев. Самопознание, 233–234.
[Закрыть]. Но добролюбовцы в своем радикальном отрицании культуры шли так далеко, что становились неинтересны Бердяеву. Он понимал: даже самый простой труд возвращает человека в мир, последовательны только нищие бегуны. «Уже всякий хозяйственный акт вводит сектанта в мировой круговорот и подчиняет его культуре. Сажая картофель, сектант или толстовец уже живет в царстве кесаря» [849]849
Бердяев. Духовное христианство и сектантство в России, 449.
[Закрыть]. В голосе Бердяева звучит подлинный восторг, только когда он говорит о «бродячей Руси, Руси страннической, взыскующей Града» [850]850
Там же, 441.
[Закрыть]. Рассказывая об отдельных сектах в их исторической реальности, философ становится трезв и критичен. «В каждой секте есть дробленая часть церковной истины», но нету целого; секты слепы к культуре и индивидуальности. «Морализм свойственен всем почти сектам, кроме хлыстов» [851]851
Там же, 450.
[Закрыть]. Хлысты вызывают наибольшую симпатию философа; но и они частичны, как все секты. «Наше хлыстовство – очень замечательная мистическая секта […] достигает преображения в уголку, для маленького кусочка» [852]852
Н. Бердяев. Философия свободы.Москва: Правда, 1989, 214.
[Закрыть]. Более резкими оценки становятся, когда речь заходит о рационалистических движениях протестантского круга. Духоборы ему несимпатичны так же, как их интеллигентные покровители и подражатели, толстовцы. «Наиболее неприятен дух баптистов» [853]853
Бердяев. Духовное христианство и сектантство в России, 454.
[Закрыть]. В этом Бердяев параллелен Кузмину, который примерно в те же годы писал прозаические карикатуры на русских евангелистов. «В России невозможно и нежелательно повторение реформации лютеранского типа», – уверен Бердяев. «В русском народе есть потенция иной, высшей религиозной жизни, […] обращенной вперед, к концу» [854]854
Там же, 456.
[Закрыть]. Протестантизм хочет вернуться к первоначальному христианству, то есть к началу; а в русском народе и его сектах сильно чувство конца. «В хаотической сектантской стихии […] нужно различать подлинную мистическую жажду, апокалиптические предчувствия, взыскание Града Грядущего, странничество от рационалистического и протестантского духа».