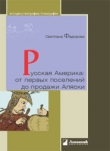Текст книги "Внутренняя колонизация. Имперский опыт России"
Автор книги: Александр Эткинд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
В своей субарктической колонии Россия создала политическую пирамиду из четырех уровней: далекого государя, европейских промышленников, местных трапперов и, наконец, пушных животных. Насилие в этой пирамиде распространялось сверху вниз, а прибыль росла снизу вверх. Описывая иной опыт, Джорджо Агамбен и Жак Деррида говорили о сходстве суверена и зверя: оба исключены из системы права, оба живут по ту сторону закона. В этом они похожи на преступников, которые заселяли Сибирь наряду с животными: «Зверь, преступник и суверен пугающе схожи: они взывают друг к другу и напоминают друг друга… находясь вне права» (Derrida 2009: 38). Это сходство зверя и суверена создало мощный слой политической мифологии, с левиафанами и бегемотами, волками Рима и львами Венеции, российскими соболями и медведями. Политическая экономия Новгорода и Москвы была основана на прямой связи, экономической и эстетической, между царями, одетыми в меха и жившими доходами от их экспорта, и пушными животными в далеких лесах. Те, кто не имел отношения к этой связи, не принимали участия в национальной экономике; их могло бы и не быть. Экономика, зависимая от ресурсов, делает население излишним. Определяющий ее элемент – территория. Географическое пространство России, в ее огромной протяженности на север и восток, сформировано пушным промыслом. С истощением популяций пушных животных казаки и трапперы двигались все дальше на восток, ища в новых землях все тех же соболей, бобров, лис, куниц и другие плоды севера. Так русские достигали самых дальних северо-восточных концов Евразии, Чукотки и Камчатки и потом Аляски.
Если смотреть сверху, эта пирамида была жесткой, но ненадежной. Чем ближе мы подходим к писаной истории, тем больше знаем о восстаниях туземцев, исчезновении животных, ожесточении промышленников и недовольстве суверена. Торговля пушниной привела многие племена на грань вымирания. В некоторых случаях это происходило настолько быстро, что говорить нужно о геноциде. В 1882 году сибиряк Николай Ядринцев перечислил многие народы Сибири, которые были к тому времени полностью уничтожены, но память о них еще сохранялась. С середины XVIII до середины XIX века камчадалы потеряли 90 % населения, вогулы (манси) – 50 % и так далее (Ядринцев 2003: 137–139).
На смену туземцам приходили русские трапперы, которые имели лучший доступ к властям и рынкам. С их появлением пушной промысел мог бы нормализоваться, но тут началась депопуляция соболя. В начале XVII века хороший зверолов мог добыть 200 соболей в год, а к концу того же столетия – всего 15–20, что делало промысел невыгодным (Павлов 1972: 224). Русский охотник мог выжить только соболями; белки, лисы и другие пушные звери оставались делом туземцев. В начале ХХ века Дерсу Узала, герой романов Владимира Арсеньева, все еще охотился на белок, и делал это с искусством, которое поражало его русского друга.
Сибирские меха очень долго питали демонстративное потребление по всей Европе. Серебро из испанских колоний, специи из голландских, чай из английских создали больше богатства и причинили больше страданий, чем меха; но с символической ценностью русского меха мало что могло сравниться. Многовековой доход от торговли пушниной помог создать государство, которое некоторые историки (прежде всего Павел Милюков) определяли как «гипертрофированное» и «сверхактивное». Однако в разные эпохи и в разных регионах эта роль государства проявлялась по-разному.
В Новгороде независимые торговцы мехами создали торговую республику, которая подписывала с князем договор об обороне. Москва соединила сырьевой промысел и государственную безопасность: кремлевские цари сами торговали пушниной или даровали на это привилегии своим служилым людям. Составляя львиную долю государственного дохода, пушной промысел играл значительную роль в финансировании военных кампаний, в дипломатической деятельности и даже в религиозной политике. Когда российский посланник приезжал в южные степи, он одарял местного хана мехами. В XVII веке в хороший подарок входило 40 соболиных шкур, кунья шуба и еще несколько шуб из более дешевого меха (Khodarkovsky 2002: 66). Спрос на пушнину на внутреннем рынке также был высок. Когда не хватало серебра, роль валюты играли меха: были периоды, когда кремлевские чиновники и придворные доктора получали половину жалованья мехами (Павлов 1972: 102). В 1623 году одна шкура сибирской чернобурой лисы стоила столько, сколько целое хозяйство с землей, домом, пятью лошадьми и десятью коровами (Reid 2002: 26). Прибыльность колоний всегда спорная тема, но Сибирь была очень прибыльной колонией. В начале ХVI века польский наблюдатель, епископ Ян Лаский, сравнивал богатство, которое приносила Московии торговля пушниной, с успехом британской торговли индийскими благовониями (Филюшкин 2011: 45). Сибирские исследователи сравнивали воздействие пушного промысла на российскую экономику с потоком серебра из Нового Света в Европу в XVI веке (Покшишевский, Кротов 1951: 57).
В отличие от новгородской пушнины, которую ганзейские купцы вывозили по воде, сибирские меха доставлялись в Москву сухопутным путем; оттуда они, тоже по суше, через Варшаву и Лейпциг, следовали в Европу. В 1560 – 1570-х годах объемы этой торговли резко упали, что совпало с началом инфляции, продолжавшейся все Смутное время (Ключевский 1959). В ответ российский суверен монополизировал экспортную торговлю всеми видами мехов и внутреннюю торговлю соболями (Fisher 1943: 65). Эти меры не помогали; пушной промысел приходил в упадок. Собранная Афанасием Щаповым статистика московских «даров» иностранным державам показывает, что в течение XVII века доля соболя в них уменьшалась (1906: 2/330 – 332). Истощение этого «зоологического богатства», по выражению Щапова, вызвало кризис Российского государства. Он описывает, как по всей Сибири охотники, промышленники, возчики пушнины искали новые способы существования. Экологическая катастрофа превратила авантюристов в крестьян, но этот процесс занял целые поколения. Для русского государства он был столь же пагубным. Когда в кремлевском казначействе соболиный мех сменился заячьим, московский период российской истории подошел к концу.
Государство экспериментировало с другими товарами и институтами. Пенька, железо и, наконец, пшеница заменили меха в российском экспорте. Опричнина, крепостное право и, наконец, имперская бюрократия заменили собой континентальную сеть пушного промысла. Но государство оставалось или стремилось остаться сверхактивным. Его институты процветали, когда могли создать политическую экономию, обеспечивавшую доход, зависящий от ресурсов и не зависевший от труда. Были периоды, когда, по словам Ключевского, «государство пухло, а народ хирел» (1956: 3/12). Были и такие времена, когда хирело государство. Установив торговлю с Архангельском в 1555 году, англичане интересовались древесиной, воском и другими лесными товарами; меха составляли небольшую долю в этой торговле (Bushkovitch 1980: 68). Английский король Иаков ценил этот регион столь высоко, что в 1612–1613 годах, когда польские и казацкие войска захватили Москву, он обсуждал возможность прямой колонизации Архангельска (Dunning 1989; Кагарлицкий 2003). Волжский купец Кузьма Минин спас тогда Россию от поражения, финансируя войну из прибылей от солеварения: то была победа новой экономики, в которой ресурсы добывались не для экспорта, а для внутреннего массового потребления. Когда смута наконец завершилась, притязания русского бизнеса переместились с северо-востока на юго-запад. Осторожная ранее политика Московского государства в отношении южной степи сменилась экспансионизмом (Boeck 2007). Что еще важнее, государство изобретало новые практики контроля и дисциплинирования населения. Пшеница, товар будущего, требовала намного больших затрат труда, чем пушнина, и, главное, труда совсем иного качества.
Упадку пушного промысла способствовали изменения как в производстве, так и в потреблении сырья. На международных рынках российские меха теперь конкурировали с американскими, которые были дешевле за счет морской транспортировки и низких таможенных пошлин. К концу ХVII века промысел в Канаде производил столько бобра, что его не могли поглотить западноевропейские рынки. В это время определенная часть бобровых шкур даже экспортировалась из Канады в Россию, через Амстердам в Нарву или Архангельск; русские знали такой секрет обработки бобра, который был неизвестен в Западной Европе, и часть обработанных этим секретным способом шкур подлежала реэкспорту (Rich 1955). Более важно было то, что как предмет массового потребления меха проигрывали шерсти, которая переживала пик популярности в Европе и Америке. В середине XVIII века доля пушнины в российском бюджете была небольшой, но меха все равно преобладали в российском экспорте в Китай (Павлов 1972: 119; Foust 1969: 344). Доходы все падали, и империя то закрывала, то вновь учреждала Сибирский приказ, собиравший ясак. Потом Екатерина II превратила государственную монополию в личную, передав пушной промысел в ведение Собственного Кабинета (Slezkine 1994: 67). В эту просвещенную эпоху меха обсуждали в терминах меркантилизма, который призывал создавать государственные монополии в колониальной торговле. В своих «Комментариях» к «Наказу» Екатерины Дидро писал, что государство должно установить свою торговую монополию тогда, когда источник богатств расположен в далеких странах, где не установилось верховенство закона, нужное для конкуренции. В России это относилось к Сибири и ее пушнине. Дидро писал эти «Комментарии» после того, как он вернулся из Санкт-Петербурга и начал получать жалованье из средств Собственного Кабинета Екатерины (Diderot 1992: 135, 159).
Итак, соболь был выбит, белка вышла из моды, а государство нуждалось в доходах. Тут пришла новость о каланах, торговую ценность которых открыла экспедиция капитана Кука. Его моряки обменяли несколько шкур на восточном побережье Австралии за пару стеклянных бус и продали их в Кантоне за 2 тысячи фунтов. После того как эта история была опубликована в 1784 году, британцы и французы послали новые экспедиции на Аляску. Екатерина поручила молодому российскому капитану с британским образованием, Григорию Муловскому, повести к Аляске российскую экспедицию. В ней согласился принять участие Джордж Форстер, один из спутников Кука и автор знаменитого отчета о его экспедиции. Но тут началась очередная война со Швецией, и плавание пришлось отменить, а Муловский погиб в сражении (King 2008). Последующие плавания обнаружили изобилие каланов на Аляске и неистощимый спрос на их мех в Китае. В 1802 году Иван Крузенштерн стал первым российским капитаном, совершившим кругосветное путешествие; повод для него был все тот же – меха (Foust 1969: 321). Основанная в 1799 году Русско-Американская компания торговала пушниной следующие полвека, что привело к депопуляции каланов и восстаниям туземцев. Из-за непосильных расстояний компания так и не стала прибыльной. Ничего, кроме пушнины, не привлекало российское правительство на Аляске и в Калифорнии, и в 1867 году компания была ликвидирована, а имперские владения в Америке проданы Соединенным Штатам. Но и в конце XIX века пушной ясак, собираемый с сибирских народов, составлял более 10 % дохода Императорского Кабинета (Znamenski 2007: 125). В какой-то степени коллекции Эрмитажа тоже были приобретены на доход от сибирского зверя, хотя его доля в них была меньше, чем в кремлевских башнях.
Венера в мехахВ XVII веке европейские мыслители сформулировали историко-экономическую теорию «четырех стадий». Согласно ей, изначальный способ существования экономики состоял в охоте и рыболовстве, которые сменило скотоводство, затем земледелие и, наконец, промышленность и торговля. Этот нарратив был основан на событиях в колониальной Америке, где четыре стадии сменяли друг друга именно таким образом (Meek 1976). «Вначале весь мир был как Америка», – говорил Локк в одном из своих знаменитых афоризмов. Но российская торговля пушниной показала, что далеко отстоящие друг от друга стадии, такие как охота и торговля, могут сосуществовать в течение длительного времени, определяя жизнь огромной части света. Те из европейских мыслителей, кто был ближе к России, например Пуфендорф, не соглашались с теорией «четырех стадий», считая, что разные модусы экономики сосуществовали еще с библейских времен. В своей версии европейской истории Пуфендорф называл Российскую империю «протяженной и обширной», но «бесплодной и незаселенной». Доходы императора, однако, «очень значительны», а «торговля соболями, которая находится целиком в его руках, очень много к ним добавляет» (Pufendorf 1764: 2/347 – 348). Пуфендорф понимал, что вначале весь мир, может, и был как Америка, но на следующих стадиях он, смешав все слои и стадии, стал больше похож на Россию.
Хотя плоды российского Севера, шкуры пушных животных, были давно известны европейцам, о самих этих землях просвещенный мир узнал подробно только в XVIII веке. В это время в Сибири оказались немецкие ученые, православные миссионеры и российские ссыльные, и они писали о Сибири для России и Европы. Сосланный туда в 1790 году, Александр Радищев был первым, кто трактовал захват Сибири как колонизацию, мотивом для которой была добыча пушнины. В «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» он писал, что московские цари давали сибирским первопроходцам, например Строгановым, «грамматы» «на земли, России не принадлежащие» и избавили их «от всяких податей» в обмен на поставки меха в Москву (1941: 2/148). В 1830-х годах еще один сибирский историк с диссидентским прошлым, Петр Словцов, с горечью писал, что, занимаясь поиском зверей, первопроходцы Сибири игнорировали все остальное, включая металлы, которые впоследствии обнаружились в тех же местах; позже это повторится на Аляске. «Сибирь как страна заключала в себе золотое дно, но как часть государства представляла ничтожную и безгласную область», – писал Словцов. В своем «Историческом обозрении Сибири» он довольно часто называл Сибирь колонией.
Петр Великий отверг древний символ российской власти, шапку Мономаха с ее собольей оторочкой, ради имперской короны из золота и бриллиантов. Но память о пушистых источниках российских богатств была жива и в петровской империи. Путешественник, посетивший Москву в 1716 году, записал местную интерпретацию греческого мифа об аргонавтах: золотое руно – это сибирские меха, а аргонавты – торговцы пушниной (Погосян2001: 282). Самые успешные из сибирских пушных промышленников, Строгановы, поставлявшие соболя Ивану Грозному и столетиями финансировавшие царей, давно перешли к новым видам бизнеса – солеварению, добыче железной руды, выплавке металлов; в XIX веке один из Строгановых стал президентом Академии художеств, другой – министром внутренних дел. Но когда эти сибирские олигархи, родом из поморских крестьян, приобрели графское достоинство, щит на их гербе держали два соболя. Богатства, порожденные пушным промыслом, не знали границ; не знали их и мифы, связавшие сибирские меха с русской душой. Вершиной этого мифотворчества стал роман австрийского писателя и историка-слависта Леопольда Захер-Мазоха «Венера в мехах» (1870), в котором славянская красавица дает и получает наслаждение от игр с двумя русскими символами, кнутом и соболями.

Илл. 9. Герб Строгановых. 1753. Два соболя держат щит с изображением медвежьей головы. Девиз Строгановых гласил: «Ferram opes patriae, sibi nomen» («Отечеству принесу богатство, себе – имя»).
Маркс в «Капитале» сравнивал первоначальное накопление капитала с первородным грехом, который европейцы совершили в своих колониях. «Но в кроткой политической экономии искони царствовала идиллия», – иронизировал Маркс (1983: 663). Истоки имперских богатств скрываются в кровавых сырьевых товарах – серебре, мехах, слоновой кости. Это низкое происхождение величия ускользает из корыстной памяти империй и их наследников, национальных государств в метрополиях; отсюда и кротость политэкономии, и идиллия имперской истории. Но были и еретики. Среди русских ученых-историков XIX века ключевую роль пушного промысла в развитии России описал один Афанасий Щапов. Он знал о тех трагедиях, что происходили на передовой линии «зоологической колонизации», где казаки истребляли местные племена, стремясь заставить их истреблять пушных животных. Примером, к которому часто прибегал Щапов, была поздняя колонизация Алеутских островов, где русские принуждали местное население охотиться на морских бобров, пока не исчезли и каланы, и алеуты (1906: 2/291). Жертвы этих геноцидов были неграмотны, немногие бывшие там европейцы были их соучастниками, а историки молчали о них, идентифицируясь с палачами. Об алеутской катастрофе мир узнал благодаря свидетельству миссионера Иннокентия Вениаминова, ставшего потом одним из самых уважаемых иерархов православной церкви. В этой ситуации Щапов разработал свой анахронистический метод, воображая далекое прошлое по аналогии с недавними и лучше известными случаями. Он понимал и историческое значение пушного зверя для России, и связь между его истощением в сибирских лесах и наступлением Смутного времени в Московском государстве. Идеи Щапова оказывали влияние на российских радикалов вплоть до начала XX века (см. главу 11).
В начале ХХ века пушной промысел был еще жив, и сибирские ссыльные, среди них будущие вожди революции, приняли в нем участие. Юный Лев Троцкий во время ссылки в Сибирь в 1900–1902 годах «пару месяцев» работал на купца Якова Черных, который в верхнеленских селениях обменивал у тунгусов меха на водку и ситец, а потом продавал меха в Москве. Будучи неграмотным, Черных получал миллионы рублей прибыли, и на него работали тысячи человек на огромных пространствах от Лены до Волги. «Диктатура его… была неоспоримой», – рассказывал Троцкий (1922); вспоминая о Черных с насмешкой, он намекал на то, что благодаря этому пушному олигарху понял некоторые особенности русской диктатуры, а заодно и политэкономии. Троцкий вспоминал Черных в 1922 году в поучительной полемике с Михаилом Покровским, учеником Ключевского, который претендовал на лидерство в советской исторической науке. Полемика была знаковой: народный комиссар военных и морских дел спорил с заместителем народного комиссара просвещения. Оба соглашались, что историческое развитие России было, по определению Троцкого, «неравномерным», но Покровский нападал на Троцкого за то, что тот не видел «связи фактов» и не объяснял «диалектически» крайности, присущие российской истории. На деле объяснительная схема Покровского состояла в систематической аналогии между российской «неравномерностью» и европейским колониализмом. Эта аналогия была, писал он со здоровой самоиронией, «одной из моих ересей». Противореча сам себе, Покровский писал, что Россия развивалась «по типу… колониальной страны», хотя «форменной колонией Россия все-таки не была». Он с удовольствием цитировал заключительные главы первого тома «Капитала», которые рассказывают, как по окончании Средних веков «колониальная система» играла «решающую роль» в Европе, а «неведомый бог» колониализма «взошел на алтарь наряду со старыми божествами Европы» (Маркс 1983: 697). Утверждая преемственность между Строгановыми и Черных, Покровский видел в них примеры российской «колониальной системы» и так объяснял «комбинированное и неравномерное развитие» по Троцкому. В итоге Покровский задавал Троцкому замечательный вопрос:
«Колониальная система» была приложима только в странах с жарким климатом и цветнокожим населением, или ее можно мыслить и в обстановке сибирской тайги, либо севернорусского болота? Необходимо ли для этого, чтобы по степям бегали страусы, по лесам бродили носороги, или же достаточно лисицы, соболя и горностая? ([1922] 1933: 145–147).
Перерабатывая наследие Ключевского, чтобы переписать российскую историю в марксистском ключе, Покровский легко применял колониальные идиомы, но предпочитал ссылаться на Маркса, и о «колониальной системе» писал в уважительных кавычках. Понимая значение пушного промысла для развития российской «колониальной системы», Покровский рекомендовал подчиненным ему советским учителям истории делать из его «ереси» педагогические выводы: «Дело преподавателя, – пользуясь примерами из жизни колониальных стран, показать учащимся… признак[и] катастрофически быстрого развития капиталистической России» (1922).
По другую сторону океана импульс исследованиям российской колониальной торговли дал американский ученый Фрэнк А. Голдер. Родившийся в Одессе, Голдер начал карьеру в 1899 году с должности учителя английского языка на Аляске. В это время, через тридцать лет после ухода России с Аляски, местное население все еще предпочитало русский язык английскому: по случаю Дня независимости США Голдеру пришлось держать речь на русском языке. Потом он изучал российскую историю в Гарварде, а в 1921 году принимал участие в работе АРА (Американской администрации помощи), которая пыталась помочь жертвам голода в Поволжье. Между этими занятиями Голдер написал капитальный труд о российской экспансии в Тихом океане (Golder 1914). Основываясь на собственном опыте, он критически анализировал пушной промысел и сибирских промышленников, которых все еще воспринимали как новых аргонавтов:
Сибиряки в XVII и XVIII веках были частью движения, в котором были застигнуты… но от нас ожидают, что мы падем перед ними на колени и поклонимся этим героям. В сущности, они были в лучшем случае весьма обычные люди, а многие – порочны и развращены… В каждом портовом или пограничном городе встречаются такие (цит. по: Lantzeff, Pierce 1973: 224).
Два историка из Калифорнии, Гарольд Фишер (соратник Голдера по АРА) и Джордж В. Ланцев, продолжили труд Голдера (Dubie 1989; Emmons, Patenaude 1992). Рассуждая о меховой торговле уже в 1950-х годах, Ланцев писал, что «никогда еще погоня за одним-единственным товаром не приводила к приобретению столь огромной территории, как это было в России» (введение к Lantzeff, Pierce 1973). Можно добавить, что ни одна погоня за одним-единственным товаром не была столь же прочно стерта из истории человеческих страданий. Мы кое-что знаем о Кортесе и о Куртце, но, глядя на роскошные портреты одетых в меха английских королей, никто не думает о малых народах Арктики, которые меняли эти меха на милость российского государя.