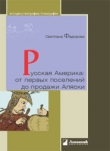Текст книги "Внутренняя колонизация. Имперский опыт России"
Автор книги: Александр Эткинд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут», – писал Редьярд Киплинг в 1889 году. Но они сходили с мест и встречались множество раз, и Киплинг, хоть его часто понимают неверно, это прекрасно знал: «Но нет Востока, и Запада нет… Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает!» (1989: 275).
Скрупулезно анализируя отношения между Первым и Третьим миром, постколониальные исследования слишком буквально следовали первой строке из баллады Киплинга, не замечая ее деконструирующей логики. В Большой игре между Британской и Российской империями, которую Киплинг описал в романе «Ким», в схватку вступают не два, а три элемента: Англия, Индия и на заднем плане – зловещая Россия. Игра толкает Индию на запад, а Россию на восток, и эту игру Киплинг вписывает в геополитику, угрожающую миру. Ким, мальчик-ирландец, в Индии ставший британским шпионом, борется с проникновением России способами, которые похожи не то на прошедшую Крымскую, не то на грядущую холодную войну.

Илл. 1. «Спасите меня от моих друзей!» Афганский эмир между русским медведем и британским львом. Джозеф Суэйн. 1978
В более позднем стихотворении «Мировая с Медведем» («Truce of the Bear», 1898) Киплинг выводит жалкого нищего, который повествует о своем единоборстве с ужасным зверем, «с Медведем, что ходит, как мы». Единоборство, если оно имело место, произошло за пятьдесят лет до того, но нищий рассказывает о нем как о главном событии своей жизни. Медведь хорошо известен нищему: «Я знал его время и пору, он – мой… // Я знал его хитрость и силу, он – мой» (Киплинг 1989: 267). Встретившись со зверем пятьдесят лет назад, охотник пожалел его и не выстрелил, и в ответ медведь изуродовал ему лицо. Теперь бывший охотник зарабатывает деньги, демонстрируя желающим свои ужасные раны: «Снова и снова все то же твердит он до поздней тьмы: // Не заключайте мировой с Медведем, что ходит, как мы» (Киплинг 1989: 268). Хотя в стихотворении нет ни слова о России, поколения читателей воспринимали медведя именно как символ России, а смысл стихотворения видели в призыве к Британии не заключать союз с этим соперником. В 1919 году журналист Atlantic Magazine писала, что Киплинг был «поразительно прав». После русской революции военный союз с Россией казался плохой идеей, «мировой с медведем». С точки зрения журналистки, «русские явно ведут себя совсем как “медведь, что ходит как мы”». Она подтверждает, однако, что русофобия Киплинга в это время была непопулярна:
За последние годы интеллектуалы настолько русифицировались, что смех Киплинга может показаться кощунством. Они не способны увидеть, что он оказался поразительно прав: это заставило бы их признаться в своей поразительной неправоте (Gerould 1919).
Но конструкция, которую создает Киплинг в «Мировой», намного сложнее. Рассказчик – нищий Матун, «беззубый, безгубый, безносый, с разбитой речью, без глаз» не похож на человека, а медведь Адам-зад, «лапы сложив на молитву, чудовищен, страшен, космат»[8]8
В оригинале – эпитет «human», то есть похожий на человека. – Прим. перев.
[Закрыть], – как раз похож (Киплинг 1989: 267–268). Сходство Медведя и Человека подтверждается рефреном стихотворения; они словно близнецы, сошедшиеся в вечной схватке с открытым финалом. Надо вернуться к началу стихотворения, чтобы осознать, что рассказчик, нищий Матун – не белый человек, белыми у него были только бинты: «Ежегодно сопровождает беспечных белых людей // Матун, ужасный нищий, забинтованный до бровей» (Киплинг 1989: 267). Как в «Киме», конструкция здесь не линейная, а треугольная. Схватка и мировая имели место между индийским охотником и русским медведем, а англичане всего лишь публика для мемуара об этих давних событиях. Как гоголевский «Нос», это стихотворение превращает в двойников тех, кто в принципе не может быть подобным: часть и целое, зверя и человека, «двух и меньше чем одного».
Век империй заканчивался, и Великобритания все чаще считала Россию своим врагом. Во времена Киплинга обе империи обсуждали возможность российского нападения на Индию, в котором видели то месть за поражение в Крыму, то попытку вытеснить британцев из Азии. Термин «Большая игра», впервые употребленный в 1840 году британцами для обозначения их цивилизационной миссии в Средней Азии, изменил смысл, когда Россия расширила свое влияние в регионе, и стал означать местный конфликт двух империй (Yapp 1987; Hopkirk 1996). В 1879 году некий А. Дехневалла опубликовал памфлет «Великое российское вторжение в Индию», в котором описал будущую войну между Британской и Российской империями. Наступая через Афганистан, русские войска захватывают Пенджаб и центральные провинции Индии. Их вторжение отлично подготовлено многочисленными шпионами, которые провоцируют восстание низших каст. Британскую Индию спасает артиллерийский офицер, «тихий человек с большими мечтательными глазами», которому удается отвести войска в Кашмир и оттуда атаковать захватчиков. В конце концов Британия посылает флот в Балтийское и Черное моря и заставляет Россию купить мир ценой уступки Афганистана и Персии (Dekhnewallah 1879: 43, 66). Мировая война будущего воображалась по аналогии с войной прошлого – Крымской кампанией.
В замечательном рассказе «Бывший» («The Man Who Was», 1889) Киплинг утверждал: «Русский человек восхитителен, пока не заправит рубашку», то есть не будет пытаться вести себя так, как англичанин. Британский полк, размещенный на севере Индии, принимает гостя, некоего Дирковича, «русского из русских, согласно его собственным словам». Диркович (Dirkovitch) – казацкий офицер и журналист, пишущий для газеты, «чье название он все время обозначает по-разному», то есть явный шпион. Однако британские офицеры относятся к нему с уважением: он проделал много «черной работы в Средней Азии» и участвовал в таком количестве схваток, что большинству мужчин его возраста и не снилось. На плохом английском этот казак пытается напомнить Белым Гусарам об их цивилизационной миссии:
Все это время он до изнеможения выказывал себя европейцем… Он часами мог говорить о прекрасном будущем, которое ожидает соединенные силы Англии и России, когда… начнется великая цивилизационная миссия в Азии. Все это звучало неубедительно, потому что Азию нельзя цивилизовать европейскими методами. Она слишком велика и слишком стара для этого. Старую развратницу нельзя исправить (Kipling 1952: 29).
Рассказчик, один из Белых Гусар, думает, что Диркович слишком пьян: «как и любой другой», он знает, что надеяться на перемены в Азии бесполезно. Не доверяя Дирковичу, Белые Гусары принимают его за равного, выражая признание понятным для них расовым способом: если со своим союзником, индийским офицером, они не сядут за один стол, и он знает это, то Диркович проводит с англичанами долгие вечера в полковой гостиной. И правда, он может выпить больше коньяка, чем любой из них. Но неожиданно в гостиной появляется странное существо, «бывший человек», – жалкий афганец, который способен говорить по-русски и по-английски. Он оказывается бывшим офицером этого полка, который попал в Крыму в плен к русским и был сослан ими в Сибирь. Несколько десятилетий спустя «бывший человек» находит свой полк, «как голубь, вернувшийся домой», из Сибири в Индию. Избитый и запуганный, он раболепствует перед казаком, в котором сразу признает власть. А тот смутно угрожает британским офицерам: «Это всего лишь мелкое происшествие – такое мелкое, что никто и не вспомнит, вот он кто. Да, теперь он стал вот таким. И вы такими же будете, отважные братья-солдаты, вы станете такими же. Только вы никогда уже не вернетесь». Три дня спустя «бывший человек» умер. Провожая Дирковича, самый умный из его британских друзей бормочет про себя строки: «Вот уж будет веселье, когда он вернется вновь». Тема возвращения – центральная в рассказе. Британские войска в Индии ожидали возвращения событий Крымской войны. Дочитав рассказ до конца, мы неизбежно возвращаемся к его началу.
Поймите же, русский человек восхитителен, пока не заправит рубашку. Как человек Востока, он обворожителен. Только когда он начинает требовать, чтобы его воспринимали как самого восточного из людей Запада, а не самого западного из людей Востока, в нем проявляется расовая аномалия, с которой крайне сложно иметь дело. Никогда не известно, какая из сторон его характера возобладает через минуту (Kipling 1952: 28)[9]9
Не очень русское имя Диркович Киплинг мог выбрать по созвучию с именем русского агента в Средней Азии Ивана (Яна) Виткевича (1808–1839), отлично известного британцам. Человек с поразительной биографией, Виткевич был вильненским поляком, сосланным в Оренбург за участие в гимназическом заговоре. Виткевич служил солдатом, был переводчиком у Александра Гумбольдта и потом сделал карьеру под покровительством оренбургского губернатора Василия Перовского. Будучи российским резидентом в Кабуле в 1838 году, Виткевич перехитрил британских агентов и в связи с этим успехом был отозван в Санкт-Петербург. После аудиенции у министра иностранных дел Карла Нессельроде, который, видимо, отказал ему в поддержке, Виткевич покончил с собой (Volodarsky 1984; Халфин 1990: 168–175).
[Закрыть].
Современник Киплинга Джордж Натаниель Керзон посетил Россию перед тем, как был назначен вице-королем Индии (1898–1905). В своей первой книге – это был его российский травелог – он писал: «Ни по какому вопросу в Англии нет такого конфликта мнений, как по вопросу о возможных планах России в отношении Индии». После поездки в Россию Керзон ощутил этот конфликт внутри себя: «Каждый англичанин въезжает в Россию русофобом, а уезжает из нее русофилом» (Curzon 1889: 11, 20). Эта ранняя версия «Из России с любовью» красноречиво описывает отношение британцев к России, хоть и является чрезмерным обобщением. После отъезда из России Керзона продолжала беспокоить «русская угроза»: «Россия обречена и дальше продвигаться вперед, как Земля обречена вращаться вокруг Солнца», – пишет он. С другой стороны, если продвижение России в Азию будет «завоеванием одних людей Востока другими», оно должно быть приемлемо для британцев, формулировал Керзон (Curzon 1889: 319, 372). В свою бытность министром иностранных дел (1919–1924) Керзон провел на карте ту самую «линию», названную его именем, – границу между революционной Россией и только что получившей независимость Польшей. Через много лет она стала восточной границей Европейского союза и во всех практических отношениях все еще делит мир на Запад и Восток.
На революцию в России Киплинг ответил стихотворением «Россия – пацифистам». Странным образом он оплакивал Российскую империю, высказывая тревогу о возможности повтора далекой трагедии у себя дома: «А кто еще на слом, господа? Кто следующий – на слом?» В результате у него получился еще один, и, конечно, ранний, вариант истории о бумеранге: «Мы роем народу могилу с Англию величиной» (Киплинг 2011: 192).
Декларация БальфураСогласно Саиду, ориентализм – это способ мысли и действия, которые циклически связаны между собой, так что они пагубно влияют и на реальную жизнь Востока, и на то, как ее понимают люди Запада. Политическое действие создает знание, которое, в свою очередь, определяет поведение колонизаторов и направляет их исследования. Одним из значимых для Саида примеров был Артур Джеймс Бальфур, английский политик начала ХХ века, заложивший в 1917 году основы для еврейской миграции в Палестину. Как показал Саид, «аргументы Бальфура, если свести их к простейшей форме, абсолютно ясны… Есть люди Запада, и есть люди Востока. Первые господствуют, вторые нуждаются в том, чтобы над ними господствовали». Двойная доктрина западной власти и ориенталистского знания покоилась на «абсолютном разграничении между Востоком и Западом», которые использовались «в качестве отправной и конечной точки анализа». Их «полярное разграничение», «бинарное противопоставление» и «радикальное различие» обеспечили «буквальное и эффективное» воплощение того, что Саид назвал бальфуровским типом ориентализма. В представлении Бальфура с ходом истории «восточные люди становятся еще более восточными, а западные – еще более западными», что Саид называл «поляризацией различия». Бальфур был человеком дела, но «восточные люди оставались для него платоновской сущностью» (Саид 2006: 56–72).
Платоновскую сущность невозможно изменить, расширить или поляризовать. Она не может сливаться с другими сущностями. Наконец, она не может осознавать саму себя. Однако Бальфур заслужил такую критику. В 1917 году он использовал киплинговские строки «Запад есть Запад, Восток есть Восток», чтобы убедить своих коллег по кабинету министров, что к таким территориям, как Индия, нельзя применять понятие «самоуправление». Даже на Западе, говорил Бальфур, парламентские институты редко достигают успеха, «кроме как у англоговорящих народов». Керзон назвал это выступление, будто сошедшее со страниц иронического рассказа Киплинга, «очень реакционным» (Gilmour 1994: 485). В ответ на события, происходившие в России, Бальфур проецировал свой ориентализм не только на индийцев или арабов, но и на российских евреев. Встретившись в 1906 году с будущим лидером сионистов Хаимом Вейцманом, Бальфур спросил этого выходца из Белоруссии, куда евреи хотели бы переехать: в Уганду или Палестину? В Манчестере политик обсуждал с эмигрантом разнообразные и, возможно, взаимозаменимые земли Востока, такие как Палестина, Уганда и территории черты оседлости Российской империи. Вейцман ответил вопросом на вопрос: «Г-н Бальфур, если бы я предложил англичанам Париж вместо Лондона, вы бы согласились?» Бальфур заметил: «Д-р Вейцман, Лондон у нас уже есть». «Это так, – возразил Вейцман, – а у нас был Иерусалим, когда Лондон еще был болотом». Вместо того чтобы задуматься о значении слова «нас» в этой конструкции, Бальфур спросил: «И много евреев думают так, как вы?» На это Вейцман ответил: «Я знаю, что так думают миллионы евреев, которых вы никогда не встретите и которые не могут говорить от своего имени» (Weizmann 1949: 144).
Рожденный в деревне Мотол под Пинском, Вейцман в глазах Бальфура выглядел экзотичным. Тот знал, как разговаривать с восточными людьми, и придирчиво расспрашивал Вейцмана; но и Вейцман хорошо знал свое дело. Он разговаривал с Бальфуром не просто от имени чужого племени, но как представитель народа невидимого и неизвестного, народа, который не может говорить сам за себя. Десять лет спустя, став министром иностранных дел, Бальфур вручил Вейцману свою знаменитую декларацию, выражавшую британское «сочувствие сионистским устремлениям» и поддержку создания в Палестине «национального очага для еврейского народа». Это не означало создания еврейского государства. Бальфур проводил политику по аналогии: ведь российская черта оседлости тоже не подразумевала государственности для евреев. Безгосударственный народ перемещался из-за нарушенной черты рухнувшей Российской империи за новую черту, проведенную Британской империей. Декларация Бальфура была подписана 2 ноября 1917 года, за пять дней до большевистской революции. Цель этого документа была двоякой – создать британский протекторат для евреев в Палестине и предотвратить политический взрыв в России, где большевики, часть которых была евреями, думали о сепаратном мире с Германией.
Так вышло, что Вейцман и Бальфур стали близкими друзьями, что напоминает историю Робинзона и русского князя. Не выдерживая практического применения, менялись и эссенциалистские теории Бальфура. «Люди Востока» включали теперь и пинского еврея, и иерусалимского муфтия: оба были важны для британской политики в Палестине. Да и сама восточная политика Британии, включавшая теперь и Восточную Европу, была иной. Население Востока состояло из разнообразных групп, между которыми правительство Бальфура посредничало во имя империи. Этот Восток не был миром платоновских сущностей, а скорее напоминал витгенштейновскую констелляцию образов, людей и территорий. Между ними не было ничего общего, кроме воображаемой, одинаково далекой дистанции, отделяющей их от Тринити-колледжа в Кембридже, где Бальфур учился на юриста.
Если для Киплинга Россия была мифическим врагом, который всегда угрожал, но так и не вторгся в Индию, то Джозеф Конрад в детстве пережил российское господство в своей родной Польше. Для взрослого Конрада российская колонизация была пространством катастрофы, уже совершившейся и всегда вновь ожидаемой, преступным разделом единого тела, «мировой с медведем». Поразительно, что в первой книге Эдварда Саида «Джозеф Конрад и автобиографический вымысел» (Said 1966) практически игнорируются мучительные отношения Конрада с Российской империей, которые стали одним из центральных элементов его биографии, вымысла и автобиографии (см. главу 11). Критик Бальфура и Керзона, Киплинга и Конрада, Саид не заметил их одержимости Россией, низведя их многомерные миры до традиционного, одномерного ориентализма.
Дядюшкин урокВо вселенной Саида не было места Второму миру. Рисующие картину его неожиданно одинокой, аполитичной юности, мемуары Саида подсказывают возможное объяснение. Для подростка, росшего в семье арабов-христиан в Иерусалиме и Каире, отгороженного от реальной жизни богатством отца и любовью матери, пробуждением стала египетская революция 1952 года. После переворота отец Эдварда лишился значительной части бизнеса, а мать стала ярой сторонницей лидера революции Гамаля Абделя Насера, все более сближавшегося с СССР. Семнадцатилетний Эдвард стал свидетелем и участником семейных споров о политике – Холодной войны в миниатюре. Его симпатии были на стороне матери, хотя он не соглашался с ее «социалистическим панарабизмом» (Said 1999: 264). Противоположный полюс воплощал, однако, не отец, занятый делами, но еще один родственник – Чарльз Малик, муж тети.
Философ, учившийся у Хайдеггера, и государственный деятель, составивший вместе с Элеанор Рузвельт текст Всеобщей декларации прав человека, Малик был выдающейся фигурой. Посол Ливана в США, позже Малик занимал должность ливанского министра иностранных дел, а в конце 1950-х – председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Саид называл его «харизматической» и «поляризующей» фигурой. Визионер и космополит, Малик был истинным воином холодной войны. Ведущей темой его речей и памфлетов был антикоммунизм.

Илл. 2. Чарльз Малик и Элеанор Рузвельт работают над текстом Всеобщей декларации прав человека, 1948. Эдвард Саид мог быть среди этих детей.
Сначала юный Эдвард был очарован знаменитым родственником, но с годами дядя все сильнее раздражал его. Малик предупреждал свободный мир об опасности порабощения Советским Союзом с его «миссионерским пылом и империалистическими идеями». В 1960 году во время дебатов с Эдвардом Теллером, отцом водородной бомбы, Малик поделился своей мечтой о мирном распаде коммунизма под давлением изнутри. Для этого, считал Малик, существует «множество возможностей, кроме войны» (Teller, Malik 1960). Он ненавидел «нейтрализм» и охотно оперировал понятиями «Запад» и «Восток», посвящая их философскому анализу многие страницы своих трудов. Для Малика коммунизм и ислам были двумя силами, занимавшими «промежуточное» и «неаутентичное» положение между Востоком и Западом. Ливанский христианин, он в равной мере не доверял коммунизму и исламу, но с особой страстью нападал на Советы. «Коммунизм бесконечно изобретателен в своем стремлении отравить нормальные отношения между Западом и Востоком», – писал Малик в 1953 году, во время революции в Египте. Примерно в это же время он рассказывал Эдварду Саиду «о столкновении цивилизаций, войне между Востоком и Западом, между коммунизмом и свободой». В этих словах сквозит недоверие Саида к рассказам дяди, но оценить интенсивность и длительность его борьбы с влиянием Малика помогает другая цитата: «Мне ясно, что это был великий отрицательный интеллектуальный урок моей жизни». Все последующие десятилетия, признавал Саид в 1999 году, он жил под воздействием этого «урока», анализируя его «вновь и вновь с сожалением, ощущением тайны и бесконечным разочарованием» (Said 1999: 264–265).
Для многих интеллектуалов Третьего мира Советский Союз был вдохновляющим образцом, а для некоторых – также и источником поддержки. Самые известные леворадикальные мыслители принимали участие в борьбе за освобождение, которую направлял (а порой и манипулировали) СССР. Эту конвергенцию коммунизма и антиимпериализма в начале XX века иллюстрирует судьба американца Джона Рида, сторонника большевистской революции, который умер в Москве в 1920 году после участия в Конгрессе народов Востока в Баку. Жизнь и труды Розы Люксембург, Антонио Грамши и Жан-Поля Сартра являются более значимыми примерами. Но по мере того как Советский Союз превращался в крупное империалистическое государство, на равных соперничавшее с другими сверхдержавами, свободомыслящие, тяготевшие к марксизму интеллектуалы лишались своих интеллектуальных опор. Те способы, которыми мыслители ХХ столетия понимали две основные тенденции своего времени – деколонизацию и распад имперского порядка, с одной стороны, и холодную войну и распад социалистической системы, с другой, – мучительно противоречили друг другу.
Именно в основополагающих трудах Саида заметна эта неполнота постколониального мировоззрения, которое отмахивалось от Второго мира как от досадной помехи. Для либералов, которые верили в «теорию модернизации», Второй мир не отличался от Третьего, так как оба они были только ступенями на лестнице усовершенствования, ведущей в Первый мир. Постколониальные критики рассуждали обратным образом: для них Второй мир не так уж сильно отличался от Первого, поскольку ни тот ни другой не смогли поддержать Третий мир. Это безразличие ко Второму миру укрепилось, когда советский режим рухнул, надежды его попутчиков не оправдались, а уважение к нему сменилось презрением. Саид, однако, никогда не был советским попутчиком. Юношеские споры с матерью, сторонницей Насера, привели к упорному избеганию им просоветских идей, которые были популярны в его кругу. Со своим рано сформировавшимся «бесконечным разочарованием» в идеях своего круга Саид пытался найти особенный, творческий путь, который бы развенчал принципы и Насера, и Малика. Но к этому времени пали не только режим Насера в Египте, но и СССР. Если бы Малик дожил до 1991 года, он бы радовался тому, как сбылось его предсказание о ненасильственном распаде социалистической системы под давлением изнутри. Саид никак не отозвался на эти и дальнейшие события во Втором мире. Комментировать их значило бы согласиться с дядей.
Но в одной из последних своих книг Саид попытался взглянуть на Восточную Европу чуть более пристально. В книге «Фрейд и неевропейское» (Said 2003) Саид обратился к восхитительной и спорной идее Фрейда, что Моисей, основатель иудаизма, был не евреем, а египтянином. Саид был прав, подчеркивая ориенталистский интерес Фрейда к Египту; но Фрейда в такой же степени интересовал и «нетрадиционный Восток». Более глубокий анализ показал бы, что в кругу Фрейда германские и австрийские евреи смотрели на евреев-беженцев из Восточной Европы сквозь призму тех самых стереотипов, которые были описаны Саидом в «Ориентализме». Однако клиентура в Вене по большей части состояла именно из восточноевропейских евреев (Эткинд 1993). Как и в случае с Моисеем, Фрейд не шел по пути стереотипов.
Замечательная книга Саида о Фрейде заканчивается самым неожиданным образом – панегириком Исааку Дойчеру, тоже «еврею, но не иудею», поляку, ставшему британским подданным, критиком сталинизма и сионизма, автором фундаментальной биографии Троцкого. Фрейд выбрал Моисея, а Саид – Дойчера: оба евреи, но не сионисты; подлинные европейцы, но не люди Запада; борцы с идолами, преданные революционеры… Этот удивительный выбор – свидетельство интереса позднего, зрелого Саида ко Второму миру.