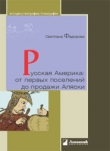Текст книги "Внутренняя колонизация. Имперский опыт России"
Автор книги: Александр Эткинд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
Быть колонией – значит иметь суверена вне своей территории. Но с Россией и Древней Грецией все было не так: на разных стадиях своей истории они и колонизовали другие народы и земли, и сами подвергались колонизации. Весь потенциал этой системы сходств и различий Уваров реализовал, занимая должности президента Академии наук и министра просвещения. В духе уваровского просвещенного – даже утилитаристского – монархизма официальный историограф Российской империи Карамзин поддержал идею, что славяне с помощью Рюрика создали самодержавие, чтобы усмирить самих себя. Внутренние конфликты и годы нищеты «открыли Cлавянам опасность и вред народного правления», и в результате они «возненавидели его и единодушно уверились в пользе Самодержавия». Но Карамзин делает еще один шаг, противопоставляя создание государства в России и в других странах: «Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили Самовластие… в России оно утвердилось с общего согласия граждан: так повествует наш Летописец» (1989: 1/93). В Западной Европе норманны захватили Францию и Англию, но в земли славян их пригласили. Карамзин не только испытывал сомнения в исторической точности летописного рассказа о Рюрике, но и счел нужным отразить эти свои сомнения в официальном тексте своей «Истории». И все же вера в ненасильственный характер русской экспансии, важная для Карамзина, вытекала именно из мирного призвания варягов. В договорном характере правления, даже если оно было правлением над дикими народами, вряд ли способными к договорам, и состоит отличие Российской империи от ее соперников:
Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею… Подобно Америке Россия имеет своих Диких; подобно другим странам Европы являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть Русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира… без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего (Карамзин 1861: 7/107).
Михаил Погодин, сын крепостного и профессор Императорского Московского университета, еще усилил этот контраст. Для него история Рюрика, этот «судьбоносный текст», стал притчей, которая разрешает «тайну российской истории» (1859: 2; Maiorova 2010).
История всякого государства есть не что иное, как развитие его начала… Начало государства есть самая важная, самая существенная часть, краеугольный камень его Истории, и решает судьбу его на веки веков. В начале должно искать источника главных государственных явлений, и вместе отличия Русской истории от всех прочих, западных и восточных (Погодин 1846: 2).
Происхождение и история здесь различаются, причем первое определяет последнюю. С точки зрения Погодина, приглашение Рюрику «прийти и владеть нами» было не однократным событием, как описано в «Повести…», а продолжающейся цепью однотипных событий, вроде сериала. «Как на Западе все произошло от завоевания, так у нас происходит от призвания, беспрекословного занятия и полюбовной сделки». Для Погодина российский «государь был званым мирным гостем, желанным защитником», а западный государь – «ненавистным пришельцем, главным врагом, от которого народ напрасно искал защиты» (1859: 187, 218). Исток занял свое место и стал вечным центром империи.
Приспосабливая историю Рюрика под свою теорию происхождения, Погодин централизовал свое собственное владение, российскую историографию, на основе идеи добровольной колонизации. Концепция «полюбовной сделки» соответствовала колониальной доктрине его начальника Уварова. В 1818 году, когда Погодин был еще студентом, Уваров сформулировал идею, которая стала центральной для его нарративов просвещения и власти в России:
Невозможно основать или удержать свое владычество одною силою меча… Завоевание без уважения к человечеству, без содействия новых, лучших законов, без исправления состояния побежденных – тщетная, кровавая мечта. Но побеждать просвещением, покорять умы кротким духом религии, распространением наук и художеств, образованием и благоденствием побежденных – вот единственный метод завоевания, от коего можно ожидать прочности вековой, и который может некоторым образом освятить право сильного (цит. по: Майофис 2008: 281).
Если такой проект и выглядел нереалистичным, пример Рюрика помогал усвоить его. Пролив моря крови во внешних и внутренних конфликтах, государственные деятели постнаполеоновской Европы хотели царить в сердцах и умах своих подданных. Становясь все более консервативным, Уваров создал тройной лозунг «Самодержавие – православие – народность», который Романовы проповедовали и проводили в жизнь до 1917 года (Рязановский 1959; Зорин 1997). Но Уваров уделял внимание и религиозным меньшинствам, например евреям, выражая надежду на их моральное и культурное сближение с христианским обществом (Stanislawski 1983: 68). Сергей Соловьев, который стал профессором истории при Уварове, шутил, что Уваров поклонялся Православию, но не верил в Христа, проповедовал самодержавие, но был либералом и призывал к народности, хотя не прочитал ни одной русской книги (1983: 268). Последнее уж точно несправедливо.
При Уварове российские историки становились все более профессиональными. Они чувствовали обязанность писать и преподавать российскую историю во всемирном сравнительном контексте, который выталкивал уникальные и странные события, как призвание Рюрика, на периферию исследования. Такой взгляд не помешал их историям превратиться в имперский нарратив, повествующий о том, как постепенно и неуклонно росла мощь российской державы. Но сначала им приходилось иметь дело с Рюриком, история призвания которого открывала их учебники. Основатель российской истории как академической науки Сергей Соловьев замкнул этот круг, соединив Рюрика с Петром I. Без видимых оснований историк заставил Рюрика высадиться со своей ладьи именно на том месте, где позже был построен Санкт-Петербург: «Положение при начале великого водного пути, соединяющего и теперь Европу с Азией, условило важное значение Петербурга как столицы: здесь в IX веке началась первая половина русской истории, здесь в XVIII – началась вторая ее половина» (1988: 1/60). Зато великий ученик Соловьева Василий Ключевский пересказывал историю варягов с откровенным раздражением:
Что это такое, как не стереотипная формула идеи правомерной власти, возникающей из договора, – теории очень старой, но постоянно обновляющейся… Сказание о призвании князей, как оно изложено в «Повести», совсем не народное предание… это – схематическая притча о происхождении государства, приспособленная к пониманию детей школьного возраста (1956: 1/144).
Ирония – частый гость в трудах Ключевского, и договорную теорию власти он приписывал православным монахам XII века с очевидной насмешкой, понимая, что это анахронизм. И правда, Нестора ли винить в том, как его история была приспособлена к российской школе? Мысль о том, что история варягов была вставлена в «Повесть» кругом Татищева под влиянием Пуфендорфа, имела бы очевидный смысл; проблема в том, что и другие списки «Повести временных лет», которых не трогали руки Татищева, тоже упоминают Рюрика. Ключевский сомневался в подлинности этой части «Повести», но эти сомнения оставил запискам, которые не предназначал к публикации (1983: 113; Киреева 1996: 424).
Соединив в себе историографические и идеологические проблемы, фигура Рюрика воплотила споры об империи и нации, суверенитете и современности, которые вновь и вновь возникали на поворотах российской и мировой истории. Устав от погони за Рюриком, но видя невозможность стереть его из летописей, российские историки создали ряд творческих концепций, эпистемологических Рюриковичей, у которых появилась собственная энергия воспроизводства.
Глава 4
Страна, которая колонизуется
Русские романтики и потом советские поэты воспевали тепло и красоту России. Историки, напротив, были склонны к тревогам в отношении российского климата, природного и социального. «В семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников… Мы как бы чужие для себя самих», – писал Чаадаев, открывая русскую интеллектуальную историю (см. главу 3). Для русских природа была не матерью, а мачехой, писал Сергей Соловьев (1988: 7/8 – 9). Во время смуты XVII века, по словам Василия Ключевского, «московские люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государстве, случайными, временными обывателями в чужом доме» (1956: 3/52). Удивительно, но тот же оксюморон Ключевский применяет и к Петру I, человеку XVIII века: «Петр был гостем у себя дома» (1956: 4/31). Еще интереснее, что этот троп всплывает вновь, когда Ключевский описывает типического дворянина начала XIX века: «…с книжкой Вольтера в руках где-нибудь… в тульской деревне», этот дворянин был «чужой между своими» (1956: 5/183). Наконец, в очерке о пушкинском «Евгении Онегине» Ключевский теми же словами говорит о литературном персонаже: «Он был чужой для общества, в котором ему пришлось вращаться» (1990: 9/87). Колонизация всегда связана с попыткой освоить чужое, а ее неудачи и срывы приводили к размножению объективирующих дискурсов о своем. Если ощущение невозможности стать своим среди чужих часто сопровождало неудачи внешней колонизации, то ощущение себя чужим среди своих оказалось постоянной формой недовольства и протеста, связанных с ситуацией внутренней колонизации. Этот троп – быть чужим среди своих; тосковать по родине, оставаясь дома, – популярен и среди деятелей афроамериканского движения, и среди постколониальных авторов. «Почему Бог сделал меня странником и изгоем в моем собственном доме?» – спрашивал в 1903 году афроамериканский интеллектуал У.Э.Б. Дюбойс. «Отчуждение от дома – парадигматическое колониальное и постколониальное состояние», – утверждает Хоми Баба; для него основная проблематика колониального сознания – не в отношениях Себя и Другого, но в Чуждости Себя, Инакости Я, Otherness of the Self (Bhabha 1994: 13, 62; см. также: Kristeva 1991). В этой главе мы увидим, как в XIX веке пионеры российской историографии искали и находили похожие термины, чтобы рассказать об имперском опыте России[10]10
В своем интересном исследовании Сергей Глебов (2011: 295) показывает оживление антиимперской риторики и освоение колониальной терминологии в среде российских эмигрантов-евразийцев. По наблюдениям Глебова, «эмиграция со свойственной ей неуверенностью в собственном статусе» идентифицировала Россию в качестве «объекта европейского колониализма». Как показывают многие примеры, от Чаадаева до Любавского, российская интеллигенция высказывала сходные идеи задолго до евразийцев и отлично от них; возможно, этот постоянный антиимперский мотив связан с неуверенностью в собственном статусе, которая часто была свойственна российской интеллигенции.
[Закрыть].
Посетив Россию в 1843 году, Август фон Гакстгаузен писал, что в России происходит не колониальная экспансия, а скорее, «внутренняя колонизация», которая стала «важнейшим предметом всей внутренней политики и экономики этой империи» (Maxthausen1856: 2/76). В отличие от других открытий, сделанных прусским чиновником в России (см. главы 7 и 10), это осталось почти без внимания. Однако Гакстгаузен наверняка опирался в своих суждениях на дискуссии с российскими коллегами, которые охотно использовали идею колонизации в надежде регулировать миграции российских крестьян на периферию империи, прежде всего на юг России и в Сибирь, а впоследствии – в Среднюю Азию. В 1861 году в Русском географическом обществе прошло одно из таких прений о колонизации, понимаемой как организованное переселение людских масс. Журналист и писатель Николай Лесков, который сам в молодости управлял внутренними переселениями (см. главу 11), отвечал на речь географа Михаила Венюкова, который в своих экспедициях много раз пересек Азию, а потом руководил аграрной реформой в российской Польше. Лесков утверждал, что на деле многие переселения направляются не в отдаленные владения империи, а в ее «серединные места», и в этом, говорил Лесков, состоит основное различие между британским и российским способами колонизации (1988: 60).
Середина и конец XIX века были периодом масштабной экспансии европейских империй (Arendt 1970). Российской империи, которая участвовала и в разделе Америки, и в Большой игре в Азии, надо было учиться говорить о том, что происходило на ее огромных внутренних пространствах. Историкам, освоившим язык мировых империй, нужно было приспособить иностранную идею колонизации к просторам провинциальной России. Концептуальный прорыв в этом деле совершил московский историк Сергей Соловьев. Ведя свою генеалогию как историка прямо от Шлёцера и координируя свои действия с министром просвещения Уваровым, он вступил в яростную полемику с Хомяковым и славянофилами, которых назвал «антиисторическим направлением». Применяя дискурс колонизации к допетровской России, Соловьев отрицал само различие между колонизующими и колонизуемыми: «То была обширная, девственная страна, ожидавшая населения, ожидавшая истории: отсюда древняя русская история есть история страны, которая колонизуется» (1988: 2/631).
Соловьев сформулировал эту поразительную фразу в своем обзоре древнейшей Российской истории. Если нет смысла разграничивать субъект и объект российской колонизации, зачем это делать? Соловьев живо описывал заботы страны, которая колонизуется:
Населить как можно скорее, перезвать отовсюду людей на пустые места, приманить всякого рода льготами; уйти на новые, лучшие места, на выгоднейшие условия, в более мирный, спокойный край; с другой стороны, удержать население, возвратить, заставить других не принимать его – вот важные вопросы колонизующейся страны (1988: 2/631).
Для колониального сознания нет большей дистанции, чем между колонией и метрополией. Как может страна колонизовать сама себя? Соловьев понимал эту проблему и специально подчеркивал ее:
Но рассматриваемая нами страна не была колония, удаленная океанами от метрополии: в ней самой находилось средоточие государственной жизни; государственные потребности увеличивались, государственные отправления осложнялись все более и более, а между тем страна не лишилась характера страны колонизующейся (1988: 2/631).
Для русского языка эта возвратная форма глагола, «колонизоваться», необычна, как и для других европейских языков. На русском она звучит безлично, но сильно и парадоксально. Несмотря на этот лингвистический факт или благодаря ему, Соловьев и его ученики постоянно употребляли именно эту формулу, «колонизуется». В своей многотомной истории Соловьев разъяснял, что колонизация России последовательно шла с юго-запада на северо-восток, от берегов Дуная к берегам Днепра и далее. На севере древнерусские племена продвигались к Новгороду и Белому морю, на востоке захватили Верхнюю Волгу и земли вокруг Москвы. Там они основали Российское государство, но колонизация продолжалась дальше на восток и далее в Сибирь. Важно, что Соловьев не применял идею «страны, которая колонизуется», к новой истории России. В последних томах его «Истории», посвященных «новой», а не «древней» российской истории, термин «колонизация» не встречается.
Марк Бассин (1993) сравнил соловьевскую идею «колонизующейся страны» с концепцией американского фронтира Фредерика Дж. Тернера. Сходства и различия этих идей существенны для российской и американской историографии. Как и американский фронтир, внешняя граница российской колонизации была нечеткой, расплывчатой и постоянно перемещалась. Как и в Америке, эта граница была ключевым фактором для имперской культуры. На обоих фронтирах особую роль играли преследуемые религиозные меньшинства (Turner 1920; Эткинд 1998; Breyfogle 2005). Но между концепциями Тернера и Соловьева есть существенные различия.
Тернер исследовал современные ему события в районе фронтира, тогда как Соловьев ограничивал самоколонизацию России древнейшим периодом ее истории, Средневековьем. Это не такое серьезное различие, как может показаться: в этой концепции колонизации нет ничего, что мешает применить ее к новой истории России. Как мы скоро увидим, если на такой шаг не решился Соловьев, то его сделал Ключевский. Внимание Тернера, однако, было сосредоточено на собственной культуре западного фронтира, и он детально исследовал механизмы ее влияния на культуру восточных штатов. Соловьев не оставил подобного описания внешней, движущейся границы российской колонизации, но другие историки подробно исследовали отдельные ее части[11]11
Наиболее примечательными мне кажутся следующие работы: Lantzeff, Pierce 1973; Slezkine 1994; Barrett 1999; Khodarkovsky 2002; Sunderland 2004; Breyfogle 2005; Долбилов 2010.
[Закрыть]. Пионеры пограничных земель – охотник, торговец и сектант – были примерно те же, хоть в России сюда нужно добавить казака; но вторая и третья линии колонизации сильно отличаются. В Америке, согласно Тернеру, на прилегающих к фронтиру землях последовательно хозяйствовали, по принципу «четырех стадий», охотники, скотоводы, фермеры и индустриалисты. Потом фронтир двигался дальше на запад, и туда же переносилась очередь из этих четырех стадий. В России было иначе. На протяжении веков граница колонизации все двигалась на восток, оставляя позади огромные пространства столь же девственными, как и прежде. В дальнейшем эти пространства приходилось колонизовать снова и снова. У американского фронтира и российской колонизации – разные топологии: первый непрерывен, как линии фронта и траншеи современных Тернеру войн; вторая оставляла разрывы, карманы и складки. Возможно, русский опыт ближе другому тезису об американской экспансии – идее Уолтера Уэбба о «Великой американской пустыне» между восточным и западным побережьями Северной Америки, которая оставалась неосвоенной долго после того, как линия фронтира пересекла ее всю. Как показал Уэбб, для культивации прерий требовались иные навыки и орудия, чем для заселения лесов, более понятных европейцам. Поэтому колонизация Америки напоминала не плавное движение линии с востока на запад, но прыжки, возвраты, бурные движения по краям и долгие паузы в середине (Webb 1931).
От Финляндии до Маньчжурии земли Северной Евразии, покоренные российским сувереном, сложно было наносить на карту; еще труднее было исследовать народы, их населявшие (Widdis 2004, Tolz 2005). По военным и торговым соображениям, земли и народы на границах, где экспансия останавливалась ввиду равного противника, всегда оказывались более известными, чем земли внутри страны. Хотя на разных участках огромной границы внешней колонизации России возникало множество зон, где колонизаторы сотрудничали, соперничали и гибридизовались с колонизуемыми, эти смешанные культуры были локальными, сильно различались между собой и далеко отстояли друг от друга во времени и пространстве. Создать единое этносоциологическое описание всех этих культур в рамках одного труда, как это сделал Тернер с американским фронтиром, кажется невозможным; никто и не ставил перед собой такой задачи. С помощью пороха, алкоголя и бактерий русские уничтожили, вытеснили или ассимилировали многие народы – соседей, конкурентов, союзников, врагов. Но этот процесс растянулся на столетия. Волны авантюр и насилия, тяжкого труда и массового скрещивания катились от центра России к движущимся границам колонизации; оттуда возвращались колониальные товары и знания. В культурном отношении российский фронтир был скорее скудным, зато в географическом – очень обширным. Как бы ни изменяло его время, он всегда растягивался на огромные пространства. В его пределах регулярные переходы от охоты к скотоводству и от сельского хозяйства к промышленному развитию были скорее исключением, чем правилом. Часто единственным выгодным бизнесом на многие века оставалось звероловство; иногда на земле, не знавшей плуга, сразу вырастали города.
Развиваясь центробежно, бурная жизнь на движущихся границах колонизации способствовала развитию экономических центров России, от Новгорода до Москвы и Санкт-Петербурга. Но даже и российские столицы были основаны на территориях, чужих для их основателей. Новгород и Киев были столь же иноземными для правивших там варягов, как Санкт-Петербург – для основавших его московитов. От границ и до столиц, пространство внутренней колонизации простиралось по всей России.
Щапов и «зоологическая экономия»Значительное влияние на идею российской колонизации оказал историк Афанасий Щапов, главные работы которого были написаны не в бытность его университетским профессором, а в то время, когда он был государственным чиновником и политическим ссыльным. Он первым представил колонизацию не как бурную и победоносную авантюру, а как кровавый, подлинно политический процесс. В нем были жертвы и победители, и задачей историка было разглядеть тех и других. Будучи в конце 1850-х профессором истории Императорского Казанского университета, Щапов разбирал архив Соловецкого монастыря, перевезенный в Казань во время подготовки к Крымской войне. В этом же северном архиве, уцелевшем в Казани, ведущий историк следующего поколения, Василий Ключевский, собрал материал для своей первой монографии о «монастырской колонизации» российского Севера. Первая написанная им рецензия была на работу Щапова, о котором Ключевский был «самого высокого мнения» (Нечкина 1974: 434).
К тому времени Щапова уже не было в Казани. В 1861-м он был арестован за подстрекательство к бунту, но потом помилован царем и, более того, назначен на чиновничью должность в Министерстве внутренних дел. Позже Щапов был сослан в Сибирь, где продолжал писать ревизионистские статьи, публикуя их в столичных журналах. Соглашаясь с Соловьевым, что российская история была историей колонизации, Щапов описывал этот процесс как «вековое напряжение физических сил народа… в тысячелетнем распространении колонизации и агрикультуры среди лесов и болот, в борьбе с финскими и турко-монгольскими племенами…» (1906: 2/182). Родившийся под Иркутском сын русского дьякона и бурятки (в Сибири таких людей называли «креолами»), Щапов подчеркивал роль смешения рас сильнее, чем другие российские историки. Ему помогало всеобщее в середине XIX века увлечение колониальной этнографией, которое Щапов перенял, в характерно спекулятивном ключе, от французских авторов. Зато Щапов вполне оригинален как первопроходец экологической истории. Он подробно описывал два направления русской колонизации: пушную, в ходе которой охотники постепенно истощали популяции пушных животных, продвигаясь все дальше в глубь Сибири и на Аляску, и рыбную, которая снабжала Центральную Россию пресноводной и морской рыбой и икрой.
Создавая свою концепцию «зоологической экономии», Щапов считал пушнину ключом к российской колонизации (1906: 2/280 – 293, 309–337). От Рюрика и до Ивана Грозного богатство России измерялось мехами. Бобры манили славян вверх по финским рекам, серая белка обеспечила богатства Новгорода, соболь звал московитов в бесконечную Сибирь, морская выдра довела их до Аляски и Калифорнии (см. главу 5). Колонизация для Щапова не несла отрицательного смысла; этот любимый им термин встречается почти на каждой странице его многословных и страстных текстов. За промышленниками шли, часто не по своей воле, ссыльные, казаки, крестьяне. «Сельскохозяйственная колонизация», писал Щапов, следовала за «пушной» и постепенно вытесняла ее. В экологическом отношении колонизация означала обезлесение. Вырубая леса для своих подсобных хозяйств, промышленники не знали, что они уничтожали именно то, что интересовало их в далеких и холодных землях, – пушных зверей. Движущей силой российской колонизации, по Щапову, были не меч и ружье, но топор и следовавший за ним плуг. Но им всем предшествовали лук и капкан. Щапов понимал российскую колонизацию как ряд параллельных историй – переселение людей, уничтожение животных, культивация растений и многогранный процесс открытия, заселения, возделывания и истощения земель. Такой концепции, многомерной, экологической и человечной, до Щапова не создал никто.