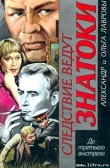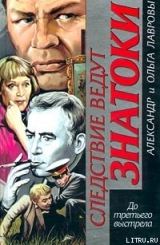
Текст книги "Волшебные узоры"
Автор книги: Александр Лавров
Соавторы: Ольга Лаврова
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
– Ваш друг, – обратился Пал Палыч к бежевой шторе, – судился за изготовление фальшивых денег. Это и есть восемьдесят седьмая статья. – Игнатовы ноги в стоптанных ботинках переступили, словно ища опоры более прочной, чем пол. – И, думаю, хотел вернуться к прежнему. Но возраст не тот, сноровка потеряна. Понадобился помощник. И тут он разыскал вас. Есть подозрение…
Батюшки, что вытворяет глазами, испепелить готов!
– Гражданин Михеев, у меня будут ожоги. Так вот, есть подозрение…
Зиночка. Что-то выкопала… Ну конечно! То самое!
– Уже не подозрение, – сказала она, понимая, что прямо-таки артистически вписывается в ситуацию. – Это называется «следствие располагает убедительными доказательствами», – и повернула лицом к публике склеенную из нескольких фотографий сильно увеличенную двадцатипятирублевку.
– Обалдеть! – выдохнул Афоня.
– Была прикреплена снизу к дну буфета.
Игнат показался из-за шторы.
– Видите, расчерчена по зонам трудности. Заготовка для вас, Игнат.
Зина вышла, оставив на столе гигантскую купюру.
«Следствие располагает доказательствами, – думал Пал Палыч. – Располагает. А я и теперь не знаю, почему он убил… истинной причины. Серов открыл бы глаза. Да разве он сам не готовился открыть глаза? И скоро… Если б они с Игнатом уже печатали, Серов грозил разоблачением – то понятно. А так…»
– Вы ведь привязаны к ребятам, верно, Михеев? И во что собирались втянуть.
На Михеева будто кипятком плеснули.
– Я должен был отдать их вам, да?! Чтобы они надрывались, как все?! Приносили пользу обществу? Я не хотел, чтобы вы приносили пользу! – воззвал он к Никишиным. – Я хотел, чтобы вы по-настоящему жили, для самих себя! Чтоб все могли! Свободные, сильные! – и снова Знаменскому: – Плевать я хотел на ваше общество! Что вы можете им предложить? Им лично?
– То, что делает человека человеком. А не просто двуногим. С крепкими зубами, а иногда и с ножом. – Прописные истины на скорую руку. Михеев красноречивей. Но что-то надо отвечать. – Свобода… Совершать преступления? А потом расплачиваться годами за решеткой?
– Нет, Игнаша, клянусь! – страстно заговорил Михеев в последней попытке сохранить хоть что-то от отношений с ребятами. – Ты сделал бы мне одно клише! Одно-единственное клише – и все! И живи, как хочешь, пиши свои картины, остальное я беру на себя! Вам с Афоней идут чистые, настоящие деньги! Ведь все преступления ради денег, а это – самое честное: не взятка, не кража, никому в карман не лезешь, не отнимаешь. Делать деньги! Как таковые. Хрустящие, переливчатые! И ты властелин, король!
Он зашелся, застонал от картины несбывшегося счастья и в бешенстве потряс кулаками в сторону Пал Палыча:
– Ох, если б не вы, проклятые!
Из двери выглядывали понятые. Живой фальшивомонетчик! До конца дней хватит рассказывать.
– Если б не мы? Как, Игнат? – тихо спросил Пал Палыч.
– Н-нет… все равно нет… – Игнат швырнул на пол забытые в руке, поруганные свои гравюры.
«Как знать, хорошо, что мы поспели вовремя», – подумалось Знаменскому.
Афоня сполз с дивана, собирал гравюры, давясь слезами, что-то бормоча. Пал Палыч расслышал «благодетель» и, кажется, «санитар истории».
Михеев поник, раздавленный. И Пал Палыч чувствовал – не он уложил Михеева на лопатки, тот еще сопротивлялся бы, если б не отшатнулись от него ребята, не отвергли его.
На секунду возник Томин, вручил записную книжку и письмо. Книжку Пал Палыч полистал бегло – немногочисленные адреса и телефоны. Взял конверт. Чистенький, совсем свежий, он заключал в себе пожелтевший от времени, до ветхости затертый листок. Ему, пожалуй, лет пятьдесят. Но тотчас Пал Палыч поправил себя: тогда писали перьевыми ручками, с нажимом и волосяными линиями. Этот же листок истрепался потому, что хранили его не в ящике для бумаг, а долго-долго носили в кармане.
Пробежал первые строки. Письмо от женщины, с которой Михеев был когда-то близок. Вероятно, и его отложил бы Знаменский на потом: читать чужие письма – не привилегия, а обязанность следователя, всегда немного стыдная, особенно на людях. Но Михеев, громко задышал, заворочался, привлекая к себе внимание.
– Я вас очень прошу, Павел Павлович, – почти униженно произнес он, – наедине. Пожалуйста!
Все разоблачения претерпел публично и вдруг застеснялся давней любовной истории? Странный тип. Боится, что я процитирую ребятам набор интимных фраз?.. Ладно, уважим.
– Никишины, посидите в той комнате. Дверь за собой закройте.
Братья вышли. Пал Палыч дочитал письмо – надрывное, прощальное – осмыслил дату, подпись и концевую строчку:
«Мальчик здоров». Да-а, жизнь горазда на выверты!
– Афоня? – спросил он.
– Афоня, – трагически шепнул Михеев.
– И вы им не говорили?
– Ждал случая.
– Или приберегали для решительного разговора с Игнатом. Если заупрямится. Крупный козырь.
– Для вас, естественно… с вашей точки зрения, я зверь хищный… и ничего мне больше не надо. А я человек. Мне надо! – Он с тоской оглядывался на дверь, за которой скрылись Никишины, не стремился приукраситься во мнении следователя, просто рухнули все бастионы и прорвалось самое сокровенное. – Надо, чтобы на свете кто-то свой был… от кого хоть не прятаться. Не то что напарник, напарника проще заиметь… А тут свои, понимаете, свои! Вот они, нашел я их, и они меня приняли, разве нет? Из моих рук пили, ели, в рот мне смотрели, что я скажу… Только момента ждал, чтобы открыться… Почти семья…
– И тут появился Серов, – вставил Пал Палыч, направляя исповедь в русло допроса.
– Да, нанесло на мою дорогу.
– Почему же сразу с ножом? Или пробовали говорить с ним?
– Пустое дело. Он бы про меня такого нарассказал – на телеге не свезешь. Я в колонии жил соответственно. По тамошним законам. Либо ты – либо тебя. Чтобы выжить. Не знаю, насколько вы представляете…
Пал Палыч представлял. Зубами скрипел, думая, кем могут стать его подследственные, отбыв срок. Одна из тайных язв профессии: ловишь воришку – получаешь после колонии ворюгу, сажаешь хулигана – выходит бандит. Потому особенно жалко сумевших «завязать», как Серов.
– А Серов и там разговаривал на «ч». То есть…
В переводе с блатного – прикидывался честным.
– Увидал меня с ребятами, глаза выпучил, руками машет. Гадина. Ну и пришлось… А что еще я для них мог сделать, по-вашему? Что?! Сирые, голодные. Игнат – талантливый парень, значит, будет прозябать, жиреет одна посредственность. А Афоня… Гражданин следователь, отдайте мне письмо!
– Для чего?
– Порву. Не надо это уже. Ни им, ни мне. Разве теперь Афоня меня примет? Зачем я ему?..
Пал Палыч колебался. Негоже, конечно. Но приобщишь к делу – где-нибудь выплывет. На следствии, в суде. А ребята нахлебались горькой правды под завязку. Хорошо, если ее сумеют переварить. Взвалить на них еще альковные тайны родителей – нет, это слишком. Не всякая правда благотворна, от иной впору удавиться!
Он протянул письмо. Михеев осторожно разорвал его пополам и еще пополам – по светящимся сгибам. Лицо исказилось в гримасе, и Пал Палыч отвернулся.
Отворившаяся дверь впустила Томина.
– Эй-эй! Из-ви-ните! – он прыгнул и отобрал письмо, сочтя, что Пал Палыч недоглядел за допрашиваемым.
– Саша, я разрешил, – сказал Пал Палыч.
– Уничтожение вещественных доказательств на обыске? Ты, случаем, не переутомился?
Знаменский встал, притворил дверь.
– Это письмо матери Афони к его отцу.
– Он?! Отец Афони Никишина?
– Тише. Отец. Ну, подумай, каково будет парню? Для него это отрава. Для обоих отрава. И вообще, кому нужно знать? Адвокату, если захочет выжать слезу? Или обвинителю для пафоса. «Глубокое моральное падение подсудимого, не пощадившего собственного…»
Михеев переводил с Томина на Знаменского глаза умирающей собаки и по-нищенски держал на весу ладонь, прося письмо. Рука казалась дряхлой, как весь он сейчас, но это она двенадцать дней назад бестрепетно всадила нож в спину Серова. Легко представить, каким он был жестоким паханом в местах отдаленных, как повелевал жизнью и смертью заключенных, душил остатки достоинства и человечности. Он преподнес бы Никишиным свое прошлое живописно и значительно – умел красно говорить, умел подавать зло в обличье силы и свободы. Серов – успей он сделать это первым – рассказал бы все, низменно и страшно, с гадкими подробностями. И уже не отмылся бы Михеев от грязи перед ребятами, перед Афоней. Не обрел бы сына. Вот что решило судьбу Серова А. В., тридцати четырех лет от роду.
Томин повертел в пальцах клочки, сложил часть текста. «Пусть никогда не узнает… Прощай, не пиши…»
– Я не совсем понимаю.
– Она вернулась к мужу. Потом я сел. Письмо пришло уже в колонию.
Томин в сомнении тер подбородок. Между прочим, ради этого конверта он перетряс четыре полки пыльных книг. «Не в этом суть, разумеется… просто то, что выгодно преступнику, невыгодно нам… как правило».
– Пока не кончат с обыском, давайте составлять ваше жизнеописание, Сергей Филиппович, – взял Пал Палыч ручку.
«Уже по имени-отчеству?» – неодобрительно отметил Томин.
– Какое жизнеописание? – вяло ворохнулся Михеев.
Траурные круги у глаз. Борозды на лбу и щеках налились густой чернотой.
– Сгинул я. Был человек, и нет человека.
– Звучит гордо, а толку чуть, – в сердцах припечатал Томин, хлопнул на стол обрывки письма и ушел к Зине.
Михеев смахивал на головешку. Может быть, от этого сходства Знаменский ощутил себя чем-то вроде пожарного. Когда горит и рушится дом, заботятся, как бы не занялись соседние. А отстояв их, можно покопаться на пепелище: не уцелело ли и там что-нибудь?
Вот только недолго копаться – завтра он передаст дело в прокуратуру.