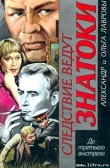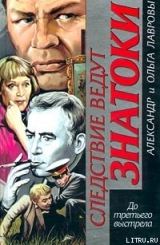
Текст книги "Волшебные узоры"
Автор книги: Александр Лавров
Соавторы: Ольга Лаврова
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Ольга Лаврова, Александр Лавров
Волшебные узоры
Присутствовать в суде на слушании своих дел у следователей не принято. Хотя иногда было бы полезно увидеть иначе – глазами прокурора, адвокатов, судьи – увидеть спрессованным в несколько дней то, над чем бился месяцами. Но кто-то где-то может расценить твое присутствие как психологическое давление на свидетелей и обвиняемых. И вообще – моветон. Вот если вернут на доследование, тогда беги читать судебные протоколы и соображай, почему ты оказался лопухом.
Однако на сей раз Знаменский решил пренебречь неписаным запретом. Дело по ресторану «Ангара» засело в душе слишком больной занозой. Едва наполовину он размотал его, дальше уперся в «кирпич». Знал, что такое случается, как не знать. Но сам впервые был подведен работой к черте, за которой располагались «неприкосновенные».
С кем контактировал наверху? кто его прикрывал, предупреждал о ревизиях? что за это имел? От подобных вопросов Кудряшов отмахивался со смешком:
– На данную тему, Пал Палыч, не будем даже без протокола. Да если я и расскажу, куда вы с этим денетесь?
А когда Знаменский, подобрав по крохам все, что косвенно свидетельствовало о высоком покровительстве, попробовал нажать, Кудряшов окрысился:
– У вас на Петровке давно ли начальника ОБХСС сняли? Полетел комиссар милиции за такие как раз штучки – раскручивать дела вверх! Забыли?
Пал Палычу аж скулы свело – все негодяи знают! Может быть, и про то, что вскоре на широком совещании следователям разъясняли: не мусольте дела, кого схватили за руку – на тех закрепляйте доказательства и передавайте материалы в суд. Вы зря тратите силы и время. Не тяните новых эпизодов, лишних людей. «Рубите концы!» – совсем уж без околичностей распорядился большой в прокуратуре города человек по кличке Красавец Эдик. Не исключено, что и про Эдика Кудряшов знал.
– Не забыли? – переспросил он. – А если я, Пал Палыч, поинтересуюсь: почему засыпалась именно «Ангара»? Другие ресторанщики делают то же самое, а в козлы отпущения попали мы! Какая причина? Может, я кому недодал? Может, мое место кто-нибудь перекупил? Или мой шеф вашему в картишки продул, а?
Знаменский что-то возражал негодующе. Искренне негодовал. Да только не против одного Кудряшова. Если совсем честно, было у того право на хамские предположения. Неведомо – случайно влипла «Ангара» или пал на нее черед при некоей жеребьевке.
К такому невозможно привыкнуть. Нельзя притерпеться, что тебя не пускают за черту, где остаются благоденствовать «руки» разнообразных Кудряшовых. Мысль эта не то что донимает – она свербит в голове! Толкает к далеко идущим выводам, грозит профессиональным цинизмом. Каждый борется с ней по-своему. Некоторые, вероятно, сдаются. Частично или целиком. Вероятно – не наверняка – потому что сдавшиеся не оповещают сослуживцев…
Подумав о переполненном зале суда, Знаменский переоделся, потер пуговицы давно не надеванного кителя. Милицейская форма позволит не протискиваться вперед силком, чтобы услышать и увидеть. Она создаст зону отталкивания среди потных, слегка поддавших кладовщиков, официантов, поваров.
Кто еще явится морально поддержать Кудряшова? Руководителей ресторантреста, ревизоров Знаменский знал в лицо, все перебывали в его кабинете. Знал кое-кого из Минторга – по иным поводам. Казалось важным высмотреть их здесь, запомнить на будущее. На какое-то будущее, которое когда-нибудь наступит. Надо надеяться.
На втором этаже горсуда и впрямь было тесно. Приход следователя вызвал в публике шевеление двоякого рода: одни любопытно оглядывались, другие (немногие) отворачивались. Его интересовали те, что отворачивались, привлеченные вдруг видом из окон. Два затылка опознал с ощущением оправдавшегося предчувствия. Третий был неожиданным, побивал самые смелые подозрения и задним числом многое прояснял в поведении Кудряшова. Вот так: век живи – век учись. Обидно, что дураком помрешь. А не обидно подозревать всех и каждого?
Как Знаменский и рассчитывал, шел к концу допрос Кудряшова. В первых рядах какая-то женщина робко поздоровалась и потеснила соседей, освобождая Знаменскому место. Кто она? А, да, уборщица из «Ангары». Он сел и обратился к скамье подсудимых.
Кудряшов приветствовал его беглой улыбкой. Он приоделся для процесса: свежайшая белая водолазка, новый костюм в синевато-серую клетку. И сам такой умытый, голубоглазый и искренний. Убран с лица умный прищур, надета маска простодушного достоинства – словно человек, проигравший в покер, с легким сожалением платит партнерам, что положено.
«Получил… отпустил… нет, не оприходовал… да, дивиденды из черной кассы выплачивал я… разумеется, раскаиваюсь в содеянном…» И так по всем эпизодам, мило и чистосердечно.
– Каким образом удавалось скрывать имевшие место хищения и недостачи?
– До поры до времени везло.
Знаменский обнаружил, что Кудряшов крепко сцепил пальцы; ждал следующего хода судьи. Ждали, очевидно, и затылки.
– Есть вопросы? У защиты? У подсудимых? – не поднимая головы, произнес судья.
Н-да, здравомыслящий товарищ! Тем и удовольствовался, что «везло». Зачем попусту копья ломать – «кирпич».
– На предварительном следствии, – поднялся очкастый адвокат, – немало внимания уделялось тому, как вы получали продукты сверх выделенных нормативно. Объясните сейчас коротко.
– Проявлял настойчивость в работе, вот и все, – скромно потупился Кудряшов.
Вот и все. И обвинитель помалкивает. А народные заседатели вообще сидят истуканами. Хотя уж их-то служба не связывает, могли бы рот раскрыть. Знаменский только единожды слышал – как диво пересказывали, – что заседатель вмешался в течение процесса. Дело было построено на споре между инспектором ГАИ и водителем, и водитель выходил кругом виноват. Заседатель, сам работавший шофером «скорой», поставил несколько квалифицированных вопросов, и, как ни протестовал прокурор, дело направили на доследование.
Нечего здесь дольше торчать, убивая такой редкий свободный день перед ночным дежурством. Может быть, теплилось тайное крохотное упование, что дело завернут из суда «как не выявившее всех преступных связей»?
– Суд переходит к допросу следующего обвиняемого, – пробурчал судья.
Знаменский встал и зашагал вон.
А Маслова, между прочим, так и не заметила его. Целиком была устремлена к мужу, вся переливалась в прикованный к нему взгляд.
Сколько ни определит ей суд, все будет непомерно много, раз главные воротилы даже не названы!
Сегодняшнее дежурство было кстати. Во-первых, хорошо, что с друзьями. Во-вторых, город не позволит зашкаливаться на унылых раздумьях. Пятница, конец недели, жди впечатлений.
И действительно, рассиживаться не довелось. Они еще обменивались первыми фразами, а динамик уже зачастил: «Оперативная группа, на выезд! Ножевое ранение в подъезде по адресу…» Приехали за считанные секунды до «скорой».
Успели сфотографировать, как он лежал – плашмя, правой щекой на замусоренном полу, с неловко раскинутыми руками. Плотный, сильный, едва дышавший. Под левой лопаткой рубаха была пришпилена к спине гладкой, с медными заклепками, рукояткой ножа.
Успели очертить мелом силуэт распластанного тела.
Затем ворвались белые халаты, раненого увезли, Томин сел в машину рядом с ним.
Остался пустой меловой контур, из которого вытекала лужица крови, уже холодной, но еще тревожно яркой, еще живой. Низко пригнувшись, Кибрит собирала ее в пробирку. Через открытую дверь тянуло со двора цветущими липами, и дух этот, соединяясь с запахом густеющей крови, делался фальшив и неприятен, вызывал душевную дурноту.
Дом был в четыре этажа, дореволюционной постройки, широкая лестница служила сейчас амфитеатром для сгрудившихся на ней жильцов.
– Кто-нибудь прикасался к потерпевшему? – спросил Знаменский.
– Ни в коем случае! – возбужденно заговорил рыжеватый мужичок на нижней ступеньке. – Это я его обнаружил! Спускаюсь за газетой, он лежит. Думал, пьяный. И вдруг вижу – нож торчит! Я звонить…
– Откуда?
– Вон от них, из первой квартиры, – он оглянулся на женщину в пестром ситцевом халате.
– Так. Потом?
– Выскочил обратно, гляжу, Дикарев стоит.
– Это я, – отозвался немолодой мужчина из группы на площадке.
– Вы дотрагивались до тела? до ножа?
– Нет. Стоял, примерно, где старшина.
Милиционер у двери переступил с ноги на ногу.
– Вы возвращались домой?
– Да, – и, помедлив, добавил: – Вас интересует откуда?
Знаменский скользнул по нему внимательным взглядом.
– Нет.
Рыжеватому не терпелось продолжить повествование:
– Я ему говорю: Дикарев, человека зарезали! А он: не ори, сам вижу.
Но рассказ был Знаменскому неинтересен. И Дикарев неинтересен. А вот женщина в пестром халате…
– До того, как товарищ прибежал звонить, вы слышали на лестнице какой-нибудь шум? крик?
Женщина замотала головой.
– Ничего не слыхала, честное слово! Я телевизор смотрела!
«Честное слово» лишнее – заметил себе Знаменский.
– Кто еще есть с нижнего этажа? Вы что-нибудь слышали?
Двое-трое отозвавшихся заверили, что нет. Вероятно, так оно и было: без ссоры, без драки. Удар в спину исподтишка. Чуть-чуть только не точный, не окончательный.
Сзади заполыхало: Зина фотографировала со вспышкой общий вид места происшествия. Со двора появилась молодая пара и замерла в изумлении.
– Обойдите сторонкой, – сказал старшина.
Сделав крюк, те приблизились к лестнице. Парень продолжал обнимать спутницу за плечи, но жест из развязного стал охранительным.
– Будьте добры, ваши фамилии и номер квартиры, – сказал Знаменский.
– Завьяловы… Квартира шесть. А… что тут такое?
– Тут скверная история. Давно из дому?
– Примерно час назад.
– В подъезде никого не было, когда уходили? Ничего необычного?
– Н-нет… – парень косился на истекающий кровью меловой силуэт.
– Во дворе кого-нибудь встретили?
Девушка дернула подбородком куда-то вверх:
– Мария Семеновна с собачкой гуляла.
– Есть тут Мария Семеновна?
Через перила свесились седые распущенные кудри.
– Не припомните, когда вы вернулись с прогулки?
Мария Семеновна помнила: ровно в десять, у нее режим.
Возвратился Томин, проводив потерпевшего до палаты с надписью «Реанимация». Передал Зине обернутый салфеткой продолговатый предмет, в котором наэлектризованная толпа угадала нож.
Нож прошел мимо сердца, но при падении человек сильно ударился виском. Травма черепа может дать любые последствия. Пока везли, на миг очнулся, на вопрос: «Кто вас?» – прохрипел: «Не видел». В карманах нашлось шесть рублей мелочью, использованный билет на сегодняшний футбол и паспорт.
«Серов», – прочел Знаменский и задержался на карточке. В стрижке, в складке губ угадывалась приблатненность. Но лицо вызывало симпатию. Судя по прописке, он жил неподалеку.
– Саш, к родственникам, ладно?
Томин понимающе кивнул и скрылся. Кроме печальной вести надо сообщить о неведении Серова, пусть слух расползется, преступник будет поспокойней.
Покончив со своими обязанностями, Кибрит принялась переписывать для Пал Палыча фамилии присутствующих. А он пустил паспорт по рукам в надежде, что кто-нибудь все же знал потерпевшего.
У молодой пары паспорт застрял – о чем-то зашептались.
– Ну? – поторопил Знаменский.
– По-моему, с соседнего двора, – нерешительно сказал парень.
– Верно. Что еще?
– Мы тем двором на автобус ходим… Там стол и, как ни идешь, доминошники стучат.
– И Серов играл?
– По-моему, да… А из наших там Володька бывал.
Дюжий Володька, щелкая шлепанцами по голым пяткам, протолкался вниз со второго пролета.
– Ты чего метешь? чего метешь?
– Не шуми, Володька, я тоже видел! – обрадованно встрял рыжеватый мужичок.
Володька посмотрел на фотографию, брови нахмурились.
– Ну… допустим, встречались, – и, повышая тон: – Ну и что? Я один, что ли? Игнат с Афоней чаще моего там торчали!:
– Никишины? Правильно, и Никишиных видел! – подтвердил рыжеватый.
– Все-то ты, дядя, видел, – с неприязнью процедил Володька. (Явственно недоговаривая: «Держал бы при себе».)
– Есть Никишины? – окликнул Знаменский.
– Нету, – донеслось сверху. – Позвать?
Все тут друг друга знали – преимущество старого дома.
– Не надо, все равно придется по квартирам идти.
– Они в десятой квартирке, – услужливо доложил рыжеватый.
– Найду. Пока все, товарищи, можно расходиться. Вас попрошу быть дома, – кинул он вслед Володьке.
– Пожа-алуйста… Только я скоро спать лягу.
А ведь и ляжет. И уснет безмятежным сном. Кого там порезали, кто порезал – для него полное наплевать. Да и все прочие тут… взбудоражены – да, но не потрясены. У нас, слава богу, не на каждом шагу режут – откуда им было привыкнуть к насилию, к крови? Но вот смотрят и не ужасаются. Почему? Почему нам с Зиной не наплевать? Томину не наплевать? Вот, пожалуй, еще Дикареву. Наверное, воевал, у тех со смертью свои счеты.
– Разрешите, позвоню от вас? – шагнул Знаменский к женщине в пестром халате.
Телефон был в передней. Знаменский прикрыл за собой дверь, мягко произнес:
– А теперь прошу сказать то, что вы скрыли.
Женщина отшатнулась.
– Почему вы думаете…
– Разве я не прав?
Она зябко обхватила плечи, зашептала:
– Знаете, как мне там было страшно! Вдруг он тут же стоит и слушает…
– Но сейчас нас никто не слушает.
Ну же! Что она столь боязливо утаивает?
– Кто-то крикнул на лестнице. Непонятно так: «Ах!» – и все. И потом пробежали под окнами.
– Сколько?
– Как будто один… да, один.
– Выглянули в окно?
– Нет, что вы! Я послушала под дверью – на лестнице тихо. Включила телевизор.
И все? Всего-то навсего? Эту малость было так трудно выговорить вслух? Шут бы побрал запуганных свидетелей! Он выяснил, какая шла передача, что именно изображал экран. Ответы звучали уверенно.
– Спасибо большое, вы помогли уточнить время.
Женщина осталась в убеждении, что отважно исполнила свой гражданский долг.
К кому же сюда направлялся Серов? Что его привело в чужой подъезд?
Квартирный опрос жильцов начали с Никишиных. Чем отсиживаться в оперативной машине, Зина присоединилась к Пал Палычу.
Комната, куда их впустили, большая, но захламленная, выдавала все секреты хозяев: их сиротство и бедность, безалаберность и неумелые попытки навести чистоту.
Ютились неубранные остатки ужина с краю массивного, на массивных же ногах стола. Остальную его площадь занимали краски, кисти, карандаши и многочисленные листы с набросками. Над ними трудился один из Никишиных, лет на вид двадцати.
Услыхав: «Следователь Знаменский, эксперт Кибрит», – он поднял суховатое, скептического склада лицо, сказал неприветливо:
– Меня зовут Игнат.
Младший, долговязый, нескладный подросток с хохолком на макушке присел в шутовском реверансе:
– А меня Афанасий. В просторечии – Афоня.
Он был полон любопытства и пялился на Зину, завороженный ее желтыми глазами.
– Садитесь.
Кибрит заинтересовалась стенами. Они были густо увешаны картинами и рисунками, по большей части в абстрактном стиле. Но попадались и реалистические полотна и гравюры, выполненные уверенной смелой рукой. Среди гравюр она встретила персонажей «Мертвых душ», сцену булгаковского бала у Воланда и возле нее задержалась, тронутая поэтической и горькой фигуркой Маргариты.
Пал Палыч последовал приглашению Игната – сел.
– Слышали о происшествии?
– Конечно. На лестнице стоял гвалт, бегали смотреть.
– А чем вы занимались до того, как начался гвалт?
– Вернулись с футбола и вот, – Игнат указал на свои листы.
– Вы узнали лежащего человека?
– Нет.
– Близко Дикарев не пускал, – жизнерадостно пояснил Афоня. – Так что с птичьего полета.
– Но вы ведь знакомы с потерпевшим.
– Сейчас парень один заскочил, говорит, это дядя Леша. Говорит, кто с ним «козла» забивал, велено дома сидеть.
Пал Палыч положил поверх рисунков раскрытый паспорт.
– Он?
Игнат кивнул, Афоня перегнулся из-за плеча брата.
– Ага, он. Законно играл!.. Хоть выживет?
– Прогноз неопределенный. Характерно, что понятия не имеет, кто его. Что можете рассказать о Серове?
Игнат пожал плечами, Афоня следом.
– Только, что хорошо играл в домино?
– Но не настолько, чтобы его за это прирезать, – усмехнулся Игнат. – Есть лучше играют, а живут.
В дверь коротко стукнули, вошел Томин.
– Уголовный розыск.
– У нас что, самая просторная комната в доме? Здесь теперь будет штаб ЧК?
– Но-но, молодое поколение, – мельком оглянулся Томин на Игната. – Паша, на два слова.
Ничего нового Знаменский не получил. У родственников были сбивчивые предположения и ни единого факта. Серов сидел за кражу, освободился семь месяцев назад. Похоже, завязал, пил мало. Любил футбол и домино, копил деньги на мотоцикл. Детей, по счастью, нет. Томину дали координаты двух его приятелей.
Пока обсуждали, что еще можно незамедлительно предпринять, Афоня крутился возле Кибрит, продолжавшей рассматривать стены.
– Вы вдвоем? – спросила она.
– Мать умерла три года назад, а отец давным-давно. И как вам? – указал он на стену.
– Кое-что, по-моему, здорово. Эта тоже ваша? – она взяла с полки деревянную статуэтку – выразительную голову негритянки с дремотным взглядом.
– Моя, – небрежно ответил Игнат. – Когда провели паровое отопление, знаете ли, осталось много хороших дров. Жаль было бросать.
Кобеня, подумала она. Знает, что талантлив. А самоирония – особого пошиба кокетство.
– Какие-нибудь родные есть? – обернулась к Афоне.
– Тетки. Но они из первой половины века. Этакие доисторические материалистки.
– До старости комсомолки тридцатых годов, – уточнил Игнат.
– А вы? – подключился к разговору Пал Палыч, отпустив Томина.
– Я?.. Инакомыслящий тростник.
– Ясно. И свободный художник?
– Свобода творчества есть осознанная необходимость денег.
Афоня беззвучно зааплодировал брату.
– Есть, кстати, разница между творчеством и искусством, – работал Игнат на Зину. – Когда делаешь то, что хочется, – это творчество. Что начальство велит – уже, знаете ли, искусство. Вот, например, дали заказ – занимаюсь искусством. Новая обертка для конфеты «Накось, выкуси».
Кибрит улыбнулась:
– В смысле «Ну-ка отними»?
Знаменский тоже пустился в обход комнаты.
– За что сидел Серов, не знаете?
– Вам лучше знать, – отрезал Игнат.
– Я-то знаю. Интересно, что знаете вы. Он о себе рассказывал?
– А нам было до лампочки! – хмыкнул Афоня.
Пал Палыч приостановился. Какие-то рубленые плоскости. Серовато-зеленые. Книзу расширяются несимметричным веером. Вон кружок, похожий на глаз. Нет, профан я в живописи, не понимаю. Хотя…
– Это рыбы?
– Надо же! – изумился Афоня.
Игнат промолчал, дернул щекой.
Ему досадно, что я догадался, сообразил Пал Палыч. Совершенный еще мальчишка. Самолюбивый, в чем-то ущербный.
– Вы с Серовым не захаживали друг к другу в гости?
Парня словно заподозрили в чем-то унизительном:
– С какой стати?
Тут он обнаружил у себя на локте прореху, поспешно закатал рукава рубашки. Разозлился.
– А с кем, кроме вас, он был знаком в этом подъезде?
– Товарищ начальник, я художник, а не участковый!
Афоня – ехидный подголосок – ввернул:
– Улавливаете разницу?
Нет, не получится разговор, пора откланиваться. Драный рукав вконец испортил атмосферу.
– Ребята, ну что вы ерепенитесь? – не утерпела Зина. – По-моему, Игнат, вы достаточно серьезный и взрослый человек…
Тот решительно прервал:
– Я не содержался, не привлекался и не намеревался. Но я не серьезный человек. Я человек легкомысленный.
– Легкое отношение к жизни часто ее осложняет, – машинально бормотнул Знаменский.
– Серьезное отношение к жизни тоже ее осложняет.
Да откуда тебе взять легкомыслие-то? Не баловень судьбы, ничей не сынок. Один на один с миром. Да еще младший на руках.
…Когда они уже за полночь садились в машину, завершив беседы с жильцами – абсолютно безрезультатные, – окно Никишиных еще светилось. Легкомысленный человек продолжал корпеть над своими листами.
* * *
На следующий день Афоня Никишин впервые сидел в ресторане. Да и старший ощущал себя в этой крахмально-гастрономической обстановке новичком.
Третьим, который заказывал и платил, был Сергей Филиппович, немолодой поджарый человек с умным лицом в резких морщинах. Его глубоко посаженные, обведенные тенью глаза жестко смотрели на все вокруг и с сердечной симпатией на Никишиных. В особенности умилял его щенячий аппетит Афони.
Раскрыв на четвертом, свободном, стуле принесенную Игнатом папку и нацепив непривычные очки, Сергей Филиппович пристально изучал гравюры. Иногда прикрывал лист ладонями, вычленяя отдельный штрих или изгиб линии, и оценивал по какой-то неведомой Игнату шкале. Здесь были лучшие гравюры Игната, и он ревниво ждал похвальных слов.
Вот бал у Воланда. Сергей Филиппович дотошно исследовал его вдоль и поперек. Игнатом овладело обидное подозрение, что тот не судит о содержании, о трактовке образов – да и не может судить, потому что не читал Булгакова. Но он не спросил, чтобы не прозвучало упреком. Сам с трудом раздобыл книгу, а Сергею Филипповичу с его тяжелой судьбой подавно извинительно.
Сергей Филиппович снял очки, затер ногтями дырочки от кнопок и на углах гравюры и наконец нарушил молчание:
– Дар! Несомненный дар!
Афоня с набитым ртом радостно промычал: «Угу».
– За это надо выпить!
– Афоне хватит.
– Да что ты, Игнаша, сухое, чистый виноградный сок! Тем паче суббота, завтра не вставать.
– Заниматься ему надо. Экзамены на носу.
– Ну, тогда символическую, – Сергей Филиппович налил Афоне на донышко, себе и Игнату по края.
Чокнулись, выпили. Их столик находился в углу, и ресторанный шум не очень мешал разговаривать.
– Да, год для вас решительный: у тебя распределение, у него аттестат. Как в школе дела-то?
– Нормально, – тряхнул Афоня хохолком на затылке.
Игнат усмехнулся.
– «Нормально!» Представляете, что недавно учудил – вышел к доске на уроке астрономии и заявил, что Земля плоская.
– Силен!
– Наш звездочет прямо обалдел! – радостно сообщил Афоня. – Он мне про горизонт, про фотографии из Космоса, а я – свое. Девчонки визжали от восторга!
– Двойку схватил?
– Ну, Сергей Филиппович, все-таки не третий класс. Теперь уважительно. Если, говорит, ты так считаешь, докажи.
– И что он, думаете, сделал? – подхватил Игнат. – Добыл какую-то бредовую брошюру, проштудировал и произнес публичную речь на двадцать минут.
– Что Земля плоская?
– Хотите, докажу?
– Упаси бог! Плоская так плоская, по мне один черт!
Балансируя подносом, появился официант. Афоня с энтузиазмом приветствовал новую порцию закусок и все же пожалел о недоеденном салате с крабами, который унесли из-под носа. Рыбное ассорти, украшенное дольками малосольного огурчика, мясное ассорти, и по центру горка тертой свеклы… с чего начать?
Сергей Филиппович снова обратился к гравюрам.
– Я, видимо, старомодный человек: люблю точность, люблю тщательную проработку деталей… – он испытующе и задумчиво смотрел на Игната. – Из тебя может получиться толк… Возьму кое-кому показать, не возражаешь?
Игнат покраснел от радости: у Сергея Филипповича были знакомства среди художников.
– Как говорили в старых романах, весьма польщен.
– Вот и ладно. – Собеседник сложил листы в папку, завязал тесемочки. – Ешьте, ребята, ешьте! Не брезгуй свеклой, Афоня. Стимулирует кишечник – легче переваривать то, что творится вокруг.
Афоня беспечно переваривал все, что творилось на свете, но послушался и зачерпнул ложку свеклы. Оркестр заиграл что-то дежурно-ресторанное, пары потянулись танцевать. Игнат следил за светловолосой, очень юной и очень декольтированной девушкой, которую рискованно кружил и перебрасывал с руки на руку рослый самоуверенный партнер.
– Я вас могу угощать вполне свободно. Разбогател на старости лет.
– Наследство из Америки? – спросил Афоня.
– Разве Балашиха в Америке? Хотя, если Земля плоская… Сестра у меня в Балашихе умерла. Оставила дом, хозяйство. Полно всякого добра, и я – единственный наследник. Ну-ка, за упокой ее души, – радушный хозяин налил и подмигнул Афоне: – Отпустим Игнашу танцевать? Он там на кого-то глаз положил.
Игнат помрачнел.
– Благодарю. Не так одет, чтобы лезть к незнакомым девушкам.
– Кстати, о покойниках, – сказал Афоня. – У нас в подъезде вчера человека чуть не убили. – Музыка как раз оборвалась, и последние слова раздались слишком громко.
Сергей Филиппович вскинулся:
– Как это «чуть не убили»?
Афоне помешал ответить пожилой мужчина интеллигентной наружности с «Курьером Юнеско» в кармане пиджака.
– Простите, я вижу четвертое место у вас не занято. Если разрешите…
– Нет, – безапелляционно отрезал Сергей Филиппович.
Мужчина был, вероятно, приезжий, из постояльцев гостиницы (при которой располагался ресторан), и пришел скромно поужинать после суматошного столичного дня. Устало и беспомощно он огляделся и отважился проявить настойчивость.
– Еще раз простите, но место явно свободно, а больше нигде в зале…
Сергей Филиппович привстал и с внезапно прорвавшимся бешенством ухватился за спинку свободного стула.
– А ну, светильник разума, чеши отсюда!
– Невероятно… – произнес интеллигент и поспешно отступил.
Никишины оба испытывали некоторую неловкость после разыгравшейся сцены, но Игнат не мог оторваться от разительно изменившегося лица Сергея Филипповича. Собственно, лицо было то же, но глаза… Глаза расширились и буквально пылали. Казалось, что тени вокруг них – это закопченные пламенем веки.
«Портрет… я просто обязан», – который раз думал Игнат. Но как передать этот яростный огонь? Он быстро потухал, и Сергей Филиппович говорил ровным тоном: «Нервишки шалят. После всего пережитого». Вот и сейчас помянул нервишки и спокойно вернулся к прерванной беседе:
– Так, значит, чуть не убили?
– Пырнули ножом, лежит в больнице без сознания, – подтвердил Афоня.
– А за что?
– Никто не знает. Самого спрашивали – тоже не знает.
– Как же спрашивали, раз без сознания?
– Очнулся на минутку, – Афоне нравилось пересказывать страшную историю. – И кто такой?
– Да вы его даже видели. Он вчера на стадионе рядов на пять ниже сидел. И все нам рукой махал. А вечером его… представляете?
– На стадионе? Нет, не обратил внимания.
– Вообще-то, жалко дядю Лешу, он был малый ничего.
Игнат слушал вполуха: снова танцевали, снова взлетала и рассыпалась волна светлых волос по обнаженным плечам.
Сергей Филиппович заговорил между тем веско и внушительно:
– Что поделаешь, детки, в жестокий век живем. Одного Кеннеди убили. Другого убили. Кинга убили. Уже на Папу Римского с ножом кидались. На этом фоне случай с каким-то дядей Лешей – пустяк. Почти естественный отбор. А, Игнат?
Обернувшись, тот увидел, что Афоня стащил сигарету из его пачки и курит.
– Афанасий!
– Подумаешь… – протянул Афоня и ткнул сигарету в остатки свеклы.
– Извините, не уловил про естественный отбор.
– Эх, Игната, много я чего повидал на своем веку? Стариковские мысли, они едкие. Иногда этак раздумаешься о жизни… Вот волк идет за оленьим стадом. Кого он ест? Слабого, больного. Без него олени выродятся. Он – как санитар. А у людей? Ты посмотри хоть направо, хоть налево. Тупые, спина колесом, глазки сонные. А вон тот? Часть брюха, выпирающая из воротничка, называется головой. Ну как их не есть? Нет, людям тоже нужны волки! Истории нужны санитары.
Лихо закручено, отметил Игнат.
– Но против волков есть дядя милиционер! – дурашливо фыркнул Афоня.
– Правильно, так и получается, ребятки! Закон что делает? Вяжет сильных. Хочет, чтобы все были одинаковые и поступали одинаково. А ведь сильному закон не нужен, нет. Он нужен, чтобы дохляков охранять. Чтобы им тоже что-то в жизни доставалось!
Афоня зааплодировал.
– А если, скажем, я – волк, – сжал Сергей Филиппович сильный жилистый кулак, – за каким чертом мне вкалывать рядом с Красной Шапочкой? Она кушает манную кашу, а мне нужно мясо!
Официант, пробегавший мимо, принял реплику на свой счет:
– Помню-помню, три филе. Сию минуточку будет готово.
Все засмеялись.
– Еще по одной, – взялся Сергей Филиппович за бутылку. – Люблю я вас, ребята. Хочется сделать из вас таких людей, чтобы как нож в масло!.. Я ведь тебя вот этаким помню, – показал он Игнату чуть выше колена. – Афони еще и на свете не было.
– Не могу понять, как без меня обходились?
– С трудом, – ответил Сергей Филиппович.
Всего три месяца назад постучал в их дверь этот нежданный человек. Отрекомендовался давним другом семьи и таким сначала показался обременительным! Угощай его чаем, проявляй внимание, рассматривай пожелтевшие фотографии, с которых бесплотно улыбается молодая красивая мама, а крошечный Игнат сидит на плече этого самого Сергея Филипповича – тогда еще без залысин и морщин.
А потом – очень скоро – братья обнаружили, что ждут его нечастых визитов, что с ним далеко не скучно и словно бы не так беззащитно на свете. О себе Сергей Филиппович говорил мало и с горечью: был художником, успеха не добился, сменил множество профессий, долго жил в северных краях, подробности когда-нибудь после… Ребята подозревали, что он сидел, но в их представлении сидеть он мог только «за политику», а это добавляло уважения.
– Смотрю я на тебя, Игнаша, и будто себя в молодости вижу. Тоже без отца, тоже без порток, в башке планов вагон, а что впереди – неизвестно…
Когда Сергей Филиппович начинал вспоминать родителей Никишиных, бабушку, Игнату делалось приятно-печально, но и неловко, потому что старик (всех, кому за пятьдесят, Игнат относил к этой категории) впадал в сентиментальность, а сентиментальность Игнату претила. Но сегодня, под хмельком, он и сам как-то размяк, настроился на чувствительный лад.
– Почему вы бросили живопись, Сергей Филиппович? – спросил он.
– Молодой был, жадный до жизни. А чистым искусством сыт не будешь. Да и что за искусство было? Меня с приятелем пригрел один тогдашний мэтр, – он желчно скривился. – Приятель сапоги писал, я – погоны и пуговицы. Поточным методом… Приятель ныне член Союза. А у меня смирения не хватило. И пошло носить…
– Жалко. У вас ведь глаз есть.
– Был. Много чего было. Был талант – погиб. Была любовь, и тоже… не осилил. Трудно все складывалось. У нее был муж, ребенок. Разводов тогда не давали… Да что говорить!
Афоня уже некоторое время беспокойно ерзал, наконец поднялся:
– Извините, я…
– Валяй. Вон туда, по коридорчику, – Сергей Филиппович проводил его отеческим взглядом: дойдет ли? Порядок, дойдет. И придвинулся к Игнату: – Давай о тебе. Перед тобой сейчас выбор. Поедешь по распределению на чертовы кулички, станешь рисовать этикетки для халвы. Женишься с тоски на какой-нибудь провинциалочке, пацанята пойдут, – и рубанул: – Все! С тобой покончено! А ты истинный художник. Тебе нужны условия, свобода.
Прав старик. Игнат сам себе твердил это сотни раз, но…
– Пока я тут добьюсь условий, – сказал он, – мы с Афоней усохнем. Вы представляете себе наше, так сказать, материальное положение? Пенсия на Афоню, плюс моя стипендия. Иногда халтура по части халвы. Сколько можно так существовать? Уже вот тут! – провел он горлу.