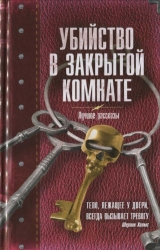
Текст книги "Убийство в закрытой комнате. Сборник рассказов"
Автор книги: Александр Золотько
Соавторы: Олег Мушинский,Александр Прокопович,Александра Мадунц,Олег Дорофеев,Наталья Корсакова,Виктория Шервуд,Наталья Рыжкова
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– В том-то и дело, что не было! Вадик предложил Алинке нас разыграть. Устроить гадание с зеркалом, вызвать нечистую силу и сделать вид, что нечистая сила напала на нее. Она чуть не проболталась по своей вечной привычке… Хихикала, сто раз повторила про шутку. Она всегда была готова повеселиться. Вадик научил ее, что именно кричать, велел пошуметь и пристроить нож под мышку так, чтобы торчащая рукоятка сразу бросалась нам в глаза. Шуметь было особо нечем, вот Алинке и пришлось грохотать стулом. Но свитерок у нее в облипку, фигуру видно очень хорошо – даже при свечах мы бы заметили отсутствие раны. Нужна широкая одежда, драпирующая спину. Потому Вадик и напомнил про накидку – мол, холодно. Только Алинке стало жаль дырявить красивую вещь, и она взяла старую кофту, чтобы прикрыть нож ее складками. А Вадик потом вонзил его по-настоящему. Он знал куда, и Алинка погибла мгновенно – с удивлением на лице.
– Но вдруг первым подбежал бы кто-нибудь другой? – с сомнением уточнила Лиза.
– Тогда розыгрыш остался бы розыгрышем – мы бы посмеялись да разошлись. Только шансы на это были невелики. Вадик знал, что ждет его в комнате, а мы нет, и он должен был сориентироваться быстрее. Рашид привык держаться позади, Динара тем более. Ты не захотела бы, рискуя собой, рваться вперед, а я бегаю медленно. Так что первым оказался Вадик. Заметить в полутьме одно быстрое движение руки мы вряд ли могли… В любом случае, не поняли бы, вонзает он нож или вынимает. Такая вот история. Да, Вадик?
Вадик молча стоял, прислонившись к стенке и сосредоточенно глядя вдаль. На секунду Лиза словно хотела прильнуть к нему – однако, наоборот, отступила за Димкину спину, лишь оттуда осмелившись спросить:
– Неужели ты так боишься отца, Вадик? Я знаю, он упертый и считает наркоманов пропащими… Но ведь ты – его сын!
– Именно поэтому, – с горечью ответил Вадик. – Дело даже не в том, что сын-наркоман помешал бы карьере. Отец искренне убежден: один раз укололся – и ты не человек. Ему лучше никакого сына, чем моральный урод. Узнав, он засадит меня в клинику, из которой не выйдешь уже никогда… Или выйдешь идиотом. Лучше сдохнуть, чем туда попасть, уж я-то в курсе. Я не виноват, что Алинка сообразила про наркотики. Она обещала меня не выдавать, но у нее язык без костей, она бы обязательно проговорилась. Отцу она нравилась, вечно о ней спрашивал: когда приведешь свою балеринку? Встретился бы с ней и все выведал. А порвать с Алинкой я не решался… Какой ей тогда смысл держать обещание? Обидится и проболтается. Вот и пришлось мне ее… От нее… Пришлось так поступить. Мне казалось, я все продумал. Это чудо какое-то, что Димка догадался.
Вадик повернулся, уставившись Димке прямо в глаза. Тот вздрогнул. Как ему недавно хотелось найти убийцу! Казалось, сделай это – и мир станет лучше, а на душе легче. Ничуть не бывало. Наоборот – боль, сжатой пружиной сидящая в груди, начала медленно и неуклонно распрямляться.
– Чудес, как и нечистой силы, не бывает, – поспешил сообщить Димка, пока был еще в силах говорить, – Просто ты перестарался – у тебя единственного нарисовалось стопроцентное алиби. А это подозрительно.
– Глупости! – с неожиданной горячностью возразила Лиза, – У тебя тоже стопроцентное алиби – и что? Ты нашел убийцу Алинки потому, что любил ее. Любил такую, какая есть, и все про нее чувствовал. Знал бы ты, как я ей всегда завидовала, и даже сейчас…
Ее слова прервал шум мотора. Во двор въезжала полицейская машина.

Александр Золотько
Семейное дело

Ружье сказало «Бах!». Нет, даже «Бабах!!!». Обязательно лязгнул затвор, отъезжая назад под давлением пороховых газов, на фоне самого выстрела этот «клад!» особо внушительно не прозвучал, а легкое «стук» стреляной гильзы так и вообще можно во внимание не принимать.
Кстати, а философы так и не нашли ответа на дурацкий вопрос: если дерево рухнуло в дремучем лесу, далеко от людей, то грохотало ли оно? Звука-то никто не слышал. Кто говорит, что грохотало, и несет всякую ерунду о звуковых волнах, кто-то говорит, что нет, ибо если отсутствует слушатель, то и звука не может быть, ведь он, по сути, только вибрация перепонок в ухе…
Ерунда, конечно. Умственное рукоблудие, если честно. Хотя, если разобраться, что-то в этом есть. Потому что, когда выстрелил карабин «сайга», звука никто не услышал. И значит ли это, что звука не было совсем?
Курок бесшумно сорвался со своего места, врезал совершенно без звука по бойку, тот наколол капсюль патрона, тот передал искру пороху в гильзе, тот быстро-быстро сгорел, превратился в газ, который расширился, толкнул пулю вперед, вдавил ее в нарезы ствола, толкал-толкал, пока ствол, наконец, не закончился и пуля не вылетела наружу.
Если бы рядом был слушатель, то именно в этот момент карабин должен был произнести свое «бабах!», но если слушателя не было, то…
Алик Зимин потряс головой, пытаясь привести себя в чувство.
Эк его повело, беднягу! Хотя, казалось бы, с чего? Ну погиб человек. Не то чтобы совсем незнакомый, но не друг – точно не друг. У Зимина не было среди друзей серьезных и влиятельных людей. Могут ли быть у мужика тридцати трех лет от роду серьезные друзья, если так и не заслужил этот самый мужик в возрасте Христа ничего другого в качестве имени, кроме Алика. «Слышь, Алик!», «Привет, Алик!», «А не сгоняешь по-быстрому, Алик?», Алик сгоняет. За десять дополнительных долларов – так даже с улыбкой сгоняет.
«С улыбкой», – пробормотал Алик, глядя на экран телевизора.
Погиб человек. В тысяча девятьсот девяносто четвертом году от Рождества Христова кого-то можно этим удивить? За неделю в Городе отправляются на тот свет от десяти до пятнадцати хомо сапиенсов. Не совсем хомо и не так чтобы сапиенсов. В ходе совместного распития спиртных напитков, в результате возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений… это если не считать тех, кого подстрелили-взорвали-пове-сили-утопили по работе, так сказать. Ну, как в американских фильмах – ничего личного, сплошной бизнес.
Нет, конечно, нечто странное в смерти вот этого конкретного человека было.
Алик встал с дивана и пошел на кухню: чайник свистел изо всех сил, намекая, что еще немного – и пойдет на взлет.
Спокойно, сказал Алик на пороге кухни, помощь уже близка. Помощь уже рядом.
Надо будет спросить у кого-то из медиков: тех, кто разговаривает с неодушевленными предметами, сразу забирают в дурку или сперва подвергают обследованию?
Алик выключил газ под чайником и сел на табурет.
Странное состояние. Ты сидишь перед телевизором, пережидая программу местных новостей и предвкушая просмотр какого-нибудь фильма, чайник стоит на огне, бутерброды уже сделаны и ждут своей очереди. Собственно, ты даже не сидишь перед телевизором – так, присел на минуту. Или даже не присел – остановился на мгновение, прежде чем вернуться на кухню, забрав оставшуюся с обеда на столе посуду, – как Марик Гинзбург, ведущий новостей, вдруг сообщает, что вот буквально только что… Ну час назад. Ну пару часов назад, если быть совсем точным, у себя в кабинете был найден убитым Валентин Николаевич Ларенко, предприниматель, депутат, филантроп…
Вот после этого ты обнаруживаешь, что сидишь на диване и, не отрываясь, смотришь на экран телевизора. А там – неслыханное дело – уже показывают результаты съемок места происшествия.
В сам кабинет телевизионщиков не пустили, понятное дело. Съемка ведется из приемной, сквозь распахнутые двойные двери. Тяжеленные, насколько помнил Алик. Пространство между ними – это как бы тамбур. Размером почти с лифт стандартной девятиэтажки. Обе двери обиты кожей – Ларенко на таких вещах не экономил.
По большей части экран занимают спины и затылки сотрудников милиции и прокуратуры, но время от времени открывалась и общая картина. Письменный стол хозяина, пристроенный к нему стол для совещаний с шестью, кажется, стульями по бокам. Тела не видно, оно, похоже, лежит на полу, а вот карабин – тот самый карабин «сайга» – виден хорошо. Улегся на самом краю письменного стола, вдоль края. На самом краю и ровнехонько вдоль края.
А Марик Гинзбург продолжал вещать за кадром, что тело было обнаружено сотрудниками фирмы погибшего, что дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства». Пауза. Наверное, для того чтобы слушатель осознал всю глубину сказанного. Потом на экране появился прокурор области и сообщил, что да, возбуждено по «доведению до», хотя и рассматриваются разные версии. Дело взято под контроль Генпрокуратурой и министерством.
Оно и понятно, кивнул прокурору Алик, не каждый день такие серьезные люди умирают таким вот красочным образом…
Прокурор пообещал дело расследовать быстро, Марик сообщил, что обязательно обнародует новую информацию, если она появится…
Марик – он такой. Он обнародует. Автор бессмертной оговорки по поводу приезда в Город главы Украинской автокефальной церкви. По версии Гинзбурга, к нам в тот раз приехал глава украинской автофекальной церкви. Марик может сказать что угодно. Главное, не мешать. Да.
Вот тогда, сидя перед телевизором, Алик и подумал о выстреле. О карабине. «Бабах!» и все такое… Потом засвистел чайник, возвращая Зимина к реальности.
И правильно сделал.
Нечего пялиться в телевизор. Совершенно незачем. Потому что Алику Зимину не светит писать статью по этому делу. О таких серьезных людях пишут люди тоже серьезные. А Зимин к этой категории не относился.
Он и с покойным-то пересекся совершенно случайно: предпринимателю и филантропу пришла в голову идея выпускать газету, печатный орган родного авторынка, обратился он по дружбе к шефу Алика с просьбой прислать кого-нибудь, чтобы макет соорудить. Ну шеф и послал кого не жалко.
Алика вот и послал.
Хотя потом оказалось, что поездка выдалась совсем приличная. Ларенко организовал экскурсию по своему рынку, по стекольно-зеркальному заводику, угостил обедом со своего стола и очень неплохо заплатил за мелкую, в общем, работу.
Что-то такое было в этом Валентине Николаевиче… Эдакое добротное. Не доброе – идите на фиг со своей добротой в суровое постсоветское время – добротное. Сам он, Ларенко, был мужчиной крупным, серьезным, но без всяких гаек на пальце и цепуры на шее. Офис свой организовал не где-нибудь в центре Города, а на только что засыпанном болоте, возле недавно возведенного заводика и рынка. Обед, которым накормили Алика, был почти домашним, его подавали в небольшом кафе-вагончике возле офиса. Семейный обед, без всяких там консервов: борщ, каша, котлеты, компот. Сам депутат-предприниматель сидел, кстати, рядом и вкушал от того же борща с котлетой.
Общаться с Ларенко можно было запросто, без проблем. Нужно было только молчать и слушать. Вовремя кивать или четко отвечать на конкретно поставленные вопросы. Он спросил – ты сказал и снова можешь жевать котлету.
Алик сразу уловил нужную линию, обнаружив на заводике в каждом цеху над каждой дверью небольшую такую табличку. Вначале Зимин подумал, что это название цеха или фамилия ответственного за противопожарную безопасность, но потом подошел поближе и увидел, что на табличке через трафарет выведена цитата, и не из какого-нибудь там Ленина, а из самого Валентина Николаевича.
Когда экскурсия пришла в новый, только что построенный цех, Алик был уже морально готов к тому, что фотооператора, например, повергло в легкий шок. На всю немаленькую стену, напротив здоровенных окон (а чего стекла экономить – завод-то стекольный, правда?), этаким гигантским комиксом располагались картины, повествующие об истории заводика.
Ларенко с одобрением во взоре осматривает пейзаж до начала строительства, Ларенко закладывает первый камень в фундамент, Ларенко открывает первый цех, Ларенко еще что-то такое, но что именно – не понятно: художник, сидя на лесах, как раз заканчивал карандашом разметку грядущей фрески.
И что подкупало: в суровое время, когда с каждым могло случиться все что угодно, когда любой бизнес мог вдруг внезапно стать чужим, картины рисовались прямо по штукатурке. Снимать и уносить их никто не собирался. Навсегда делалось.
Навсегда.
Алик заварил чай, налил себе в кружку, бросил несколько кусков рафинада, размешал.
Если не хочешь соврать, говаривали древние, избегай слов «всегда» и «никогда». И еще знали верный способ рассмешить богов. Ага, начать строить планы на будущее.
Такие дела, сказал Алик, глядя на свое отражение в оконном стекле. Такие дела.
Если Марик не врет. А врать он не может, ибо сам областной прокурор подтвердил: дело возбуждено по статье о самоубийстве.
Получалось, что человек, уверенный в себе, любящий себя, очень ответственно относящийся к себе и своему делу, подумал-подумал, да и шарахнул себе в грудь из карабина «сайга» калибра семь шестьдесят два на тридцать девять. Прямо в сердце. Сидел-сидел у себя в кабинете, потом взял карабин «сайга» калибра семь шестьдесят два, да и прострелил себе костюм… Дорогой такой костюм – то ли за штуку баксов, то ли дороже… Пиджак не пожалел, рубашку… Прямо под депутатский значок – «бабах!»…
Автоматически Алик отхлебнул из чашки, обжег нёбо и язык, выругался и поставил чашку на стол.
Что значит рубашку и пиджак? Он жену не пожалел и детей. А она у Ларенко, между прочим, настоящая была, не из новопойманных. Она с ним лет тридцать прожила. В сауны он ее, понятное дело, не брал – там обходился «мисками» с городского конкурса красоты, но все говорили, что и сам ее никогда не обидит, и никому не позволит. И не пожалел.
Алик легонько постучал кулаком по столу.
Жена. Что жена, если он даже себя, любимого, не пожалел? Себя, человека с фресок на заводе, автора бессмертных высказываний на зеркальных дощечках в цехах, курилках и раздевалке!
Это ж что нужно было сделать, чтобы такого человека довести до самоубийства?
Алик вернулся в комнату, снял с телефона трубку и задумался.
Нет, можно вспомнить несколько номеров, позвонить, поспрашивать. Опер из райотдела Юрка Гринчук вполне мог чего-то знать, а под хорошее настроение и поделиться своим знанием.
И для чего? Чтобы удовлетворить праздное любопытство далеко не самого уважаемого представителя малоуважаемой журналистской братии? А самому этому представителю это зачем?
Алик положил трубку. Встал, прошелся по комнате, спохватился, что так и не поужинал, быстро сжевал свои бутерброды с ветчиной, выпил уже остывший чай и помыл чашку.
Агата Кристи придумывала свои сюжеты за мытьем посуды, но у Алика оно занимало всегда не больше пяти минут, времени хватало разве что на идею заметки. После развода Алик еду не готовил, питался всухомятку. Раньше, когда покупал пельмени, приходилось отмывать потом кастрюлю и тарелку, но недавно в магазине возле редакции Зимин обнаружил итальянские равиоли из военных пайков в запечатанных судочках из фольги. Наверное, добрые итальянские военные присылали их голодным жителям Города в качестве бесплатного дара, но тут, в дебрях нарождающегося капитализма, все прекрасно понимали, что бесплатной еды не бывает, и покупали эти самые серебристые гробики так же спокойно, как покупали на рынке американское масло с надписью «бесплатно» на упаковке.
Алик с зарплаты забил холодильник итальянскими пайками, разогревал их по мере необходимости, из этих судков ел, освобождая себя, таким образом, еще и от мытья посуды.
Для чего он освобождал время, Алик толком и сам не знал: разнообразие его вечеров сводилось к выбору – лечь спать на расстеленный диван или «ну его в самом деле». Иногда общее однообразие скрашивали авралы на работе, когда газету сверстать не успевали и все должны были находиться рядом с матерящимся шефом. И уж совсем иногда в дом к Зимину приходил кто-нибудь… Совсем-совсем иногда.
Говорила Зимину бывшая после развода, что не нужен он никому со своей нищенской зарплатой… Время от времени Алик искренне верил, что это таки из-за зарплаты.
Алик принял душ, расстелил постель, лег, выключил свет.
Он никогда не завидовал богатым. И даже ненависти к ним не испытывал. С чего бы это? Он свой выбор сделал в девяносто первом, когда нужно было рискнуть всем, заложить квартиру, денежки пустить на закупку «двести восемьдесят шестых компьютеров» (или даже «триста восемьдесят шестых», но это если очень повезет, американцы их нам не продавали – стратегический товар)…
Можно было рискнуть и подняться. Или не подняться. Риск в этом и состоит. Получится или не получится. Получится – и ты обедаешь в ресторане каждый день, не получится – семья наскоро перекусит на твоих поминках и будет решать вопрос с новым жильем.
Ларенко рискнул и выиграл. Говорят, в него даже как-то стреляли. Он после этого с охранником всегда ездил. Никогда один, всегда втроем – Ларенко, водитель и охранник. И карабин этот он купил не для охоты или там понтов, а по совершенно житейской причине. Хотя да, и для понтов тоже.
Почему так прицепилась к Зимину эта штука? Почему вот уже четвертый час он не может выбросить из головы мысль о смерти Ларенко? Жалость? Нет жалости. Нет – и все. Нечто подобное жалости скользнуло в первую минуту, а потом пропало. Несвоевременное это чувство по нонешним временам. Немодное.
Да и жалеть кого? Жену и детей? Им все осталось. И заводик, и рынок, и что там у них еще?.. И деньги, и связи… Дети взрослые, насколько знал Зимин, дочке что-то около двадцати пяти, сыну чуть больше двадцати. Дочка замужем, сама мать двоих детей… Без Ларенко будет не так надежно, но… А кому сейчас легко?
Любопытство. Интересная версия, сказал Зимин, глядя в потолок. Очень забавная. Даже смешная. Любопытство – это, конечно, профессиональное. И профессиональное любопытство за собой влечет профессиональные гонорары. А тут гонорары не светят. Во всяком случае, Алику Зимину.
А не уснуть ли тебе, сказал Зимин и не нашел что возразить. Действительно – а не уснуть ли? Завтра на работу, сдавать материалы. Потом верстка, сдача номера, к среде, если повезет, Алик все сбагрит и до самой пятницы, а то и до понедельника будет снова счастлив и ленив. Это называется «уверенность в завтрашнем дне».
Алик вздрогнул.
Вот. Вот это самое – уверенность в завтрашнем дне. Ты просыпаешься утром, открываешь кран с горячей водой, а оттуда опять тонкой струйкой льет холодная. Ты спускаешься на лифте, точно зная, что до первого этажа он не доедет, нужно выходить на втором, какие-то уроды дверь на первом покалечили. Если выходишь очень рано – точно знаешь, что на улице темно, фонари не горят. Они и ночью не горели, и вечером. То, что на дворе январь и темно большую часть суток, никого не волнует. Тебя все это вместе взятое бесит неимоверно, до скрежета зубовного бесит, но вместе с тем и примиряет с окружающим миром. Мир неизменен, и ты в нем – неизменен. Почти вечен. И пока нет горячей воды, сломан лифт, не светятся фонари – и ты сам вроде как бессмертен. Имеешь точку опоры. Вон бомж в мусоре копается. Это тоже неплохо – кому-то хуже, чем тебе. Ларенко ездит в «мерседесе»? Значит, не все потеряно в этом мире, жизнь не всех затоптала, это просто ты не проявил должного рвения и старания…
А тут «бабах!» – и Ларенко пустил себе пулю в сердце. Это если даже он не выдержал и застрелился, то что же о тебе говорить? Тебе нужно просто пойти и утопиться в унитазе. Или вон – с балкона. Девятый этаж гарантирует результат независимо от толщины снежных заносов на финише.
Если бы взорвали Ларенко вместе с «мерседесом», то и проблем бы не было. Естественная смерть, что ни говори. И это он не сам ее выбрал: это ему бы настолько позавидовали, это ему настолько было хорошо, что ему ТАК позавидовали…
Приставил себе карабин к груди, нажал на спуск…
К сердцу приставил, подумал Зимин, засыпая. К сердцу…
Утром проснулся с той же мыслью. Встал, еще толком не продрав глаза, отправился в ванную, убедился, что горячей воды нет, умылся, почистил зубы.
Ларенко взял карабин и приставил к груди. Потом нажал на спуск. «Бабах!»
Зимин выругался и пнул в сердцах стену. Прицепилось слово – теперь хрен его отдерешь, это «бабах!»… Как чертополох от вязаного свитера. Или из волос. Из волос еще и больно.
С этим наваждением нужно что-то делать. Что-то нужно предпринимать…
Зимин оделся, пошел убирать постель и обнаружил, что по телевизору как раз повторяют вчерашние новости. Марик опять рассказал, что именно сообщил мэр города по поводу отсутствующего уличного освещения, а потом перешел к информации о гибели Ларенко.
Ничего нового Зимин не увидел. Мелькнуло в кадре лицо Игоря Протасова. А почему бы и не мелькнуть физиономии прикормленного журналиста в приемной покойного работодателя? Вот кому сейчас плохо, так это Протасову. Ларенко он был нужен – Игорь строгал для него статьи и речи, а жене и семье покойного – спасибо, не нужно. Протасов в эту ночь наверняка пил беспробудно, старательно и вдумчиво, проклиная себя за то, что ушел от бандюков в почти легальный бизнес. С конкретными пацанами можно было нарваться, но они не заканчивались, как патроны в пулеметной ленте.
Один вылетел, второй подошел, за ним третий… И каждому, может быть, полезно иметь поблизости журналиста, который за кусок хлеба с маслом достанет нужную информацию или перетрет чего нужно с судейским или прокурорским. Но был риск.
Ларенко выглядел в этом смысле куда безопаснее и надежней, но вот так все обернулось – не оправдал доверия.
В редакции только и разговоров было, что о гибели Ларенко. Что странно – обсуждались только варианты будущего. Отберут у семьи рынок или нет, потянет жена заводик или продаст? Чем же так припугнули Валентина Николаевича, что он в себя пульнул? Это проколовшийся политик стрелялся или прогоревший бизнесмен?
Редкий случай. Редчайший. Никто не сомневался в самом факте, в способе, так сказать, перехода из этого мира в другой. Самоубийство, понятное дело. Вот, кто довел – это да, это интересно. А в самом деле…
– Бабах! – громко сказал Зимин, в комнате все замолчали, посмотрели на него, как на сумасшедшего, и продолжили обсуждение.
– Вот именно, – изрек Зимин, – Вот именно.
Кто-то позвонил в центр общественных связей областного управления милиции, но там сказали, что ведется расследование и до окончания его ничего говорить не будут. Замглавного связался с приятелем в прокуратуре, тот ответил вежливо, но неопределенно – ждите официального сообщения. Парни из отдела расследований предложили выйти напрямую на па-тологовых анатомов, но главный сказал, чтобы они не умничали. И вообще – работать нужно. Работать. Номер нужно выпускать, сроки поджимают, а еще надо первую полосу переверстывать – под материал о смерти депутата и мецената…
Это да, подумал Зимин, не меньше полосы придется под это отдать. Фотографию, заголовок. Просвещенное мнение какого-нибудь эксперта… Черт.
Зимин подошел к столу редактора отдела и спросил, а, собственно, за счет каких материалов будут освобождать место на страницах еженедельника? Как, удивился редактор, а тебе разве не сказали? Я же тебе говорил… Не говорил? Извини, замотался. Все сдвигается, рекламу трогать нельзя, проплаченную заказуху – тоже… Твоя полоса летит, уж извини. Да, понимаю, что к следующей неделе материалы протухнут, но ты же еще напишешь, ты же профи… Профи?
– Профи, – сказал Зимин.
И этого профи только что лишили четверти месячного гонорара. В память великого земляка.
– Так я пойду? – спросил Зимин.
– Иди. Если что – скажешь, я разрешил.
У выхода из редакции болтали охранник Макс, аспирант мединститута по совместительству, и водитель шефа – Николай Иванович.
– А я тебе говорю, смысла нет в сердце стрелять, – авторитетно заявил Николай Иванович. – Ты «сайгу» когда-нибудь в руках держал? Это ж, блин, как руку нужно вытянуть, чтобы ствол приставить. Тэтэха «сайги» знаешь, боец? Какая, к примеру, длина ствола у «сайги»? А? Это тебе не пистолет. Там пятьсот двадцать миллиметров длины. Только ствола. И еще сантиметров двадцать – крышка ствольной коробки, а под ней – спуск. Прикинул?
– Прикинул, – сказал Зимин, остановившись рядом с Николаем Ивановичем.
– Алик? Привет! – Иваныч пожал Зимину руку. – То есть семьдесят два сантиметра вместе выходит. Так?
– Так, – подтвердил Алик.
– То есть сидит он за столом, покойничек, берет карабин, приставляет дуло к сердцу, тянется к спуску… тянется так, тянется…
– Ну он был мужик крупный, руки были длинные, – рассудительно заметил Макс.
– А живот? – прищурился Иваныч. – Он пару месяцев назад сюда приезжал, ты ведь дежурил? У него еще сантиметров двадцать на живот нужно прибавлять. И вот он приставляет, тянется…
– Ну дотянулся. – Зимин не то чтобы провоцировал водителя, но поторопить немного хотел. – Проблем…
– Вот! – Иваныч указал пальцем Максу на Зимина. – Посмотри на него, Максик. Такой же штатский тип, мать его так. Ты, Алик, прямо сейчас можешь указать пальцем на свое сердце? Ты бы куда винтовку приставил? Давай быстро, не задумываясь. Ну?
– На себе нельзя… – неуверенно возразил Зимин. – Примета плохая.
– Да ну тебя с приметой! Показывай! – прикрикнул Иваныч, и что-то такое звякнуло в голосе майора в отставке, что рядовой запаса Зимин, не задумываясь, ткнул пальцем туда, где предполагал у себя наличие сердца.
– Вот тут!
– Что скажешь, медик? – спросил Иваныч у Макса. – Попал?
– Сантиметров на пять левее и выше, – печально констатировал Макс. – Вполне мог отделаться реанимацией. Даже кровотечение будет не так чтобы обильное. Даже если не сразу нашли, мог бы выжить.
– Понял, Алик? Не знаешь ты, где у тебя сердце, – заключил Иваныч. – Как стреляться будешь, если приспичит?
– Я на девятом этаже живу, – ответил Зимин домашней заготовкой.
– А если враг тебя настигнет на земле? На уровне моря? Окружит танками и в плен, того гляди, брать надумает? Атам пытки лютые… Немыслимые… – Иваныч зажмурился в предвкушении и почмокал губами, – Полный садизм. А у тебя только один патрон в карабине. Куда стрельнешь? И смотри, ты пальцем промазал, а ствол такой рычаг дает, что чуть отклонишь приклад, а линия выстрела градусов на тридцать гульнет, если не больше. А еще нервы. Страх опять же. И непривычно так ружье держать, не каждый день стреляешься! Куда будешь лупить?
– В голову, – Зимину разговор стал несколько надоедать, но и обижаться на хороших людей смысла нет.
Ну увлеклись, с кем не бывает?
– В висок? – усмехнулся Иваныч.
– Снизу, подподбр… тьфу ты… под подбородок, – Зимин приставил палец, – Вот сюда. И длины руки хватит.
– Твое мнение, эскулап? – Иваныч повернулся к Максу.
– Вполне, – одобрил тот, – Можно было еще и в рот, но и так хорошо получится. И линию выдерживать удобнее.
– Точно. – Иваныч поднял указательный палец, – У меня в батальоне один из автомата стрелялся. Именно снизу вверх. Именно в под голову. В ангаре стрелялся, мозгами весь потолок забрызгал. Как-то сегодняшний покойник заковыристо пальнул. Мог промазать, но попал… Судьба.
– Повезло, – сказал Зимин, направляясь к входной двери.
– Типун тебе! – крикнул вдогонку Иваныч, – К бесам такое везенье.
– Так к бесам и пошел, – Зимин остановился, оглянулся на Иваныча и на Макса, – И получается, что не покойник он, а мертвец. Самоубийца ведь не может упокоиться. Самоубийство – грех. Так что – в ад пошел Валентин Николаевич. В самое пекло.
Зимин вышел из редакции, поднял воротник куртки. Было морозно. Куртка у него была не по сезону – из шкуры молодого дерматина – что-то потеплее Алик купить так и не собрался, все время приходилось выбирать: либо после зарплаты переодеться в теплое, либо дотянуть до конца месяца без голодных обмороков.
Нужно ехать домой.
Алик даже повторил это вслух, но особой радости при этом не испытал. Еще один вечер наедине с телевизором? Ага, спасибо! Когда еще был женат, все время ныл, что ему не дают сесть за роман. Он, в конце концов, филолог как-никак, все эти копеечные газетные заработки – временно. Зимин напишет роман и станет знаменитым. Но жена и теща не давали посидеть за печатной машинкой.
Теперь машинка стоит на столе все время. Никто не мешает. Садись, пиши. Еще можно прийти домой, поесть равиолей и уснуть. Вечером проснуться, поужинать и снова уснуть, посмотрев телевизор.
В кафе. Хороший вариант – кафе. Тепло. Уютно. Машенька опять же улыбается и наливает кофе бесплатно. Пытается бесплатно, но Алик всегда оставлял деньги за выпитое и съеденное. В том, что уличные отморозки перестали наезжать на кафе, была не его заслуга. Вернее, не столько его. Он просто вовремя привел туда Юрку Гринчука – нужно было поболтать, поспрашивать старшего лейтенанта в приватной обстановке об одном скользком типе.
Они пришли, поздоровались с симпатичной девушкой за стойкой, заказали кофе плюс фундук в блюдечке, сели за крайний столик и только углубились в беседу, как в кафе нарисовались три короткостриженых обладателя костюмов «абибас». Как потом выяснилось, Гринчук был как раз после дежурства, хотел по-быстрому поговорить и уехать домой, усталый был, да еще начальство вкатило ему вот за таких же беспре-делыциков… В общем, не повезло ребятам. Гринчук даже объяснять ничего не стал. Вмешался после первого: «Слышь, ты, коза…»
Один из парней осел сразу, там же, где стоял. Хлюпнул чем-то и стек вниз. Второй оказался с повышенной броневой защитой. Выдержал три удара – три! Потом все равно упал, но позволил третьему приятелю достать «пыру». Гринчук был в штатском, пацаны его не знали, посему отморозок чувствовал себя в своем праве. В руке оказался нож – шаг, еще шаг, легкое движение руки, не замах, а будто дрожание хвоста кошки перед броском.
Нужно было бить его по голове чем-нибудь тяжелым, как в кино. Но то в кино, а это – в жизни: Алик сидел, словно парализованный, и все силы своей души потратил на выдох-выкрик: «Сзади нож!..» У Гринчука оказалась хорошая реакция, у «пырщика» – перелом обеих рук и сотрясение мозга.
Две минуты беседы с опером открыли пришедшим в себя парням новые перспективы и горизонты, они поклялись мамой и обещали есть землю, если еще раз сюда сунутся. Тут крышует Гринчук, с чувством сказал тот из мальчиков, кто сохранил более-менее ясное сознание.
Вот с тех пор Гринчук был в кафе желанным гостем. Ну и Алику тоже были рады.
– Кофе? – поздоровавшись, спросила Машенька. – Большую чашку?
– Большую, – сказал Алик. – И сладкую.
– Садитесь, приготовлю – принесу, – Машенька улыбнулась, она часто улыбалась при Алике вот так, без повода. С иронией, наверное.
Алик решил сесть подальше от висевшей на стене колонки. Певец как раз пел про девушку в автомате с перемазанным лицом – Алик не был поклонником дворовой лирики, да и вообще к музыке несколько равнодушен.
В кафешке было тускло, накурено, но зато тепло и пахло настоящим кофе. Машенька замечательно варила его на песке и никогда не пережаривала орехи. Можно было и водочки перехватить или заказать даме грамм сто «бабоукладчика». Хорошее место, недалеко от работы и без шумных завсегдатаев.








