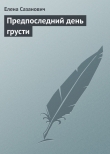Текст книги "Предпоследний возраст"
Автор книги: Александр Васинский
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
В палате было темно, как внутри камня. (Перегорела, что ли, лампочка над дверью бойлерной?) Константин Сергеевич ничего не видел вокруг себя, но за две недели он привык к палате, поэтому и в потемках угадывал и различал дверь, кровати товарищей… Он не видел, но точно представлял, как Николай Терентьевич, актер, лежит на спине, а Вадик на боку, скорчившись. Он, Вадик, тоже тяжелый. В его легких отмирала жизнь. Он догадывался о своем будущем, этот юноша, десятиклассник, лицо которого обильно цвело возрастными наливными прыщами, угрями и прочей весенней порослью. И почему только он…
«Если я умру, – внезапно подумал Константин Сергеевич, – в этой тьме меня можно будет обнаружить по овалу невиданной черноты на подушке, потому что я знаю, какая кромешная, ни с чем не сравнимая мгла воцаряется в мозгу умершего человека и именно потому, что в мире нет ничего ярче вспышки возникающего разума, даже звезды уступают ему, ибо светоч сознания зажигается от факела самой природы, и нет ничего более яркого и, может быть, более ей дорогого, весь мировой свет в этот миг сосредоточен на его острие… Вот почему натекает чудовищная, первичная чернота после хлопка угасания самого яркого, что есть в мире…
Константин Сергеевич усмехнулся: он не излечился от поэтических метафор? И он кивком головы прогнал это от себя.
Сосет, посасывает, конечно. И ты знаешь что. Стыдно в этом признаться, но сосет тщеславие, то, что Кравченко от института представили к госпремии, хотя наше 0613/б намного лучше и перспективнее их «Жучка». Могут сказать, что мы свое изделие еще только доводим, пусть, но нам даже не намекали на такие вещи в случае успешного окончания работ. Я так и вижу ухмылочку на любопытно сконструированном лице этого Кравченко, в нем все черты не свободны, а странным образом стянуты к носу, отчего оно, это лицо, таит подвох и какое-то востро-ненадежное выражение.
Вот как, Константин Сергеевич, докатился, уже и лицо соперника тебе не нравится, а ты еще…
Из коридора, где реанимация, опять послышались шаги, приглушенные голоса… И опять тихо. Константин Сергеевич сглотнул ком в горле, отвернулся к стене, поймал себя на том, что размышляет сквозь прислушивание к коридору.
…как это ты? – Кравченко в списках, а меня нет в списках… опомнись! (Константин Сергеевич вдруг ощутил облегчение, что так ему подумалось.) Очнись! – сказал он себе. Ты же летишь в тартарары, и незачем крутить головой и смотреть по сторонам – кто с тобой тут летит заодно, и почему рядом нет того-то и того-то. Кравченко представлен. Ну и что? Глупо предаваться этим мелким счетам, может быть, за несколько мгновений до того, как расплющиться о базальтовые надолбы, на которые… Константин Сергеевич думал про все это затяжным глотком, забыв набрать воздуха, и он вдруг поперхнулся и в него вошел иглой такой ужас, какого он еще никогда не испытывал. Он ошеломляюще ясно, четко, холодным ожогом ощутил, что он сегодня умрет на операционном столе. Не только телом. Весь. Навсегда. Без остатка. Он потрогал пальцем щеку – он плакал. «Что?» – спросил он себя, плохо понимая, что с ним. Это будет здесь? Так? Это конец?! Нет!! Не хочу!! Не хочу-у… – он тихонько захныкал, как ребенок, быстро встал, побежал по коридору до лестницы, спустился на первый этаж, к телефону. Руки его дрожали. Позвонить. Сказать. Попрощаться. Это не сон. Не игра. Вот я сейчас стою, не сплю, я – вот он, ночь, больница, я в здравом уме, хоть и под уколом, и мне это не снится и ничто не поможет, завтра все будут заняты своими делами, а я
лежу тихо бесчувственный зуд разложения один на один со смертью не хочу.
Не хочу! Он быстро стал набирать ее номер, взвел диск с последней цифрой, но обратно крутиться ему не дал, держал палец в прорези, ощущая упор стального ограничителя, – тут он вдруг представил, как сейчас, через секунду, сквозь литую плоть провода ринется зуммер, и еще через миг в глухую темноту спальни, в глухой сон распластанного на софе человека ворвется пугающе-неожиданный нелепый перезвон, взорвется эта маленькая электрическая бомба, и Константин Сергеевич, подумав об этом, вынул палец из прорези диска и быстро нажал на рычаг. И вернулся в палату.
Несколько минут он лежал без движения и как бы без памяти.
Сначала он приписал это действию лунного облучения, но слабость и страх, новый особый страх не проходили. Какой-то непонятный протест поднимался в нем. Нет, не страх и не протест, а что-то иное.
я могу умереть, – спокойно говорил он себе. Слышишь? а что ты делаешь о чем твои мысли РАЗВЕ ТАК УМИРАЮТ ведь все твои последние месяцы и годы и больничные недели и эти вот часы боже да это же надругательство это
Вдруг как пелена спала с Константина Сергеевича. То, что сейчас входило в него, сопровождалось утончавшимся звуком, который был похож на тающую дрожь колокольного звона после последних ударов – не на самый перезвон, а на замирающее на исходе эхо. И этот звук был окрашен в лунный свет. Но в воображении Константин Сергеевич переносил его легче, не так болезненно.
Перед ним из каких-то скачущих зайчиков, крепового банта, воскового пятна, мелких шажков выткалась картина последних похорон, на которых он присутствовал. Когда это было? Полгода назад. Хоронили замдиректора института Шумилова. Константина Сергеевича назначили стоять в клубе в почетном карауле. Он очень уважал Шумилова, в душе оплакивал его кончину, не мог смотреть на его неузнаваемое запрокинутое лицо – Константин Сергеевич впервые видел Шумилова лежащим. Речи прощания были ужасны. Говорили, какое учебное заведение закончил покойный, как проявил себя на тех ответственных участках работы, которые ему доверяли… Траурный ритуал мало чем отличался от процедуры вручения авторского свидетельства или от приема в члены научно-технического общества (НТО), или от собрания. Когда у Константина Сергеевича снимали с рукава траурную повязку (там что-то зацепилось), он непонимающе смотрел, будто ему, высвобождая зажим, только что измеряли давление… Потом сослуживцы грузились на автобусы, направлявшиеся на Хованское кладбище. Он задержался в туалете (его вырвало), а когда вышел с платком, приложенным ко рту, все автобусы уже уехали. Он спустился в метро. Был час пик, толчея, переполненные вагоны; в длинном пешеходном переходе на «Павелецкую» случился обычный затор, и лавина людей едва двигалась на сотню метров впереди, все шли, на полступни переступая ногами, шли мелкими шажками, медленно, как за гробом.
На кладбище он успел к самому концу, к заколачиванию гвоздей, просовыванию веревок и опусканию. И потом погрузка в автобусы в обратный путь.
Это называется: отнять у смерти величие и красоту тайны. Много позже был Константин Сергеевич в Пушкинском музее изобразительных искусств. Долго стоял у одной маленькой статуэтки из нефрита в египетском зале. Это была она. Какая отрешенная бесстрастность холодящего всезнания, какая неоглядность дальней влекущей дороги запечатлены во взоре и в тонкокостном шакальем профиле этой богини смерти Анубис!.. А что обещает нам наша смерть, кроме…
Моргнув, он распугал свои размышления, повернулся к окну. Светало. На льдисто-розовом фоне слабо отпечатывалась стоявшая на подоконнике банка, из которой как бы выбрызгивался фонтан темных струй. Это была банка с луковицей, ее третью неделю выращивал Вадик.
Константин Сергеевич нередко подходил к окну и разглядывал эту вадикову гидропонику. Банка из-под болгарской лютеницы, с этикеткой, изображавшей смуглую девушку в родопском наряде; из банки торчали мощные стрелки лука с начинавшими свисать концами. Если посмотреть на нее сверху или, лучше, с того бока, где в опоясывающей ее этикетке стеклянеет маленький прогал, то можно увидеть: этим молодым, дерзко зеленым напористым стеблям дало жизнь мятое, с тухлой полуразложившейся кожурой, с провалившимся нутром изжеванное тело луковицы…
В коридоре снова возня. Нет, нет, шептал себе Константин Сергеевич, нет, это нельзя, это плохо и хитро, что она низведена до какого-то короткого бюрократического действия в анкетах кадровиков. По какому праву смерть представляется чем-то дежурным, заурядным, вроде выписки курортной карты или подписки на библиотечку «Огонька», чем-то…
а не гибелью богов падающих с небесных искореженных престолов
что как думают так и представляют все слепок с него судьбу его повторит с ним вместе тайна никому вы же вы не знаете Земля Земля имеет форму человека человека человека
Не думать, не думать. Боль группируется вокруг точки сосредоточенности.
…И будто в маленький перевернутый бинокль увидел те дни… Боже, это невозможно! Вон далеко внизу наш двор, где мы с мамой жили после войны. Вон дерево за оградой посреди двора. А вон наше окно на первом этаже. Ой, вон Мустафа! Это он вышел из подъезда. Му-у-ста-а-фа-а… (Нет, не слышит, конечно). Тут, сейчас, Мустафа еще маленький, просто татарчонок, хулиганистый чернявый мальчишка с чуть раскосыми глазами; вот подошел к ограде, крутит головой, видит старуху Заливанскую на скамейке, поворачивает к ней лицо и с коротким хлестким звуком далеко прыскает тонкой струйкой сквозь нижние зубы. Так делали в те первые послевоенные годы взрослые блатные, высшим шиком считалось. Еще: кепочка с крохотным козырьком, рыжая фикса, презрительно полуоткрытый вывалившийся рот, таящий на губах готовность к мгновенной растяжке и к исступленному истерическому вскрику: «Не кассайсся, падло», и вслед за этим (в сторону) брезгливый, опавшим тоном, выдох: «Припа-а-рю-ю»… В ходу были всякие ихние словечки – «в натуре», «козел», «аля-улю, гони гусей» и т. д. Называлось: «по фене ботать». Дня не проходило, чтобы кого-то не зарезали насмерть или не исполосовали. От мамы он только и слышал: «Костя, не ходи», «Костя, домой». Чего уж теперь, жизнь прошла, но все равно удивительно, как можно было выжить в той толчее пагубных дней, в гуще драк, толковищ, – да меня ж по приговору «урок» убивать водили, совсем забыл (такое забыть!), и я шел на пустырь расправы в сладком оцепенении ума и воли, повинуясь волшебному чувству неверия, страха, геройства и любопытства.
И по крышам поездных вагонов я бегал перед сводом надвигающегося тоннеля… О тусклое, с облупившейся фольгой, старое зеркало подслеповатой моей памяти. О раздрызганное, искромсанное бедное отрочество, про которое давно вертится у меня одно верное слово – помешательство. Да, эта подростковая пора сродни, сродни состоянию особого сумасшествия. Разве не жил он тогда в убеждении, что если во что-то очень верить, то можно сделать все, что ни захочешь – хотя б невредимо и беспрепятственно пройти сквозь стену. Но только нужно очень, очень верить. И было несколько случаев и попыток. Он шел на стену лицом вперед, руки сзади, шел с радостно (бесстрашно) вытаращенными глазами, не морща носа и не держа в уме мысли зажмуриться или сжаться в последний момент. А потом он вытирал окровавленный подбородок запястьем, смотрел на целую неразверстую стену и тихо плакал, и что же этот идиот после всего приговаривал своим надтреснутым, по-щенячьи визгливым, но уже начинающим матереть голосом подростка? Он приговаривал: «значит, я не до конца верил, значит, я сомневался какой-то капелькой»…
А его полеты, вернее, вера, что человек может взлететь? Перед этой попыткой он почти не ел несколько дней (для облегчения веса), подгадывал, чтобы мама не могла придти и помешать. Условие взлета было то же: надлежало очень, очень верить, остальное дело техники. Надо было сконцентрировать волю в одну точку, чем сообщить телу легкость и аэродинамическую силу, и он стоял посреди комнаты, раскинув руки, пыжился, вытягивался в струнку и ждал. И что же вы думаете? Он предварительно распахивал окно, убирал с него цветы и занавески, чтобы в случае подъема в воздух сразу вылететь в переулок, потом резко взмыть над сквером, чтобы избежать столкновения с трамвайными проводами, и затем уже подняться в самое небо и спокойно лететь, – это он тоже, обдумав, решил – на дачу к тете Люсе; словом, в комнате он принял все меры предосторожности и все учел, потому что неизвестно было, какая появится начальная скорость и управляемость полета, а в пространстве комнаты и не полетаешь вдоволь, и к тому же абажур бы мешал…
Неужели все это было? Константин Сергеевич улыбнулся. Он до сих пор не избавился от этих своих фантазий, или мало ему реальности, скучно, разве и сегодня он изжил странные упования?.. Не хочется расставаться с мыслью, что в человеческой природе нет сил высшего порядка. Нельзя вот так взять и взлететь, вы понимаете это? Можно взлететь лишь на воздухоплавательном аппарате, ясно? У вас есть документы на право управления аэротранспортными средствами? Нет? Тогда ходи пешком, хмырь болотный!
Тут мельком представился Константину Сергеевичу облик человека в тюбетейке. Да, это тот русский, который не знал ни слова по-русски. Где он видел его? Ну да, в командировке, в глухом узбекском ауле, Константин Сергеевич ездил в те края на институтский полигон испытывать предпоследнее изделие. Тому мужику было под пятьдесят, и история его была проста: в сорок втором в Узбекистан эвакуировали ленинградский детдом, почти всех сирот разобрали к себе местные жители, и в том числе этого, годовалого. Вырастили, воспитали, в армии он не служил из-за увечья ноги, нигде не был, никуда из аула не выезжал, так и работал в колхозе при овцеферме. Про него потом рассказал Константину Сергеевичу шофер, возивший его на полигон. Так вот, когда Константин Сергеевич, ничего еще не зная, обратился к тому русскому пастуху по-русски, тот не понял, как-то оцепенел и перевел взгляд на шофера как на переводчика. Разве это не потрясающе? Тюбетейка. Прищур. Но наш, белесенький, светлоглазый. Меня не понял, пусто, зато как заговорил с шофером, как ловко, легко, по-свойски выговаривал все эти «гюльфюль», «ашшуля», «абуль», «чиройли»… И не свело губы, весь артикуляционный аппарат не дал ни одного сбоя при произнесении слов, столь, казалось бы, чужих, структурно иных по сравнению со словами кровного языка. В какой-то момент Константину Сергеевичу показалось, что в глазах пастуха мелькнуло воспоминание или, вернее, шевельнулось ущербное чувство подвоха, что непонятные звуки имеют какой-то странный отзвук в его уме, и еще Константин Сергеевич, проезжая потом на «уазике» с полигона мимо овцефермы, подумал о том, что незнание этим пастухом русских слов не было просто отсутствием знания, а оно именно наличествовало зримой пустотой отсутствия, как место, где остался отпечаток, вмятинка украденной святыни, замещенной чем-то другим… Но разве мозг и язык не связаны неразрывными морфологическими узами? Разве мозг не отторгает чуждые ему слова по тому же закону несовместимости, по какому организм отторгает пересаженные чужеродные ткани? Разве в сосуде ума благоверного мусульманина не скиснет вмиг внезапно влитое вино христианской мысли? Так почему же в мозгу того пастуха с овцефермы не створилось молоко инородной речи? А где память губ, нёба, гортани, языка? Память мышления?
однажды лунной азиатской ночью сел бы он в своей постели и тихо, чисто произнес, дивясь дивному звуку собственной речи:
– Отара. Ночь. Звезда.
Пусть его не учили ни одному русскому слову, пусть он не слышал звука родной речи, но ведь в недрах его мозга таились же, дремали клеточки, семечки русских слов, русских понятий, заложенных предками, врожденных, зачаточные-то атомы русского мышления, почему же не проявились, гены не отозвались, зерна не взошли, пусть нипочему, пусть на пустом месте, почему не самозародились в его мозгу русские слова и русские мысли, как самозарождаются же какие-то микроорганизмы в парном мясе? Не бывает так? Так вот и я о том, о этой самой скуке детерминизма тогда на полигоне думал. Не бывает, и все, хоть лопни, сойди с ума, умри, а вот не бывает, и все.
Тюбетейка куда-то уплыла.
Константин Сергеевич открыл глаза, обвел взглядом спящую палату, вздохнул. Нет, он не забылся, он ни на минуту не забывал, где он и что ему предстоит сегодня утром, просто блуждающие картинки, как это часто бывает, ложились вторым слоем, поверх. Но ему не хотелось остаток ночи думать о предстоящем, и он снова встряхнул свою память, как встряхивают градусник, к начальной отметке…
Бегунок. Бегунок.
Что я вижу? Старуха Заливанская, изрыгая вполголоса ругательства на непонятном языке, ушла вглубь дворового садика, в зону недосягаемости артистических плевков Мустафы… Боже, а вон из подъезда… как я волнуюсь… выкатывает колесо (ржавый обруч, поддерживаемый гнутым на конце железным прутом) ужасно знакомый мальчишка лет десяти. На нем зеленая рубашка… Эй, эй! Это я. Возможно ли такое? И рубашку эту помню, потом, когда у Муськи котята родились, эта износившаяся байковая рубашка пошла им на подстилку. А Мустафу, смотри ж ты, я все-таки объезжаю подальше, что-то, значит, тогда между нами произошло, наверное, бил он меня, не помню, да и ладно. Держусь я осторожно, по ту сторону ограды, но при этом не забываю показать класс владения колесом, качу ржавый ковыляющий обруч то перед собой, то сбоку, то стоя на месте, то глядя на него, то не глядя, то непостижимо медленно (это особенно трудно), иногда заставляю его делать фигуры и виражи под таким наклоном, что он почти ложится плашмя на асфальт, но вот именно что «почти», в этом весь фокус. И вдруг обруч заело в крюке, когда я загляделся на старуху Заливанскую. Это был обруч от бочки, поэтому на плоскости он имел скос и норовил все время заваливаться на бок – а я не давал, владея искусством держать направляющий крюк под особым углом. И вот обидная оплошность, засмотрелся… обруч выскочил из крюка, стал на месте выписывать сверкающие восьмерки и петли, волнообразно перекатываясь на гранях обода, он замедлял свою пляску и вдруг, перед тем, как неподвижно застыть, неистово завибрировал, дробно стуча ребрами обода об асфальт в агонии последнего содрогания.
Все это время маленький мальчик внимательно смотрел на обруч. Он был сконфужен.
– Ну, здравствуй, – сказал я со своей высоты.
– Здравствуйте, – сказал я, жмурясь и задирая голову.
– Я смотрю, ты не очень худой, я, честно говоря, думал, что тут у вас все как-то… хуже, – начал я и оборвал себя. – Уроки-то сделал?
– Сделал, – сказал я. – А вам-то что?
– Ну ладно, вот уж и обиделся, – примиренчески говорю я. – Извини. Дать тебе сахару? У меня случайно есть.
– Как хотите, – я опустил голову, помолчал. – Давайте.
– Лови, – крикнул я и бросил плитку сахара в аэрофлотской обертке. Я вытянул руки, поймал. Удивился разочарованно. Повертел незнакомую вещь, понюхал, попробовал надломить – не поддалась, испытующе посмотрел наверх, положил в задний карман.
– Вы вообще что – к маме, да? – сказал. – Лучше идите. Она сегодня все равно в вечернюю смену, – посмотрел опять вверх, жмурясь, и нагнулся за своим колесом.
И я наверху замер, опять услыша дребезжащий, скребущегромкий – железо о железо – звук.
«За что мне это прояснившееся окошечко в мутном зеркале», – думал Константин Сергеевич. Исжимается сердце, и хочется все смотреть и смотреть. Уехал под арку, исчез, сошел на нет. Костя… Костенька…
Да, тогда не с чем было сравнивать, времена были как времена, у десяти-одиннадцатилетнего человека нет другого времени, кроме текущего, вот почему…
ой закачало надо же так забыться увлечься качнуло как когда одной ногой в лодке другой от берега туманит таблетка не кровать а качели нет лодка но долго еще лодка операция в десять еще вызовут делать клизму кто сегодня да хорошо не Наташа а Зоя Семеновна ничего а это еще просто успокаивающая таблетка потом сделают укол главный а может они анестезируют иначе маски капельницы а может смотри отпустило никаких качелей тьфу лодок ясность и все еще я где в палате спят
Светало. Константин Сергеевич приоткрыл глаза, увидел мутную, как бы в подтеках, полоску оконного пространства, иссеченную тенями от его ресниц. Он сомкнул глаза, сжал их, и тогда свет стал проникать в глубину его зашторенного веками зрения сиренево-алым отблеском ровного пламени. Хорошо стало, будто поставили в угол. Поставил кто-то большой, впившийся рукой в плечо – вот, отпустило… Как он это любил! Они думали, что они его наказывают, а ведь стоять в углу так интересно! Во-первых, не надо смотреть на доску и вообще, и можно отключиться, рассматривать паутинки трещин, вдыхать приятный запах известки, ловить и расшифровывать заспинные звуки… лицом к стене… а сам угол… глаза вверх… что такое угол… сколько углов в верхней точке потолка… угол… сегмент…
Вот рыщешь лучиком фонаря с подсевшей батарейкой в сумеречной кладовке… Да, но почему тени и воспоминания сгущаются сегодня с такой плотностью? Так не бывает… С такой плотностью воспоминания становятся подлинной сиюминутно текущей жизнью. А тени уплотняются так, что о них можно удариться, тени… вот стена, угол, угол, вот он, а я вдруг маленький и на мне все висит.
О, какой подарок – это она, Светка! Сейчас ей, боже, не больше десяти, вот косички, вот ее легкий косящий взгляд. Светка пересекает двор из арки к подъезду… Она идет сквозь музыку, я знаю эту музыку.
Это музыка из окна Розы, большой смешной валкой вечной девушки Розы, она носит ортопедический башмак. Пластинка все та же. Из кинофильма «Мы с вами где-то встречались». Женский голос, красивая мелодия.
И слова-а, что всех чудесней-ей
Я для нашей встречи берегу-у-у-у
Отчего так сердцу тесно
Отчего так сердцу тесно
Разобрать я не ма-а-агу-у…
Роза, Роза, ты не выглянешь из окна? (Нет, не выглядывает.) Она любила меня поймать во дворе и тискать, хвалить мою матросскую форму. Говорила, если б ей такого сына, то ничего ей больше не надо. Я не вырывался, а стиснуто ждал, когда она сама меня отпустит. И моя мама, хотя этого не одобряла, ей ничего не говорила.
Роза, дорогая, тебе сейчас, наверное, за шестьдесят. Если ты жива. Если…
Ого! Мой маленький Мустафа заметил Свету там, далеко, на дне моего колодца. Я многое вспоминаю, подыши на зеркало и протри это место рукавом. Видишь? Надо отвлечь от Светы его внимание. Мустафа-а! Эй, Мустафа-а! (Невероятно, но он вертит головой, прислушивается.) Мустафа! (Сделал шаг вперед, смотрит наверх, стоит с задранной головой.) Мустафа-а!
Нет, ему что-то надоело или не понравилось, он пожал плечами, плюнул (не по-блатному, обыкновенно), еще раз посмотрел вверх и ушел под арку из нашего квадратного – колодцем – двора.
…Кто-то опять в коридоре. Или это не в коридоре?
В круге света Константин Сергеевич видел, как девочка поставила ногу на чугунный вырез в ограде и нагнулась поправить белый носочек. Оглянулась, никого, кроме старухи Заливанской. Здесь Света тоже совсем маленькая, как Мустафа, так что зря Константин Сергеевич за нее испугался, это потом повзрослевший Мустафа будет с ней «ходить», то есть встречаться, он станет известным уркой, блатным. Он ее будет угрозами заставлять приходить на свидание. Разве не помнит Константин Сергеевич, как в «Колизее» (там теперь театр «Современник», а было кино) на дневном или утреннем сеансе Мустафа приводил Свету в буфет. Мустафа приводил Свету в буфет. Мустафа уже с фиксой, сапоги, брюки чуть навыпуск, кепочка. Стоит молча над Светой, а та держит в руке купленное Мустафой пирожное. Мустафа что-то с угрозой говорит. Она дрожащие губы приближает к пирожному и, вспыхивая, откусывает, жует и плачет.
А через несколько лет, уже после двух сроков, этот Мустафа «припорет» начинающего юношу Костю, то есть пырнет ножом из-за Светы, которая сказала Мустафе, что будет ходить не с ним, а с Костей. Он подошел к Косте, с улыбочкой губ, а не глаз, близко-близко придвинул лицо, взглянул проникновенно-проникновенно. Потом лицо отвернул чуть в сторону, приоткрыл вывалившийся рот и начал «ботать» с этой ихней притворной, спокойно-сдержанной в зачине ласковостью, мол, на кого же ты, пидар, грабки тянешь, я же тебе пасть порву, фрайер, голос тихий, вкрадчивый, уговаривающий, даже, можно сказать, сюсюкающий, так с маленькими детьми говорят, но это прием, это самовозбуждение исступленной, обморочно подавляемой злобы, и так он, полуотвернув лицо, нарочно ласково-то говорит, он этим себя распаляет; этим затаенно-ласковым тоном он, должно быть, достигает к жертве достаточной степени ненависти и особого отвращения, и когда уже эти сдерживаемые им пределы падают, он, осклабясь, нутряно-истерически вскрикивает, обращает маниакальное лицо к жертве и делает рукой тычок – и вот Костя видит стылый не взгляд, а глаз, он не может двинуться, он загипнотизирован ужасом, брачным танцем блатного сладострастия Мустафы, его шакальим гнилостным дыхом, порочным дыхом падкости на падаль, истечением тлетворного семени таинственных матерных слов… и тут Мустафа коротким толчком руки колет Костю…
…я не знаю чем, маленькая узенькая боль, потом вспышка ожога, ужас догадки, и последнее, что я помню, – я смотрю в его ищущие, сладострастно-брезгливые глаза и валюсь на него, а он не отстраняется, ждет, как я по нему медленно сползаю и шмяк щекой об его сапоги…
Отсидел Мустафа за него еще один срок, вышел лет через пять, увидел юноша Костя его во дворе, подошел к нему и сказал, что он гад, из-за него делали две операции на легком, было больно. Мустафа вынул из кармана руку, растопырил пальцы и легонько провел пятерней по Костиному лицу.
– Баклан, будешь рыпаться, я тебе чалму одену. Я тебе допорю.
– Ну, допори, – сказал Костя.
Тут мать из окна позвала. Костя повернулся на ее голос, а когда опять оборотился, Мустафа уже входил в тень арки.
Напоследок он обернулся и медленно посмотрел на меня.
…А они с мамой вскоре обменялись, переехали в другой район, больше он Мустафу не видел. Если его не убили – в лагере свои или по приговору – где он сейчас, его чернявенький несостоявшийся убийца? На кого смотрит он сегодня сквозь свой раскосый прищур? В каком слое бытия блуждает, не сообщаясь с его путями? А, может, слесарит где-нибудь? Или ваксу варит. А, может, погасил судимости, завязал, институт какой-нибудь заочно кончил…
Однако что ж это про него в такое утро? Эй! Сгинь!
…если б Наташа дежурила я б не дался пусть вызывают из другого отделения я не могу с собой ничего сделать я стесняюсь и даже Зоя Семеновна когда в туалете на кушетке с клеенкой уложила на бок меня и этот шланг просто провалиться я еще зажался не давался и она даже рассердилась с ее-то терпением ну да в конце концов сделала ушла я потом когда встал в зеркало смотрел на себя и меня
…окатило холодным потом, я снова подумал: возможно, вижу себя в последний раз и навсегда останусь
там, и такое накатилось, взвеялось со дна души, будто из меня отделяется что-то темно-круглое в черной пустоте. Какое-то расстыковочное устройство отделяется, медленно отплывает от меня, отстает, тая точкой в отдалении.
Давно Константин Сергеевич знал, что есть память зеркал, они битком набиты лицами, которые в них смотрелись за многие годы. Там толчея. Однажды в одном ленинградском подъезде он увидел старинное, высокое зеркало в белой резной раме, оно, конечно, потускнело, облупилось, проглядывали сквозь верхний слой стекла завитки и трещинки отставшего серебра, и он в нем увидел их – они чередой проходили, поворачивая головы, те, кто когда-либо отражался в нем, и половина их смотрелась при вспыльчиво-дрожащем свете свечей, а иные проходили, отвернувшись или лицо рукой заслонив.
В туалете он почувствовал за своей спиной, что кто-то смотрит на него из зеркала. Он быстро обернулся… да, в смутных потемках стекла овал старушечьего лица, которое не дало себя рассмотреть, оно исчезло, и только в каком-то трассирующем прочерке мелькнула на зеркале серогубая усмешка… Это не она ли пришла, заранее высматривает меня? Да нет, ерунда, это старуха-уборщица, та, утренняя, запойная, с кротовьими глазами – маленькими, всосавшимися внутрь, как полузатянутые ранки. Ты не узнал ее? Ты часто видишь ее в курилке часов в пять или шесть утра, когда тебе не спится, она ходит с огромным бумажным мешком, в черном фартуке и в больших резиновых перчатках, она обходит туалеты, операционные, процедурные, собирая отбросы больничного существования – освобождая мусорные ведра с окурками, бинтами, окровавленными тампонами, ватой, плевками.
Она всегда как-то смутно появляется в туалете под утро, когда ты не спишь и куришь-куришь, появляется согнутая вся, с точечно-багрово-отекшим лицом, молчаливая, ловкая, похожая на свой черный резиновый фартук…
Почему иногда кажется, что исчезнуть совсем не страшно, элементарно, очень просто, легко и понятно; но бывают минуты, когда это кажется непереносимо жутким, невмещающимся, при мысли об этом меркнет разум, свет жизни – зачем, если?
…О, провидческие забавы детского сердца, вот перегибаешься через сруб колодца, свешиваешься в сладком ужасе как можно ниже, делаешь ладонью козырек над глазами и видишь внизу своего двойника, и истошно кричишь, а потом, замерев, и чуть отпрянув, с бьющимся сердцем вслушиваешься, как мечется в запертой глубине покинувший тебя крик…
Придет ли она сегодня до операции или что-то помешает: не отпустит начальник, не даст отгул за свой счет и прочее. Приди. Мне бы хотелось увидеть тебя перед. Слышишь? Ты уже проснулась? Не спишь?
…простимся хоть взглядом…
Колодец?.. где? колодец у тети Люси, дачный довоенный участок… по Киевской дороге… «Катя!» Откуда это? Катя? Я еду к тете Люсе, сорок седьмой, мне тринадцать, еду выкапывать картошку, конечно еду на подножке… копоть из паровозной трубы… хорошо… вокруг глаз, я уже знаю, будут черные ободки. С насыпи нашему дачному поезду, подозревая в нас богатеев, местные мальчишки, сняв штаны, показывают голые задницы – наивные маленькие обличители неравенства. Я пою, радуясь тому, что меня в грохоте колес не слышно, потом вдруг со своей подложки замечаю в окне вагона слева и сверху личико девочки. Я рукой зову ее, вскоре она садится на подножку, но чуть выше. Я кричу ей на ухо изо всех сил, и счастье в том, что этого крика никто не слышит. Потом в тамбуре я сказал, что готов ехать с ней и гулять всю ночь, и залезть с ней в какой-нибудь стог. Она сказала, что согласна, и что надо спросить на это разрешение у Веры, ее старшей сестры, она едет в вагоне. Потом Катя ушла. Я остался на подножке, у меня колотилось сердце, я проехал тетилюсину станцию, и вагон стучал, и в какой-то момент увидел – промелькнуло – между путями, у рельсы – легкий полусгнивший голубь, давно, наверное, сбит шальным поездом, мертвое тело припало к щебенке, спрессовалось у шпалы, но перья крыльев топорщились, набухая, хохлясь в завихрениях от мчания нашего поезда, а одно крыло, попав в родную стихию воздушного потока, судорожно билось, вздымалось…