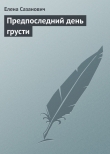Текст книги "Предпоследний возраст"
Автор книги: Александр Васинский
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
О смысле прожитого
Рассказы Александра Васинского я читал в свое время, что называется, в самиздате. Рад, что Васинский выходит теперь в гласную культуру уже не как публицист-известинец и сценарист («Влюблен по собственному желанию», Ленфильм, 1983), но как прозаик. Его повесть – внутренний монолог больного, приговоренного к смерти, смесь предоперационных ужасов, дальних воспоминаний и пронзительных раздумий о смысле прожитого. Современный инженер (умирает ли в сорок – сорок пять, родился в 1935, рос в послевоенной Москве, терпел от блатных, – фигура типичная), словно бы с «бегунком» обегает всех перед последним отпуском. Метафора – «теперешняя», хотя общий строй и склад – от Толстого. Точна жизненная фактура: больница, послевоенные «дворовые» сцены. Прекрасно сделаны переходы от сознания к подсознанию, диалоги с самим собой – мальчиком, образ матери, давно умершей. Вообще – связь разных пластов жизни – попытка в последний раз связать их перед смертью.
Главное, что я отметил бы в этой повести, – ощущение серьезности смерти. Философский ужас перед ней. Попытку философски с ней справиться. Последнее, по ту сторону всяческих доводов, недоумение существа, чувствующего свою обреченность. Это очень важное качество рассказа, особенно если учесть, что отношение к феномену смерти в нашей расхожей прозе колеблется между двумя вариантами: либо легкое, почти показное бесстрашие, либо непреодолимый страх, в который проваливаются те, кто не могут мобилизовать бесстрашия. Александр Васинский пытается идти от «Смерти Ивана Ильича» Толстого. Не от текста великого рассказа (в одном месте он, к сожалению, угодил в подражение тексту), но вещь интересна тем, что автор пытается вооружиться духом Толстого и испытать теперешнего человека в момент гибели.
Я не мастер писать напутствия; честно сказать, не люблю самый этот «жанр», ибо нахожу его нескромным; и кроме того, смешно напутствовать человека, который начал путь давно и только шел в невидимой его части; я лишь воспроизвожу здесь то, что в свое время написал Васинскому по поводу неопубликованного текста; теперь текст публикуется – нормальная акция цивилизованного общества… Сверим впечатления, читатель?
Лев Аннинский
Александр Васинский

Предпоследний возраст
Памяти матери
Открыв глаза и поняв, что это был сон, Константин Сергеевич повернулся к стене с негромким постаныванием, потому что там, во сне, было хорошо, а здесь он сразу все вспомнил; но некоторое время в нем еще звучал торжественный ужас восторга.
Взволнованный, он приготовился вспомнить и осмыслить события и знамения своего необыкновенного сна, но тот, как это часто случается с необыкновенными снами, вдруг рассыпался, словно потревоженный прах, начисто забылся, и сделалось ясно, что никакого чудесного сна скорей всего и не было. Окончательно проснувшись, Константин Сергеевич четко осознал, что он, где он, что ему предстоит утром, через несколько часов. С вечера его укололи в плечо, быстро окутало беспамятное безразличие, потом он уснул, и вот… Он лежал лицом к стене, была, по-видимому, глубокая ночь, он почувствовал, что там, за окном, выкатилась луна, открыл глаза: по стене, по крашенному белым металлическому пруту кроватной спинки пробежал и загустел белый мертвенный свет, и подступило знакомое ощущение, будто пустеешь, идешь на убыль. Так было всегда в лунные ночи, с детства.
Спрятал лицо в подушку, отпустило; когда снова посмотрел на стену, она была темна: луну заволокло тучами. Константин Сергеевич перевернулся на спину, прислушался. Все спали. Ночью плохо просыпаться.
Когда все спят кругом, ты в самом деле страшно одинок, потому что никто о тебе не думает. Разве что ты снишься кому-нибудь, тогда твоего одиночества убывает…
В палате темно, все спят, можно сказать дрыхнут, потому что что им до меня? Вот справа Николай Терентьевич, актер, с переливами посапывает, что-то даже приговаривает, не разобрать… Вчера, когда выяснилось с моей операцией, все, конечно, подбадривали, и Вадик, и Николай Терентьевич, и мой зам Пестряков, тоже мне, привел всю лабораторию, точно прощаться приводил, один халат внакидку передавали от одного к другому, все, естественно, успокаивали, ничего, мол, все будет хорошо, ты крепись (вы крепитесь), смелей, и это было смешно, потому что
что их успокоения человеку перед операцией на легком это напутствия гладиатору они напутствуют а ему оставаться на арене одному и из клетки уже выпускают львов а успокоители где они занимают свои места там высоко на каменных трибунах а львы уже выбежали на арену видят уперлись лапами в песок а ты один львы пошли а те на трибунах высоко кричат машут руками.
Откинул одеяло, встал, нашел ногами тапочки, потрогал лицо. Она была там. В плохие дни.
влачу на себе наглую старость мою это огромная пьяная баба навалилась облапила испитая пакостная.
В уборной никого. Хотя не редкость – два-три курильщика ночью. Днем, если не обход и не мертвый час, курилка битком. Сидят на скамейке вдоль стены 6–8 человек, стоят трое-четверо и столько же притуливаются на корточках (отчего им сразу видны ряды выстроенных под скамейкой бутылочек и флаконов для анализов) – все дымят, пижамы расстегнуты, исподние больничные рубахи мечены чернильно-серыми штампами казенной принадлежности. Дым месится взмахами рук, сквозняком открываемой двери, турбулентными вихрями присвистов, кашля, хохота… Константин Сергеевич любил поначалу слушать этот малоразборчивый косноязычный галдеж. Давно он его не слышал, с тех пор, как перестал посещать забегаловки и рюмочные. («Загремел» он в захудаленькую райбольницу.) С удивлением, как иностранец, вслушивался он в речи работяг, смотрел на них «после длительного перерыва», спрашивал себя, нравятся ли они ему… Они ему, в общем, понравились. И они, к большому его удивлению, были весьма не похожи на его витийствующих технарей-сослуживцев, на людей из его среды. Право слово – другая нация. Особенно изумляли Константина Сергеевича их вроде бы полупонятные реплики. Он пытался припомнить – не выходило ничего определенного, ничего членораздельного, какие-то хмыки, дурацкие словечки… И, однако же, все всё прекрасно понимали. Переведи их иностранцу – тот со своей этой идиотской вдумчиво-доброжелательной улыбкой будет качать поддакивающе головой, хлопать глазами и ждать, когда ж из этих переведенных ему междометий и бессвязных слов выплывет человеческий смысл, который можно будет уразуметь. Напрасная надежда! Так и в пьяных слезах – несуразных, нелепо беспредметных, – удивительным порой образом выкажет себя прихотливая наша натура. Ведь каков наш подвыпивший брат?! Ведь в какой-нибудь распивочной будет тереть кулаком красные глаза, размазывать слезы, кривить обслюнявленные губы, убиваться навзрыд, содрогаясь всем телом, неся какой-то бред о птичке, которую задавил КамАЗ (а если по радио в этот момент начнут передавать рассказ о глухоте Бетховена, он тотчас зарыдает и по этому поводу, причем моментально переключась, искренне, всей душой страдая – и в рыдании его будет всё: плач по Бетховену, и реквием по птичке, и вопль по себе, темная бессловесная исповедь разбитого сердца и загубленной собственноручно жизни, спазм вины, предчувствие молчаливого взгляда младшей дочери, вздох по печальной участи Вселенной, лепет покаяния, вспышка алкогольной агрессивности, слезы неизбывной тоски – многое, многое можно услышать).
Константин Сергеевич курил, ему надоело сидеть на скамейке, сел на корточки, вдавясь спиной в стену и чувствуя, как холодность штукатурки не сразу, а как бы пятнами просачивается в лопатки через ткани байковой куртки. На прежнем месте под скамейкой, возле тряпки стояли в ряд бутылочки и баночки для анализов, Константин Сергеевич заметил останки усохшего таракана, разложившегося до трухи, и единственное, что от него уцелело, это елочка бледно-рыжих ножек. В этой компании бутылочек и останков насекомого валялась разорванная натрое кожура от банана; что-то бесприютное и жалкое показалось Константину Сергеевичу в ней, буро-коричневой, в темных накрапинах, распластанной на грязном кафеле… Валялось это неприкаянное дитя тропиков с вынутой сердцевиной среди банок и склянок, и тряпок, как невезучий иммигрант на безразличной чужбине. И Константин Сергеевич не побрезговал, взял двумя пальцами за крепкий еще черенок и бросил кожуру в ведро для мусора. Предал, так сказать, земле. Потому что все в своем виде и в надлежащий срок должно обрести свое подобающее место и последнее успокоение.
Докуривал он уже третью сигарету, никто в уборную не заходил, Константину Сергеевичу и не хотелось. Укололи его чем-то хорошим – в голове гладко скользило, струилась, слоилось, вот отслоилось что-то такое, связанное с его давнишней расхлябанной полубогемной жизнью. Попытка поступить в Гнесинское… один курс в культпросветучилище… Смех! Откуда-то со дна души любопытные картинки всплывали, будто пузыри поднимались из болотного ячеистого ила… «Не надо» – прогонял он их. Когда он поступил в Политехнический, он считал, что спасся от какой-то скверны. Он бросил гуманитарную свою стезю, как бросают пить, как «завязывают» с преступным прошлым. Конечно, что-то остается, сидит от прошлого… Кто, говорят, из сильно пивших «завязал», ушел, тому не дай бог «развязаться», уж второй раз демоны от себя не отпустят. Какие демоны? Что за бред?
Неполная растворимость в текущем.
Вернулся тихо в палату, подошел к окну. Сюда, на третий этаж, от замызганной лампочки над железной дверью бойлерной в глубине больничного двора свет просачивался слабенький, какой-то маркий, затерявшийся на полпути снопик… Константин Сергеевич обводил взглядом неуютный апрельский двор в мечущихся тенях; он подумал, что ночью плохо просыпаться и нехорошо смотреть в окно на неприбранный мир, который застигнут врасплох и не готов к тому, чтобы его пристально рассматривали.
Тут он заметил во дворе того парня из терапевтического, который снова, как в прошлую ночь, крался в самоволку. Тусклые контуры фигуры его, как и вчера, почти растворились в лучах снопика, будто его телесное вещество состояло из атомов пониженной светимости, не такой, как у других людей, точно этот тусклый самовольщик, очень хотевший остаться незамеченным, и впрямь изнутри гасил свои очертания…
Опять мелькнула луна в разрыве облаков; когда ветер расхлестывал на небе серный чад, в черных проемах дрожали звезды, как овечьи хвостики. Вот что никогда не вместит в себя человек – вот этот безмерный и не знающий, что такое конец, мир.
Можно сколько угодно мудрствовать, а Вселенная не перестанет быть ПРОРВОЙ. Константину Сергеевичу стало холодно, он отошел от окна и быстро шмыгнул под одеяло, с удовольствием ластясь телом к остаткам собственного тепла, хранившегося подушкой и простыней. ПРОРВА, гигантская прорва. Мысль об этом принесла странное облегчение. Прорва! Вот, нашел слово: ПРОРВА. Она принимает в себя ВСЕ, она все примиряет, туда проваливается все – жизнь, порыв, страх, болезнь, выздоровление, красота, ужас, великое, смешное, там, в прорве вечности и безразмерности все смешивается и уравновешивается, теряет смысл, исчезает, аннигилирует. Это черная дыра существования, гигантский коллапс бесследности. Есть ли смысл в протяженности времени, в этом движении лет от нуля к нулю? Может быть, жизнь имеет оправдание – взятая не в целом, а в отрезках. Разве не громадно важны для человека эти отрезки – рождение, детство, какие-то важные события? Да. Но, соединясь в линию, эти отрезки утрачивают значение. Если правда, что ВСЕ снова сожмется в самоиспепеляющуюся точку, то ни в чем нет смысла – ни в факте человеческой жизни, ни в судьбе людей и эпох. Любое число, помноженное на нуль, – равно нулю. Если ж в конце нуль, то не все ли равно, как и когда. Бессмысленно, беспамятно все – и маленькое «зря» человека и огромное ЗРЯ человечества.
Константин Сергеевич поймал себя на том, что все это бродило в его голове в виде юношеских игривых размышлений о смерти (в отличие от жутких приступов страха в отрочестве)… Черт возьми, он же, помнится, даже написал трактат на эту тему, ну да, это было на первом курсе, девушкам читал, им нравилось. Да, он тогда писал об этом не как живой смертный человек, а одним мозгом, худосочным умозрением непричастного… что-то о том, что поскольку человек есть воплощенное время, чья природа зиждется на возникновении следующего из смерти предыдущего, то нет ему, этому блудному сыну Хроноса, более чуждой идеи, чем идея непрерывного бессмертия, и навяжи кто-то это бессмертие людям, не изменив их сути, то среди них неизбежно возникла бы религия благоисчезновения. И лежали бы сектанты искореженные у подножий скал, шевелясь, как стада китов, выбросившихся на калифорнийские отмели, и к ним подходили бы ребята из отряда контрольно-смотровой службы, тихонько толкали бы в плечо, с сочувствием говоря: «Эй, слышишь, открывай глаза, ты просто ушибся, понял? Идем обратно на вершину, будешь продолжать дальше жить. С тем, что ты задумал, здесь не проходит».
Вообще, в том трактате он много претензий предъявлял к эволюции (или к тому, что мы этим именем называем). Бросал, так сказать, природе в лицо. Что, дескать, ей важен вид в целом, не индивидуальность, что она на людей смотрит не поименно и подушно, а скопом, в поколениях, так же, как леспромхоз смотрит на делянки вырубаемых деревьев – в гектарах. Вырубил и заложил новые посадки; вроде как заменил, восполнил в том же объеме или даже с превышением – о чем, мол, разговор? Да, не помышляет природа о судьбе спиленных отдельных деревьев, но каждое-то из них для себя и в себе существует как субъект и носитель неповторимого бытия, и что им до тысяч новых деревьев такой же, как они, породы, но других, других! Так, мол, и человек, которому что за дело до поколений-гектаров!
Если б хоть один человек избежал смерти! Хотя б один за всю историю человечества, всего один, и то это был бы уже зазор, зазорчик между сомкнутыми впритык плитами детерминизма. Но нет. Этому вопросу в его трактате была посвящена отдельная глава. В предопределенности смерти усматривал он какую-то бесталанную механистичность, оскорбительную сезонность, или, лучше сказать, цикличность, регулярность, вроде того, что в нашем полушарии котам приспичивает в марте. Подчиненность закону, не знающему ни для кого исключений, власть косной неотвратимости – все это как-то роняло смерть, низводило ее в разряд причинно-следственных посредственностей, низких категорий бытия, лишенных свободы, благородства и духовной мудрости, даруемых возможностью выбора. Регулярность, неотвратимость, детерминизм отнимают у смерти щедрость помилования, право на беспричинную игру, творческую прихоть, не опутанную дисциплиной здравого смысла. В таком порядке вещей автор отказывался признать провозглашаемую всеми гениальность природы.
Вспомнились Константину Сергеевичу эти пассажи за секунду, вспомнились по странным законам думанья без слов, без фраз, а какими-то наскоками смазанных, бессловесных молниеносных вспышек, они озаряли сознание с быстротой, не успевающей вмещать слова. Единственное, что он вспомнил вполне последовательно, отдавая себе отчет в том, что он, вот сейчас, об этом думает и вспоминает, – это то, чем трактат завершался. А завершался он довольно эффектными исчислениями. На последней странице Константин Сергеевич, тогда, впрочем, Костя, шутки ради вычислил примерный год своей кончины, исходя из среднестатистических данных продолжительности жизни в стране. Если все пойдет нормально, если ничего непредвиденного не стрясется, говорилось в трактате, то замыкающая его жизненный цикл цифра (плюс-минус пять с поправкой на случайность) падала на 2006–2011 год. Вот он – код его жизни. Как это будет выглядеть на камне гробовом? «1935 г. – 2009 г.». А ничего, смотрится…
Флюорография, повторные снимки, онкологический кабинет в райполиклинике. Срочное направление на операцию… Испугался он тогда? Да, по правде говоря, испугался. Но испугался той частью своего существа, которой и животное пугается, не ведая главного страшного страха. И еще он почему-то не захотел звонить директору, хлопотать о хорошей клинике, хорошем хирурге. Так в райдиспансер и ходил.
Помнится, ему показалось, что у дверей кабинета главврача в конце коридора стояла его давно умершая – еще когда он был юношей – мать. И ему показалось, что мать, повернув голову от двери и увидев его тучным, с большим животом, старым, как-то радостно, удовлетворенно всплеснула руками и успокоилась, и ушла обратно туда.
В приемном покое хирургического отделения тоже был момент, когда он испугался. Дали кальсоны, рубашку, повели мыться, и тут он нехорошо испугался. Но опять – телом испугался, не глубже и не дальше. Хотя, чего там, испуг был серьезный. Он сразу сыграл в свою игру, и она вдруг не помогла, испугав его еще больше. Все люди так или иначе играют в это. Когда он был здоров и удачлив, он много раз воображал какое-то разразившееся над собой несчастье, так, внезапно или спросонок, и тут есть несколько мгновений, когда человек и в самом деле не знает, правда это или представилось. В эти мгновенья захолонувшееся сердце в смертной тоске замирает, и страх махровой черной звездой полыхает в мозгу, и нет в такие мгновенья человеку отрады большей, чем яснеющим и отходящим сознанием понимать, что страшное, беда – неправда, что это померещилось, вообразилось, и вместе с осознанием нужной, успокаивающей реальности беда отпускает сладко, опустошающе… Из-за этой-то наркотической сладости облегчения психика иной раз ложно подсовывает причину испугаться, состояние ложной тревоги, чтобы человек, поначалу непритворно похолодев, судорожно б спрашивал себя: а ну, это ж неправда, да? Это ж понарошку, ну, это ж моя игра! – и, убедившись в этом, отходил от испуга медленно, точечками приятной ласкающей боли, как, покалывая, отпускает минуту назад сведенная судорогой мышца…
Вот и он в диспансере, услышав про операцию, по привычке залепетал: «Да? это ж игра? скажи себе скорей, что это неправда, что это снится», но на сей раз номер не вышел, с холодящей ясностью он осознавал, что игра кончилась, беда, беда пришла неминучая и это правда, правда, правда, не сон, не понарошку, правда, правда, боже, правда, и это все отменяет, жизнь, может быть, отменяет… Было ужасно. Но опять-таки и тут Константин Сергеевич пугался одним только телом. Хотя и телом можно очень сильно испугаться.
Под порхающие звуки «Мимолетностей», насланных ему памятью, Константин Сергеевич немного забылся. Действие вечернего укола переходило, видимо, во вторую фазу, просветы сменялись туманом, качкой. Думалось о себе как о постороннем. Потом вдруг «Мимолетности» оборвались на полузвуке, музыкальная память подсунула синкопированные фразы из «Игрока», потом он вообще переключился на то, что стал по прихоти подбирать адекватную музыкальную форму текстам из Достоевского, которые приходили на ум, и, к собственному его удивлению, получалось что-то сначала оркестрово-мощное, парадное, торжественное, чрезвычайно гармоничное, вагнеровское, во что потом вплелось, вернее, вползло, а еще потом с визгом въехало и ворвалось что-то путанное, дерганное, скандально неуместное, и в этой какофонии, хаосе различим был скрежет зубовный, эротические стенания, генеральское «бум-бум», гудки клаксонов, а под конец в оркестровый аккорд даже затесался мелкий свидригайловский смешок…
В этом клубящемся, звучащем пространстве Константин Сергеевич думал, нет, предавался странно-бесформенному состоянию слежения за собственной мыслью – без слов, трассирующими пунктирами, вспышками впечатлений – о том, что две самые главные вещи делают с человеком, его не спросясь, – это когда он появляется на свет и когда уходит. Без его разрешения и согласия он оказывается в таком-то веке, в такой-то части земли. Родителей он тоже не выбирает. Обстоятельства, на 99 процентов определяющие всю жизнь человека, за него решает неразборчивый случай. От нас не зависит, быть нам женщиной или мужчиной. В чем же мы свободны? Да если бы женщиной – ведь я другая личность, у меня другие страсти и упования, другая, вдвойне непредсказуемо другая жизнь! Все самое главное навязано нам извне, решено без нашего ведома. Почему ты – Константин Сергеевич, а не какой-нибудь Пын Цыжень? Вот ты Пын Цыжень и сразу все по-другому – вообрази: ты – китаец, в тебе ни одного русского желания, зато голову распирает мысль (допустим, допустим) о щепотке риса или о каком-то большом скачке – глаза стянуты азиатской жилкой вдоль верхнего века, в горле и в носу першит, когда с непривычки ты произносишь несколько певуче-гундосо-тявкающих китайских слов… Кто это придумал? – зачем мы не свободны в столь многом? Что же нам остается? О, мы свободны включить телевизор или не включить. Сбежать из больницы в пижаме накануне операции или послушно остаться. Что еще? В доме повешенного говорить только о веревке. Он продолжал этот ряд еще долго, пока не наступало то, что он в другое время, в шутливую минуту, называл закупоркой ума.
Еще мы свободны сыграть на рояле прелюд Скрябина, не снимая боксерских перчаток.
О, Константин Сергеевич слишком хорошо знал, что сейчас ему ничто не поможет, никакое рассуждение, он уже все перепробовал. И абсурдность мира с его конечностью и, что одно и то же, бесконечностью, и случайность нашего появления, а, значит, и случайность исчезновения и, стало быть, случайность того, что в промежутке… Он опять рисовал в своем воображении прорву вечности, нескончаемые валки скошенных поколений… Даже пытался вызвать исполненный жуткого величия вид Земли в последнем зареве, когда все вместе, скопом… Но разве такое может успокоить? Тут он вспомнил про старое испытанное успокоительное средство. Он открыл его для себя лет семь назад в период неудач и беспрерывных «поддач», когда, среди ночи придя в себя в холодном поту, в ужасе невыразимого отчаянья, он медленно переводил затравленный взгляд туда, к окну, и вдруг видел, что занавеси кем-то сорваны, а из-за стекольного голого квадрата в него вперилась бельмом неприлично голая ненасытная луна… Спастись! Что делать?! В этом состоянии непостижимым образом его грела и успокаивала мысль о том, что в крайнем случае всегда ее можно прекратить. Жизнь, в смысле, прекратить. И удивительная эта мысль действительно грела и примиряла, и приводила в равновесие, и он в ту пору все чаще прибегал к этому средству. Это были в некотором роде сеансы некротерапии, о гомеопатической природе которой можно только догадываться… Но сейчас сама мысль об этом была отвратительна Константину Сергеевичу.
В коридоре, у реанимационной, послышалась беготня, хлопнула дверь. Константин Сергеевич стал прислушиваться. Он снова испугался за себя. Это был все тот же телесный испуг при мысли о разрезании грудной полости, потере крови, плохом результате гистологического анализа.
Его передернуло, он положил ладонь на грудь, благодарно ощутил нежное сухое тепло. Кто ты, постой, кто ты? Зачем?.. Эй ты, никчемный фантом. Слышишь? Уходи в свою тень. Падай. По тебе пройдут те, кто заступит твое место в этом вечном человеческом каре. Первая шеренга человечества должна быть в полном порядке. Ты понимаешь? Недра каре выделяют дублеров по мере падения все новых и новых жертв. Прогалов в строю не будет. В первом строю шеренги, на лице, на фасаде человечества всегда полный комплект. В грязь лицом оно не ударит.
В грязь лицом оно не ударит ударит в лицо оно грязь не
То, что можно было назвать мыслью Константина Сергеевича, забуксовало, ее заедало, как старую патефонную пластинку, некоторое время она повторяла один и тот же дерганый звук, затем некая игла совсем съехала с бороздки, с неприятным шипом поползла, поползла поперек диска, и тут Константин Сергеевич будто в круге света увидел ощерившегося молодого волка и разом вспомнил свой сон, тот, от которого очнулся сегодняшней ночью, с ее шатун-луной, и опять вспомнил этот сон во вспышке одномоментного обращения к нему мыслью, без всяких слов, наскоками луча, выхватывая пульсирующие картины кусочками, как бы короткими перебежками пригнувшись, и опять это случилось без соблюдения последовательности припоминания – в одно мгновенье, и это вызвало в памяти слова Моцарта о том, что перед написанием симфонии он как бы слышит ее всю разом, в один миг… а сам Константин Сергеевич потом подыскал этому молниеносному способу думанья другое сравнение: будто стая бразильских пираний в кипящей воде набрасывается на громадную тушу воспоминания и в мгновение ока пожирает ее… А приснилось ему – если попытаться изложить это словами – такое: грохот сверху, сплошной, давящий, механический (не гром, не камнепад). Вибрация. Вертолет? Тяну руку перед собой, она на что-то натыкается в воздухе – воздух затвердел? Смотрю: ноготь сломался. Вдруг вижу внизу: открывается какой-то люк, замелькала земля, я в пузыре или шаре прозрачном спускаюсь вниз – чирк – касание – закрутило, закидало. Очнулся. Вспомнил. Осматриваюсь. Кругом каменистая земля, я в том самом стеклянном шаре, не разбился, значит, да и замечаю, что стекло специальное, толстое – авиационное, пуленепробиваемое?
Примериваюсь: шар не очень большой, но вполне можно стоять в полный рост, чуть-чуть только касаешься головой верхней сферы… И руки можно вытянуть свободно в стороны, и ноги расставить, я так и сделал, как на знаменитом рисунке Леонардо «Канон пропорций мужской фигуры», где в этой позе человек вписан в круг…
Место с обломанным ногтем немного саднило. Я сел на дно шара, оно прозрачной плоскостью примяло чахлые растения со странной формой листьев, расплющило их и будто приблизило, как под лупой. Кругом тишина. Никого. Космонавт я, что ли? И не вертолет это был, а капсула, посадили и улетели?.. А?
Смотрю: луна. Отлегло. Такая родная, земная, бледненькая, наша… Висит. Замечаю, как быстро, прямо на глазах, густеют сумерки (Еще подумал во сне: а уж не снится ли все это? – так быстро разве густеют сумерки).
Висит луна. Тишина. И тут я услышал их приглушенный вой. Внутри меня все похолодело. Сквозь прозрачную сферу вижу в сгустившейся мгле светящиеся точки, много, россыпями. Через минуту они уже обступили мой шар, волки, много волков, они расселись метрах в двадцати, кругом обложили, и их было много, с полсотни, если не больше.
По тому, как залетали в воздухе перекати-поле, как бились о мою сферу растения и птицы, я понял, что поднялся сильный ветер. Волки тоже проявляли беспокойство, жались друг к другу, глядя в мою сторону. Наконец (в глубине души я уже давно знал, что это случится) от стаи отделились два самца, они приблизились ко мне, подвывая с задранными вверх мордами. Я лег на самое дно, в лунку сферы, будто пытаясь сделаться меньше, а еще лучше, сойти на нет, превратиться в того муравья, который ползал по примятому растению со странной формой листьев. Не знаю, сколько времени я пролежал лицом вниз, но когда отъял ладонь и скосил глаза – замер: волки обступили мой шар, подойдя к нему вплотную. Заметив, что я пошевелился, они по знаку вожака все разом бросились на меня, и я видел, как они ошеломленно стукнулись мордами о твердый воздух. Не понимая, что такое стекло, они снова с остервенением продолжали бросаться на меня, но по-прежнему их останавливала прозрачная сфера, оледенившийся воздух, они взвывали от неожиданной и непонятной боли, скалили в бессилии зубы, метались на расстоянии одного прыжка от вожделенной и почему-то не дающейся жертвы… Глаза их сверкали. Первый ужас с меня, однако, сошел, я уже мог наблюдать за ними почти глазами этолога и натуралиста, и представлял вполне их досадное недоумение: как это так, почему то, что давно должно трепетать и содрогаться в их пастях, дурманить и обжигать брызгами крови, почему-то ворочается, не потеряло формы, ничем не пахнет…
Я так верил стеклу, что подставлял под их морды то ладони, то лицо, расплющивая себе нос, щеки… Осмелев, я привалился спиной к сфере, слыша сзади возню тыкающихся морд, клацанье зубов, истошный лай и подвывание, и застыл от невероятного, не выразимого словами ощущения… я бы назвал это страхом, конечно, это и был страх, тем больший, что я не видел того, что происходило у меня за спиной, а воображал… И все-таки в том, что я ощущал, был не только грубый страх, там было, я бы сказал, и художественное чувство, гордыня искушающего судьбу человека, – страху придавала изысканную остроту странная примесь торжества какой-то неверной чудотворно-хрупкой безопасности. Я представлял, что мою шею, лопатку, руку отделяет от оскаленных зубов эфемерная перегородка толщиной в полтора-два миллиметра, и я верил и не верил моей сказочной безопасности. О, какое это было щекочущее, дерзкое, артистическое, пронзительно сладостное чувство почти настоящего риска, почти смертельной опасности!
Константин Сергеевич не знал, сколько он пробыл в отрешенном состоянии. Но вот он снова ощутил подушку, одеяло. Спокойно, Константин, сказал он себе, возьми себя в руки. В сущности, ты готов. Вчера были все из лаборатории, утрясли почти все вопросы с изделием 0613/б. Разве оно не детище последнего пятилетия твоей жизни? Что еще? Завещание, слава богу, не писал, делить особенно нечего, сами разберутся, а вот списочек телефонов Свете оставил, ну некоторых некаждодневных друзей, однокашников по институту и тех, кто может не узнать обо мне первые 2-3-9 дней. Интересно, Светка поняла, что за список я ей оставил? Наверное, не поняла, она какая-то спокойная. Это хорошо.
Ему захотелось домой, к ней, он без труда исторгнул из своей головы легкий шарообразный сгусток, который можно было бы назвать его самосознанием, и дал ему ход, сообщил движение; тот невысоко взмыл, завис над кроватью и медленно полетел к форточке. Дальше дело пошло веселей: невесомый сгусток пронесло над крышами больничных корпусов, у сквера пришлось обогнуть тополь, затем он снизился над трамвайными путями на уровне окон вагона и по маршруту 32-го с молниеносной быстротой, обогнув один запоздалый (или ранний) трамвай, долетел до депо, там снова взмыл над крышами домов, нацелился на знакомую коробку и причалил к светившемуся кухонному окну на шестом этаже. Завис. Она была дома. Она была в халате, в том, любимом, стояла у плиты, варила что-то, вслепую мешала ложкой в кастрюле, уткнувшись в книгу. Стукнулся неосторожно о стекло, этим напугал ее. Она невидяще всмотрелась в темноту, глаза ее от страха сильно косили, она отложила книгу. Стало неловко, пустился в обратный путь, по прямой, без разбора, несколько мгновений – и зрячий невидимый сгусток уже влетал обратно в палату… Точкой завис над собственным изголовьем. И сразу отяжелело. Вернулось тело, тяжесть. Заплечье точно слоями отходило от намятой несвободы, мышцы расправлялись, как с легким треском и шуршанием расправляется быстро и туго скомканный бумажный лист.