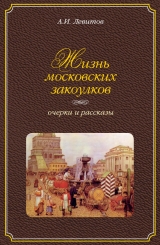
Текст книги "Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы"
Автор книги: Александр Левитов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Охма! – гремит Високосный Год, заливая волнами, как стаи легких полевых пташек, щебетавших трелей комнату Бжебжицкого:
орал он в поощрение девушки, и живо пальцы его уничтожали в гитаре тот разгул, с которым она спрашивала у нечужой, где она была, потому что нечужая на повторенный вопрос:
Ох! где же ты была,
Завалилася?
отвечала:
На дырявом я мосту
Провалилася!
И так-то скорбно и вместе с тем порывисто после этого заплакали струны, словно бы больная истерикой женщина, а Адельфина так-то плясала под этот плач, так-то она отчаянно отбивала дробь двухвершковым каблуком своего городского башмака, что все жильцы темного коридора, все эти Татьяны и Лукерьи наперерыв лезли к дверям и оттуда смотрели на нее, подставив почему-то под бороды свои руки, что обыкновенно делают Татьяны и Лукерьи тогда, когда их обуревает какое-нибудь сильное горе…
– Действуй! – закричал вдруг Сафон Фомич, бросившись в пляс с быстротой совершенно трезвого человека.
И пошло!..
Я лично, тоже жилец самой крайней комнаты снебилью, обращенной одним окном на двор, а другим упиравшейся в какую-то высокую кирпичную стену, пришел в это время к Бжебжицкому, лишь только заслышал топот знакомого трепака.
– Знаток я, брат, своего дела! – обратился ко мне Сафон, выделывая неимоверную присядку. – Что давно не пришел?
Я, любезный, такую тут без тебя фигуру отмочил, совсем новую! Жаль, что ты не видал. Ну, благо теперь пришел. Выпьем с тобой – и качнем старинную. Готовься, ребята!
Все откашлялись, а я зажмурил свои глаза, потому что не мог петь старинной, не зажмурившись…
Выпил Сафон Фомич, крякнул и, нюхнувши маленький кусочек хлебца, съел его, а потом уже начал:
О-о-ох! Ты взойди, ты взойди, солнце ясное!{90}90
«…Ты взойди, ты взойди, солнце ясное!..» – слова старинной русской песни «Ты взойди, ты взойди, красно солнышко…».
[Закрыть]
О-о-ох! над горой да над высокою,
Над дубравой да над темною!
Обогрей нас добрых молодцов,
Добрых молодцов, сирот бедныих,
Сирот бедныих, беспаспортныих!
Я, пронзающей фистулой, могущей делать неописанные вариации, и громовый бас Високосного Года, вместе с его десятиструнной гитарой, дружно принявшие от запевалы вторую строчку песни, сделали то, что с первого же нашего оха все, что в поте лиц трудилось в печальных подвалах дома комнат снебилью, – все это разлилось перед нашими окнами и слушало старинную песню, от которой тяжкий стон шел по целому дому.
– Важно поют! – толковала публика.
– Играют бесподобно! И все это «скуденты» отличаются.
– «Скудентам» одним так не сыграть: беспременно есть и господа.
«О-о-ох! Сиро-от бедныих, беспаспортныих» – тянули колокольчиками дисканты Адельфин, Татьян и Лукерий, по временам заливаемые волнистой октавой драбанта и, так сказать, горюющим тенором Сафона Фомича, который впрочем, по правде-то ежели сказать, никогда не выстаивал в самых верхних нотах против моей фистулы.
– Вот она, сиротская-то наша матушка раскатывается! – восхищался народ, все больше и больше наводнявший наш двор. – Вишь, господа-то ее как вздымают: поди, чай, под самым небушком слышно.
– Тебе же говорят, что это не господа! – поучительно заметил восторгавшемуся парню какой-то, по всем приметам, мастер. – Не господа, а так, «скуденты» простые, – народ больше, не хуже нашего брата, бедняк.
– Пшол, негодный человек, негодная твоя тварь! – загонял своих рабочих в покинутые ими мастерские немец-красильщик. – Какой теперь шас? – гневно шумел он. – Где ты должен быть? – в мастерской, а он тут на всякое глюпство уши раздвинул. Никогда этого не поймет, шортова голова, что в мастерской надобно быть в один шас, а в другой глюпством заниматься… Пшоль! Пшоль!
Веселая у нас, господа, компания собралась в комнатах снебилью! До того веселая и хорошая, что шестиклассник-гимназист всю следующую за выпивкой неделю старался, по примеру Степана Гроба, ставить разные глубокие вопросы и так же, как он, кавалерски, или, как говорили в комнатах, с кривого глаза, решать их; надувался он, бедный, изо всех сил быть таким же народным, как Сафон Фомич; у Високосного Года учился на гитаре, а ко мне (о, горе мне, развратившему своим примером единого от малых сих!) – ко мне, говорю, всю неделю приставал поисправить немножечко какой-то рассказ и похлопотать в какой-нибудь знакомой редакции о скорейшей выдаче ему за этот рассказ гонорария{91}91
Гонорарий – гонорар, вознаграждение за литературное произведение.
[Закрыть], который, я уверен, этот парень, в качестве сына своего века, употребил бы на выпивку, шикарнейшую выпивки прапорщика Бжебжицкого…
Крым[12]12
Один из московских трактиров.
[Закрыть]{92}92
«Крым» – трактир, находившийся в доме Внукова на пустыре вблизи Цветного бульвара и в начале Трубной улицы. В. А. Гиляровский в произведении «Москва и москвичи» так описывал это злачное место: «Разгульный «Крым» занимал два этажа. В третьем этаже трактира второго разряда гуляли барышники, шулера, аферисты и всякое жулье, прилично сравнительно одетое. Публику утешали песенники и гармонисты. Бельэтаж был отделан ярко и грубо, с претензией на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цыганского и русского хоров, а громкогласный орган заводился вперемежку между хорами по требованию публики… Под бельэтажем нижний этаж был занят торговыми помещениями, а под ним, глубоко в земле, подо всем домом между Грачевкой и Цветным бульваром сидел громаднейший подвальный этаж, весь сплошь занятый одним трактиром, самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир… <…> Не ищите ни подъезда, ни даже крыльца…В стене ниже тротуара широкая дверь, куда ведут ступеньки лестницы…Из двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков…Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середину огромнейшего «зала»…Все пьяным-пьяно, все гудит, поет, ругается…» (Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1979. С. 125–127).
[Закрыть]
I
Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу{93}93
… не зажигал мою рублевую экономическую лампу… – речь идет о масляной лампе, которая давала ровный тусклый свет. Горючим для такого осветительного прибора служили деревянное, сурепное, маковое и другие сорта растительного масла.
[Закрыть], потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами… И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что что умерло, то не воскреснет. Все эти пошлые и, когда находишься в редком припадке здравомыслия, комические жизненные комбинации, омертвившие меня, как бы при самом светлом сиянии солнца, воочию проходили передо мной в тот вечер и несказанно бесили меня.
Но пусть не смущаются лица ваши! Вы, может быть, предположите, что я сейчас пущусь в подробные россказни о грустных думах моих, или же вам покажется, что я хочу несчастья мои, так сказать, перелить в ваши чувствительные души и тем хоть несколько облегчить их сокрушающую тяжесть. Ничего не бывало! При всем том, что я только Jean de Sizoy, у меня всегда найдется настолько такта, чтобы не становить вас в положение человека, которому насильно навязывают многотомную повесть о сокрушившем рассказчика горе. Такое положение, при всей его видимой приложимости к нашему заеденному обществу, до крайности исполнено комизма. Я постараюсь нарисовать вам его, насколько перо мое окажется способным к этой рисовке.
Перед вами ваш бедный, несчастный друг. Сначала вы даже обрадовались ему; только, беседуя с вами, ваш друг все больше и больше начинает впадать в меланхолический тон, так что в вашем мозгу пробегает, наконец, желание, чтоб он поскорее окончил свою исповедь.

Трубная площадь и Петровский бульвар. Фотография из альбома «Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. 1884 г.» Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Государственная публичная историческая библиотека России
«Так-то вот в жизни моей все располагало меня сделаться таким, каким ты меня видишь теперь!» – дрожащим от волнения голосом говорит вам страдалец.
Может быть, он и в самом деле имеет основание говорить таким образом, но вы, не желая дать ему заметить, что такая история вам давно уже известна и давно уже наскучила, дураковато таращите на него глаза, тщетно стараясь выказать в них ожидаемое сочувствие, и думаете: «Боже мой! что это за сантиментальный шут на меня навязался!»
Жалобы и глухота к этим жалобам, по-моему, – постоянная и неизлечимая болезнь человеческого рода. От века, верую, никто из людей не находил таких фраз, которыми бы он так удачно мог передать своему другу про свое несчастье, чтобы тот понял его, как следует; точно так же верую и в то, что и я не найду их, да, пожалуй, если б и нашел, если бы вы даже поняли их и заплакали над моей горемычной долей, о которой я думал, не зажигая своей лампы, мне собственно невозможно было бы поверить искренности людских слез, потому что в моей жизни я очень много видел слез по чужим заботам и весьма мало дела, которое бы хоть несколько облегчило эти заботы.
Вам, не спорю, может быть, не стоит ни малейшего труда расказнить во мне такой нечеловеческий скептицизм по отношению к обоюдному сочувствию существ, созданных быть братьями; но поверьте же и вы мне, когда я скажу вам, что прозвище мое «Иван Сизой» я имею намерение в самом скором времени заменить псевдонимом «Иван Сивый», потому что то постоянное, самое каменное равнодушие, то самое звериное непонимание, с которыми люди, от каких я имел право ожидать совершенно обратного, встречали и мои для них жертвы, и мои на них надежды, – сделали из меня, по-настоящему еще бы здорового, свежего малого, какого-то ни к чему негодного, сивого мерина, разбитого на все четыре ноги.
Для всех вас вообще, конечно, нет большой беды, если какой-нибудь Иван Сизой, вследствие различных соображений, переменяет свою фамилию; но могу вас уверить, что, в частности, лично для Ивана Сизого нет больше беды, как тогда, когда он думает о том, куда именно разлетелись его силы, весьма необходимые ему в настоящем случае для того собственно, чтобы не дать себя обуть в лапти тогда, когда на его ногах еще не совсем развалились кожаные сапоги. Не доказываю справедливости моей мысли на том основании, что для этого мне неизбежно пришлось бы удариться в лирический тон, с которым я дал себе слово распроститься навек, ибо лиризм – враг мой. Выходит всегда как-то так, что он уменьшает цену печатного листа…
По этому случаю идиллия моя да начнется таким образом: от ненастного, осеннего вечера и от безобразных мыслей, которые тискались в голове моей этим вечером, я ощутил какую-то кислоту во рту и до смерти томившую сердце боль. А когда я нахожусь в таком состоянии, мне обыкновенно начинает хотеться чего-нибудь такого острого, что бы обожгло горло и грудь и, отуманивши голову, вместе с тем, как говорится, отшибло бы память. Аппетит на эти вещи, говоря в скобках, свойствен более плебеям, нежели аристократам, хотя и последние, по части удовлетворения сказанного аппетита, «тоже тово»… Выражаясь определеннее, я откровенно сознаюсь в том, что когда представления о выпавшей мне «красной» доле уже слишком загомозятся в моей голове, я обыкновенно отправляюсь купать мое горе в волнах того моря, которое погубило у нас столько же печалей, сколько и радостей…
Мир вам, погибшие жизни! Да не в суд и не в осуждение вам, а в знак моей искренней печали о ваших судьбах бесталанных, скажется слово мое о той широкой дороге, которой по следам вашим зашагал я ко цареву кабаку{94}94
Царев кабак – До первой половины XVI в. на Русине существовало других питейных заведений, кроме корчмы. В 1551 г. Иван Грозный, взяв Казань и узнав о существовании там «ханского кабака», приказал устроить подобное заведение в Москве для стрельцов. Затем питейные заведения появились и в других городах Московской Руси. В силу запрещения народу и посадским людям изготовлять горячительное зелье для собственных нужд, «царевы кабаки» давали большой доход казне. Они управлялись кабацкими головами и целовальниками. Впоследствии государство, желая сохранить доход, но снять с себя надзор, стало сдавать питейные заведения «на откуп» (Ресторанное дело. 1911. № 6. 15 июня; Прыжов И. Г. История кабаков в России в связи с историей русского народа. Казань, 1913).
[Закрыть].
* * *
Всепоглощающей пропастью зияли длинные улицы, где шел я. Тускло освещенные ночными фонарями, они казались какими-то неведомыми областями, где безвозвратно должно затеряться и погибнуть всякое живое существо. Так были мрачны и угрюмы лица этих каменных столичных громад, с такой пугающей силой выглядывали они из ночного мрака, что все существо ваше проникалось каким-то безотчетным томлением при виде этой силы, тем более, что если бы вы глаза ваши, утомленные этой мучительной картиной, захотели развеселить блеском звезд ночного неба, на вас бы глянули оттуда серые, неопределенные массы, которые напугали бы вас более, нежели напугали бездушные здания. Волнуясь, как что-то живое, в необозримом воздушном пространстве, массы эти, казалось, быстрой мыслью летят на вас с дальнего неба – и давят, и давят…
Мне очень трудно теперь, больному, передать мои дальнейшие дорожные ощущения. Я совершенно забыл тот момент, когда сознание покинуло меня. Вот, например, эту фразу говорил уже не я, а какая-то дикая машина, ударявшая кулаком по столу, уставленному графинами и рюмками:
– В прощении? Я, вы говорите, нуждаюсь в прощении моего общества, потому что безобразно якобы трачу свои заработанные деньги?..

Странствующий сапожник. Гравюра К. Вейермана по рисунку В. М. Шпака из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России
Передо мной сидел в это время юный еще господин, весь, впрочем, заросший бородой и бакенбардами. Мне и в голову не входило постараться определить себе, где и как я с ним встретился. В комнате носился удушливый чад; в чаду роились какие-то лица; где-то, весьма издалека, для моих ушей по крайней мере, гремела музыка. Десятки тусклых свеч слепили глаза; общий шум разламывал голову.
– Чашу сию обойти весьма можно! – орала моя дикая машина в поучение господина, очутившегося со мной за одним столом. – Мне не нужно прощения от общества, которое вынашивает в своей среде людей, способных так пошло, как вы и я, например, пьянствовать на заработанные деньги.
– Но ежели вы не будете искать в обществе снисхождения к вашим недостаткам, ежели вы намеренно не будете воздерживать себя от оскорбления общества вашим поведением, оно непременно выгонит вас! – в свою очередь поучал меня мой юный приятель.
– А вы думаете, – гремел я, – человек, понимающий, что он сосредоточил на себе справедливое презрение своего общества, сделается от этого изгнания несчастнее того, чем он есть? – Не сделается! Тем более он не сделается несчастнее, когда будет иметь хоть какие-нибудь данные заподозрить справедливость этого презрения. А коль скоро вы имеете хоть маленькое понятие о том, как на наших базарах дешевы эти данные, вы сейчас же неминуемо согласитесь с тем, что вашу фразу об изгнании из общества можно перевернуть таким образом: я сам изгоню от себя общество, которое намеревается изгнать меня, потому что никто другой, как только одни впечатления, навеянные на меня картинами этого общества, доставили мне честь пьянствовать с вами в этом бездонном омуте. Я очень хорошо понимаю, что лично от себя говорить такие вещи – пошлость; но разве это даст вам возможность не согласиться со мной, что ни одна из разлучающихся сторон не прольет друг по друге слез сожаления.
– Ваше высокоблагородие! соблаговолите до шкаличка доложить отставному служивому, – вмешалась в нашу беседу пьяная, оборванная личность. – Потому как, – продолжала личность, – собственно для ради ненастной погоды старые кости желательно разогреть.
– Скажи мне, – спросил я старика, – ты изгнал от себя общество, или оно изгнало тебя?
– Точно что, ваше высокоблагородие, «обчество» выгнало меня – отставного солдата – из села, аки бы за пьянство и кражу; но мы эфтому – глаза лопни! – причинны никогда не бывали.
– Почему же ты сам не выгоняешь его от себя? – Служба ответил на этот вопрос тупым и бессмысленным взглядом.
– Да! – с громким хохотом переспросил его юный господин, – в самом деле, отчего ты сам не выгонишь его от себя?
– Позвольте папиросочкой затянуться, – с поощряющей к дальнейшим шуткам улыбкой разрешил старичина нашу спорную тему. – Стаканчики прикажете вам налить, ваше высокоблагородие? – мгновенно впадая в роль верного слуги и доброго собеседника, осведомился затем старик.
– Однако же отделаться бы от него как-нибудь! – заговорил по-французски мой юный друг, коверкаясь и даже как будто изнемогая при виде стариковской фамильярности.
– А! вы, должно быть, одни хотите изобразить собой презирающее и изгоняющее общество! Вам жаль водки этому солдату!.. В таком случае я один за плачу за него, чем вы и я фактически докажем друг другу справедливость наших убеждений.
– Помилуйте! – сконфуженно произнес волосатый юноша.
Я посмотрел на него с улыбкой победителя.
II
Теперь мне надо доложить вам, каким образом я дошел до пошлости спорить с первым встречным, бог знает о чем, в грязнейшем трактире. Быть может, вам подумается, что такая материя не займет вас. Уверяю, что займет, и даже очень.
Сказано уже: куда, по какому случаю и зачем именно пошел я. Так вот иду я, а на дворе осенняя ночь, – знаете, такая ночь, которая делается в несказанное количество раз приятнее и усладительнее, когда ее частый и мелкий, как из сита сеющийся, дождь падает не на циммермановскую шляпу{95}95
Циммермановская шляпа – шляпа, купленная в магазине головных уборов владельца шляпной фабрики Циммермана, расположенном в Санкт-Петербурге в доме церкви Св. Петра на Невском проспекте. Герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников привлек внимание прохожих своим поношенным цилиндром производства этой фирмы: «А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» – и заорал во все горло, указывая на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная…» //Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Махачкала, 1970. С. 4–5.
[Закрыть] и не на бобер{96}96
…не бобер… – высокая шапка из сукна и меха бобра, «бобровка». Описание ее встречаем в воспоминаниях М. А. Рыбниковой о Л. Н. Толстом: «…В первый день Рождества иду я по Волхонке… Распахивается дверь, и выходит Толстой. Опять эти глаза, сердитые и взыскательные, но это как будто и не он: бобровая шапка с черным бархатным верхом, великолепная шуба с громадным бобровым воротником. Повернулся и пошел по направлению к Хамовникам» (Рыбникова М. А. Толстой до толстовского музея: воспоминания // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 213).
[Закрыть] рубликов эдак в полтораста с чем-нибудь, а просто на клеенчатую фуражку, оставшуюся, так сказать, от летнего сезона, – когда этот дождь хлещет вас прямо по разгоревшемуся лицу, холодными струйками закатывается за воротник вигоневого мешка, приобретенного за четыре рубля у парикмахера{97}97
…за воротник вигоневого мешка, приобретенного за 4 рубля у парикмахера… – имеется в виду пальто из вигони – ткани из хлопка и отходов шерстяного производства.
[Закрыть] Борисова, который, как энергично свидетельствуют «Полицейские ведомости»{98}98
«Полицейские ведомости» – официальная газета «Ведомости с. – петербургского градоначальника и столичной полиции», издававшаяся в 1839–1917 гг.
[Закрыть], живет на Лубянке, в доме духовной консистории{99}99
…на Лубянке в доме духовной консистории. – Церковной жизнью Москвы и епархии руководила Московская духовная консистория (с 1744 г.), находившаяся в ведении Синода. Консистория производила управление и духовный суд под начальством московского митрополита. Духовная консистория имела присутствие и канцелярию. Присутствие состояло из священников, избираемых митрополитом. Каждый член руководил столом (отделом). В функции столов входили назначение и перемещение священников, сооружение и ремонт храмов, бракоразводные дела и т. д. Существовал и консисторский суд. Канцелярией консистории ведал утверждаемый Синодом секретарь. Духовная консистория наблюдала за хозяйственной деятельностью архиерейского дома, монастырей и церквей. На Лубянке в самом начале Мясницкой улицы во времена Екатерины Великой были строения Тайной экспедиции. В 1801 г. эти здания передали Приказу общественного призрения. В 1833 г. в них разместилась Московская духовная консистория с ее ценнейшим архивом. Ряд строений консистория использовала в качестве доходных домов, сдавая помещения под квартиры и торговые заведения.
[Закрыть].
Не могу не сказать здесь в скобках, как приятно иметь дело с сим чародеем, могущим снабжать смертных пальто за четыре рубля, потому что купленная у него покрышка главным образом и располагает к надлежащей оценке прелестей осенних ночей. Покрышка эта имеет почему-то способность делаться еще более жалкой в такую пору. Она, говорю из собственного опыта, будит уснувшую злость, располагает к подлым и омерзительным помыслам о том, как бы купить сапоги не на толкучке, а у мосье Пироне{100}100
…мосье Пироне… – владелец обувного магазина в Москве…
[Закрыть], приобрести пальто не из мастерской Борисова в доме духовной консистории, а от Боргеза или Айе{101}101
…от Боргеза или Айе… – фирмы, производившие мужскую верхнюю одежду.
[Закрыть], – и главное: зазывает в голову грызущую мысль о том, почему еще не сделано тобой ничего такого, что бы стоило дороже того оборванного тряпья, которое в настоящее мгновение почти уже готово сползти с невыносливых плеч…
И в колеблющихся волнах ночного мрака, как бы какие живые картины, освещенные бенгальским огнем, восстают по этому поводу в задумавшейся голове мучительные думы о невыносливых плечах, о погибших жизнях, об обманутых надеждах. К самой груди пригнет голову эта тяжесть, и идешь, не примечая, как резкий ветер, забравшись к тебе в самую душу, дотерзывает там источенное различными червями существование – идешь, не чувствуя на лице хлестания крупных дождевых капель и не видя того тусклого, унылого света, которым уличные фонари освещают унылый путь.
Таким-то образом шел я и думал по поводу борисовского изделия, висевшего на мне, до тех пор, пока обильно лившиеся из окон «Крыма» огни не осветили мне широкой площади Цветного бульвара.
Мои собственные думы всегда немеют, лишь только я ступлю на эту площадь. И в настоящий раз онемели они при виде несчастья, которое обыкновенно снует по Цветному бульвару, оглашая его и хриплыми воплями разврата, и пугающим хохотом человека, ставшего в уровень с бессловесными животными…
Опьяневши от одного уже взгляда на «Крым», я ерундисто начинаю рассуждать о тех благоприятных обстоятельствах, которые бы могли положить конец несчастью Цветной площади, но обстоятельств этих ничуть не виделось мне во мраке осенней ночи…
Кто имеет право любить выпивку, тот вполне поймет, с каким неописанным наслаждением юркнул я, после помянутого похода, в глубокое «крымское» подземелье, где непременно должна закружиться всякая голова, если она имеет хоть немного желания и причин закружиться.
Пятнадцать или, может быть, десять ступеней, которые ведут в рекомендуемую мной могилу, не великая беда. Мы пройдем их, если не без толчков, за которыми, по пословице, не угоняешься, по крайней мере без особенных приключений.
– Господ уж стал сюда черт носить! – бурлит со злостью какая-то толстая колонна с большой черной бородой, выкатываясь снизу навстречу к нам.
Избави вас бог спрашивать у колонны, что ей за дело до вашего визита в «Крым»: на дворе такая темная ночь…
Извозчик! – кричит молодой парень, видимо мастеровой. – Что возьмешь на Девичье поле? Там ты меня подождешь, примером, пять минут, с Девичьего поля на Покровку, там тоже пять минут, с Покровки к Сухаревой и духом назад.
– Што взять-то? – спрашивает один дядя из целой толпы извозчиков, облепивших «Крым» своими калиберами{102}102
Калибер – рессорные дрожки.
[Закрыть]. – Давай целковый{103}103
Целковый – серебряный рубль.
[Закрыть].

В трактире. Худ. В. Перов. Открытка. Вторая половина XIX в. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские.
– Облопаешься неравно! – с укоризной предполагает молодой парень.
– Сколько же дашь-то?
– Сколько дам-то?..
– Да, сколько от тебя будет?
– Трынку{104}104
Трынка – копейка серебром.
[Закрыть]! – с хохотом отвечает парень, быстро сбегая в подземелье.
– О-ой, батюшки! шлею с лошади в одну минуту сняли! – кричит кто-то за трактирным углом.
– Вот нам и чай! – продолжает хохотать промелькнувший сейчас парень, затворяя за собой визглявую трактирную дверь.
– А-а, чертов сын, попался! Мы тебе дадим таперича, как у своих извозчиков шлеи воровать!
Вслед за этими словами слышатся глухие удары обо что-то, будто кто в пустую бочку для своего удовольствия колотил собственным кулаком. Подумать, впрочем, чтоб это били человека – нельзя было, потому что человек тот, по всем соображениям, непременно должен бы был закричать от этих ударов.
– Што тут такое? – вопрошает басистый начальственный голос, очевидно, принадлежащий городовому.
– А вот шлею украл.
– Кто ж это?
– Хто? Известно хто! Все Евланька Фуфлыга бедокурит.
– А! – строго вскрикивает басистый голос. – Так ты опять у своих воруешь?..
И замолкшие было удары раздались с новой силой.
– Брось его, судырь! – просят ундера уже сами извозчики. – Отойди уж ты лучше: мы его без тебя-то своим судом прокладней отделаем…
– Глядите вы у меня, чертоломы{105}105
Чертоломы – здесь: драчуны, дебоширы.
[Закрыть]! Душу штобы не тово…
– Што-о на-ам ду-у-ша? За-а-чем нам ее? – отвечал кто-то, судя по тону голоса, к чему-то напряженно прикладывающий руки.
– Батюшки, отпустите! Голубчики, дух у меня совсем займется!..
– Завопил, небось! Мы те, ворище, не так разбодрим. Ночью гораздо больнее, нежели днем, действуют на душу такие крики: так зло моргают уличные фонари, слушая их, и к тому же ночное небо такое серое, такое безучастное повисло над ними!
Вы как будто испугались этой маленькой отечественной сценки и уже боязливо ступаете назад. Напрасно! Она в моих глазах заключает в себе тот аромат национальности, который всегда притягивает меня к «Крыму», как пахучая гречиха притягивает к себе работницу-пчелу.
Повинуясь этому тяготению, я отверзаю трактирную дверь. Крикливое визжание рокового блока достойно приготовляет нервы к безболезненному восприятию сцен, разыгрывающихся в оригинальном подземелье.
Сначала ничего и не разберешь, потому что клубы густого и однообразно пахучего воздуха не вдруг показывают посетителю частности русской оргии. Они повисли над новым человеком плотной тучей, как бы пристально осматривают его, желая прежде узнать, рожден ли он со способностью участвовать в укрываемой ими каше, или нет.
Кто благополучно проминет этот осмотр, тот пусть смело идет дальше: оргия уже не испугает и не оглушит его своим дружным и никогда не прерывающимся ревом. Надо, впрочем, сказать, что и такой счастливой головище покажется на первый раз, что этот тысячезевныи шум происходит не от множества людей, крутящихся в подвале, а что самый подвал этот, его толстые серые стены, его маленькие грязные оконца, его закопченные потолки и мебель, газовые рожки, торчащие в стенах, и длинноногие столовые подсвечники – все это, как что-то живое, будто обрадовавшееся новому гостю, двинулось к нему навстречу и заорало этим могучим гулом.

Сухаревская площадь в Москве. Открытка начала XX в. Частная коллекция
Но, говоря об этом вакхическом вихре, я или должен лить воду для того, чтобы не услышать упреков в излишнем лиризме, или, рассказывая о том, как под мрачными сводами харчевни экстазически бесновалась песня солдатского хора, как сияли лица, певшие и слушавшие ее, какими сердечными воплями радости и наслаждения отзывалась русская природа своим родным мотивам, – я сгорю в пламенном ливне жгучих фраз, который неизбежно польется с губ моих, когда я отдамся изображению этих, исполненных неудержимой страсти и невыразимого своеобразия, сцен.
Но что мне за дело до людских попреков, от которых ушел я сюда! Разве они не помогут мне забыть все на свете – эти скорбно могучие мотивы родной песни?
Вот они всего заливают меня. Ого! как здорово выносит их крепкая солдатская грудь! Бубен – так и тот ничуть не заглушает ни однообразную басовую ноту, которая невообразимо терпеливо тянет:
Сво-во празд-нич-ка дож-ду-ся,
Во гроз-на му-жа вцеплю-ся!
ни горячих переливов занозистого тенора, с злостью подхватывающего:
Во грозна му-жа вцеплю-ся,
Насмерть раздеруся!
И фистула тут же – этот кудрявый, белокурый, маленький кантонист{106}106
Кантонист – здесь: военнообязанный.
[Закрыть]… Господи! какими грустными, какими раздирающими тонами покрывает весь хор его серебряный голос:
О-о-о-ох! Насмерть раздеруся!
А опять: этот черный кузнец-плясун, в пестром халате, в сапожных обрезках на босую ногу, в истасканной фуражке на бедовой голове, – как это он бойко и выразительно блеснул в толпу своими черными глазами, как незаученно ловко стукнул о пол толстой подошвой, когда хор дружно грянул изо всех грудей заключительную строфу:
Насмерть раздеруся!
Оглушительный вскрик тенора, слившись с трелями колокольчиков бубна, закончил песню. Весь «Крым» бесновался до неистовства. Один молодчина упал на четвереньки и ревел от наслаждения, как дикий зверь.
– А-а-атлична! – кричал он. – Подать солдатам водки на пять целковых!..








