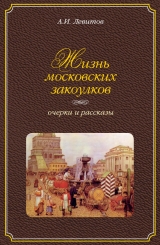
Текст книги "Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы"
Автор книги: Александр Левитов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Ей-богу завтра отдам.
– Завтра и за капустой приходи.
– Двадцать пять целковых туз, – шумел в азарте служка.
– Бит туз, – мимоходом сказал верзила. – И твоя дама бита, – заметил он рыжему франту.
– Экое счастье дураку повезло! – отозвался рыжий франт.
– Степан Андреич! очень сердце жжет. Отпусти капустки. Мне она все равно лекарство. Я тебе платок в заклад дам.
– Куды мне тут с вашими закладами!
– Пятьдесят целковых последние! – крикнул служка. – Налейте сосуд, – обратился он к хозяину – хочу горе залить.
– На пальто играть будете? – спросил Дебоширин подозрительного верзилу. – В десять рублей принимаете?
– Можно-с, – учтиво ответил верзила, осмотрев пальто.
– Пять рублей! – поставил Дебоширин. – Пораздольнее мечите, а то руки обобью. Режу!
И, срезав талию, он пристально начал всматриваться в беглые пальцы банкомета.
Счастье изменилось от этого пристального вглядывания. Служка выиграл пятьдесят рублей, карта Дебоширина тоже была дана.
– Отыгрались? – спросил Дебоширин у служки.
– Слава Богу! – ответил он. – Воротил.
– Что же? разве вы не будете больше играть?
– Не буду.
– А я так еще закачу! – радовался служка.
– Не играйте и вы, – серьезно сказал ему Дебоширин.
– Отчего же?
– Оттого, что проиграете. Вам не повезет. Верзила смекнул, в чем тут штука.
– Какое право имеете вы, – важно спрашивал он, – отсоветовать им играть? Не в свое дело прошу не мешаться.
– Молчи, мошенник! – крикнул на него Дебоширин. – Разве я не видал, как ты передергиваешь?
Рыжий франт и подозрительный верзила ожесточенно бросились на Дебоширина; мы дружно приняли их на наши толстые палки. Благодарный служка помог нам.
Пользуясь происшедшей свалкой, охриплая женщина стащила было несколько селедок, но слонообразная мебель схватила ее на месте преступления.
– Ведь жгет мне сердце-то! – оправдывалась она. – Без соленого али кислого умерла бы, пожалуй, а он в долг не дает.
– Тащи в квартал! – приказывал хозяин.
– Заступитесь, голубчики, – ох, не выдавайте меня! – упрашивала она предстоящих. – Высекут меня там.
– Отпустите ее, Степан Андреевич, – вступился Дебоширин. – Я заплачу за нее.
– Учить их следует, – противился хозяин. – Ну, да уж бог с ней! Ради вас только прощаю.
– Благодетель! – кричал служка Дебоширину. – Выпьемте по сосуду. Все бы я им ерникам{145}145
Ерники – мошенники, жулики, обманщики.
[Закрыть] проиграл, когда бы не вы. У тестя раздобыл деньжонок, домишко покупаю, так в задаток нес, да и закутил.
– А вы домой скорей поезжайте. Будет уж сосуды-то осушать А то на других жуликов налетите, – некому будет спасти.
– Я, благодетель, сейчас же домой и отправлюсь. Только выпьем еще по сосуду, уважь ты меня, ради бога!
К крыльцу лавки с грохотом подкатила пролетка{146}146
Пролетка – легкий открытый четырехколесный двухместный экипаж, преимущественно одноконный.
[Закрыть], и в дверях показался герой. Все в нем, от волос, торчавших из-под шляпы á la черт меня побери, и молодецких концов галстука, глядевших в разные стороны, до малейших черт лица и необыкновенно резких телодвижений, изобличали героя á la russe{147}147
…героя a la russe (фр.) – героя «в русском стиле», русского молодца.
[Закрыть], натуру в высокой степени широкую и размашистую.

Варварка у Гостиного Двора. Открытка начала XX в. Частная коллекция
– Водки! живее! – командовал он. – Поворачиваться у меня по-военному!
Почтенный хозяин клуба, оставив свою обычную флегму, с трактирною ловкостью налил ему стакан.
– Стар-р-ранись, душа, оболью! – стращал герой свою душу, и на лету, так сказать, проглотил водку.
– Закусить чего прикажете? – предупредительно спрашивал хозяин.
– Квасу! Я закусываю квасом. Жив-ва! Кто хочет пить? – спрашивал герой, торжественно осматривая нашу компанию. – Пейте в мой счет, сколько влезет: за всех плачу.
Некоторые клубисты с благодарностью принимают это предложение. Слонообразная мебель и толстый хозяин не успевали наливать стаканов.
– Квасу! Водки! – попеременно кричал герой, принимая от пьющих на его счет должную дань благодарности и уважения.
– Накачивайте теперь его, – указал он на стоявшего у порога пьяного извозчика с дураковатым лицом. – А ты, Ванька, пей, сколько душа затребует. Без церемоний валяй. Да дайте ему папирос крепких. Бафра{148}148
…Бафра – сорт крепких турецких папирос «Бафра».
[Закрыть]! Жив-ва!.. Люблю я тебя, каналья! Молодец ты господ возить.
Счастье дураковатого Ваньки было полное. Подпершись фертом{149}149
Подпершись фертом – упершись обеими руками в бока.
[Закрыть], он до истомы затягивался папироской и улыбался самым глупейшим образом.
– Сколько следует? – спросил герой.
– За восемьдесят стаканов восемь рублей, за пять бутылок квасу двадцать пять копеек, за пять пачек папирос рубль двадцать пять… – отвечал хозяин.
Герой вынул туго набитый бумажник, и клубный прилавок заблистал радугами сотенной кредитки{150}150
Кредитка – денежная купюра.
[Закрыть].
– Нет ли помельче?
– Ну, уж мельче у меня не бывает. Пошлите разменять. Да, впрочем, ей ты, Ванька! поезжай туда, где мы были сейчас. Там тебе разменяют. Да уж сиди лучше здесь, нарезывайся: я сам съезжу.
– Ладно, ваше благородие, – отвечал извозчик, – только насчет поднесения не оставьте.
– Пусть пьет, – лаконически приказал герой хозяину, взял с прилавка ассигнацию, сел в пролетку и поскакал по переулку.
– Кто это? – спросил у извозчика хозяин.
– Барин какой-то. Страсть какой богатый! Мы с ним другие сутки путаемся.
– Ты почаще таких-то вози, – просил хозяин.
– Уж это с нашим почтением; а вы мне вот поесть чего-нибудь дайте. Эдак белорыбицы, или икорки, – сладострастно претендовал неумытый Ванька.
Вошло двое пожилых господ с весьма бюрократическими признаками и геморроидальным цветом лиц.
– А, знакомая лавка! Тут с меня прошлого зимой шубу сняли, – проговорил один.
– Ошибаетесь, – счел долгом разуверить хозяин. – У меня подобных происшествий не бывает-с.
– Толкуйте! я очень хорошо помню, что и вы тут были.
– Спрррраведливо, – подтвердил другой и пошатнулся.
– Никак-с нет. Это, вероятно, случилось в другой лавке. Тут их пять.
– Может быть, может быть. На вас претендовать то же, что воду лить в решето. Давайте-ка водки.
Бюрократы выпили и удалились. Их сменили двое молодых офицеров.

Артельщик. Рисунок С. Ф. Александровского из журнала «Всемирная иллюстрация». 1872 г. Государственная публичная историческая библиотека России
– Нет, как хочешь, а мы далеки еще от истинной дороги прогресса, – говорил один.
– С какой точки будешь иметь взгляд.
– Конечно, с абсолютной.
– Абсолютного ничего нет. Дайте нам водки.
– Абсолютного нет в смысле абсолютном, но возможно абсолютное всегда существует.
– Но как же ты определишь это возможное?
– Собственным убеждением определю.
– Это будет ерунда.
Значительно заложивши, офицеры вышли из клуба.
– Что-то нет твоего барина, – сказал хозяин, обращаясь к извозчику.
– У барышень, надо думать, засиделся. Известно, разговоров-то у них побольше нашего будет.
– Не улизнул ли?
– Эвона! Не из таких, – проговорил извозчик, беспечно пуская клубы дыма.
Прошло еще с полчаса. Хозяин послал слонообразную мебель в тот дом, куда отправился герой.
– А барина-то твоего в другой раз у барышень вовсе и не было. Во всем переулке ни одной пролетки нет, – доложила слонообразная мебель.
– Батюшки! – вскричал извозчик, мгновенно вытрезвившись. – Сейчас зарежусь пойду!
– Отпустите-ка шеледочек пару, Штепан Андреич, да капуштки, – суетливо говорила сильно запыхавшаяся мамзель.
– Поди ты к черту и с селедками! – не менее суетливо ответил ей хозяин. – Запирай лавку, Семен! – продолжал он, выталкивая на улицу извозчика, который с отчаянием запустил руки в волосы и кричал:
– Ой, родимые мои! Удушусь сейчас.
Публика поспешно улепетывала из клуба. Между тем уже совершенно рассвело.
– Слушай-ка, стой! – сказал Дебоширин, подавая мне выигранные им пять рублей, – ты постарайся нынче нанять себе квартиру.
– Да ты на эти деньги сам можешь устроиться, – ответил я.
– Будет глупости городить! – нетерпеливо закончил Дебоширин. – Разве не знаешь, что я привык уж?!
Аркадское семейство{151}151
Аркадское семейство – здесь: идиллическое семейство, состоящее из счастливых, беспечных людей.
[Закрыть], или Новая камелия в кепи
(московская идиллия)
Что на свете прежестоко?
Прежестока есть любовь.
Из народной песни
Я пред тобой на коленях! – с неподдельным пафосом сказал граф Андрей, воздымая руки к небу.
Из романов «Русского вестника»
I
Мои повести я всегда начинаю описанием природы, побуждаемый к этому следующим обстоятельством.
Будучи, по натуре своей, человеком улицы, я, шатаясь из конца в конец по нашей широкой отчизне, видел по крайней мере сто миллионов людских глупостей и двести биллионов людских же подлостей. Вспоминая об этой мириаде орнаментов земного шара, без которых, по мнению некоторых, он и не удержался бы в пустом пространстве, я прихожу в неизъяснимое бешенство. Созданный быть ловцом душ, т. е. исправителем человечества, я до смертельной жажды томлюсь в это время желанием такой богатырской силы, которая бы всегда давала мне полную возможность всякого джентльмена, способствующего своей подлостью или глупостью равновесию земного шара, схватить за волосы целой горстью и тузить его – и тузить, дабы он был чист и нравствен, дабы он, наконец, не препятствовал моему собственному ндраву быть добродетельным и видеть других таковыми же…
Да! Не проходит ни одного дня без того, чтоб я глубоко не скорбел об отсутствии в моих мускулах надлежащей развитости. Когда мне приходится выражать эту скорбь, я бываю страшен, как лютый зверь, и обыкновенно лечу к Пуаре учиться гимнастике{152}152
…лечу к Пуаре учиться гимнастике… – В Москве на Неглинной улице, в длинном двухэтажном строении, принадлежавшем князьям Касаткиным-Ростовским, с середины XIX в. находилась школа гимнастики и фехтования, основанная французом Яковом Пуаре.
[Закрыть]. Свежий воздух постепенно охлаждает мое горящее лицо, скорый бег утомляет на минуту возбужденное разлившеюся желчью тело, и я начинаю припоминать время и место, где совершилась известная глупость или подлость, возмутившая меня. Начинаю, говорю, припоминать время и место совершения известного нелепого дела, и чем ярче освещало это дело хладнокровное, ничем не возмущающееся солнце, чем веселее смотрелась в моей памяти сцена людского несовершенства, тем я делаюсь и тише, и тише, тем решительнее бросаю свое намерение давать практику Пуаре и, наконец окончательно, так сказать, опомнившись, я заломляю набок мою порыжелую, бонвиванскую{153}153
Бонвиван – человек, живущий в свое удовольствие (от французского выражения «bon vivant»).
[Закрыть] шляпу и иду, иду, иду.
И оно – это безалаберное море безалаберных дел людских – шумно катится пред глазами моими, одинаково бесправно топящее и бесправно выносящее на берег ловцов своих. Привыкли глаза мои не слепнуть от ослепляющего блеска волн того моря, – уши мои не глохнут от грохота, и если что-нибудь иногда мешает моему обыкновенному, постоянному занятию смотреть на это море и думать о нем, так это только выраженное уже мной желание физической силы, чтобы, с одной стороны, помочь какому-нибудь храброму и честному пловцу жизненного океана, который, спасши менее сильных, сам тонет теперь, теряя последние силы; с другой, чтобы стукнуть в лоб негодяя, который из трупов, утопленных им, сделал себе широкий, покойный плот и с улыбкой добродетели подъехал на нем к мирному брегу… Скотство!
Но я удержусь моей тукманкой{154}154
Тукманка – тумак, тычок в голову костяшками пальцев.
[Закрыть] превращать эту улыбку в гримасу смерти. И без меня невинное спокойствие этой физиономии самым гнусным образом исковеркается и ужаснется при виде черта, который неизбежно встретит ее в жаркой бане ада. Впрочем, вера в эту встречу еще не так успешно успокаивает мое бешенство, как успокаивает меня или шумный день, беспощадно освещающий зверство людское, или тихая ночь, непроглядная темнота которой снисходительно укрывает его. Поэтому природа у меня всегда на первом плане. Она лучше всего, что только я узнал во всю мою жизнь. Блистая некогда неподдельной красотой в мои детские глаза, она заставила меня искренно полюбить ее, – вследствие чего и настоящий очерк я начну с того собственно, в каком состоянии была природа в то время, когда завязался узел подлой глупости, составляющий его тему.

Коечно-каморочная квартира на Хитровке. Фотография начала XX в. Частный архив
Узел московской идиллии завязался в одной из тех свойственных только Москве улиц, которые я называю девственными, а другие, когда говорят про них, называют: «у черта на куличках, у сатаны на рогах»{155}155
«У черта на куличках, у сатаны на рогах» – очень далеко.
[Закрыть]. Решайте сами, которое из двух названий справедливее.
Было восемь часов утра. Кто знает нравы девственных улиц, тому нечего говорить, что обитатели их в восемь часов утра все давно на ногах; но кто не знает этих нравов, тот непременно подумал бы, что жители еще спали. Так было все тихо на улице, что, кроме табачного дыма, который густыми клубами выпускала из окна маленького домишка некоторая усастая ермолка{156}156
…усастая ермолка… – усатый господин в круглой еврейской шапочке.
[Закрыть], ничего не было видно на ней. Росла тут, правда, ярко-зеленая трава, увлаженная еще не высохшей росой, за заборами стояли развесистые деревья, на них чирикали садовые птицы, будочник стоял на крыльце своей будки со стаканом чая в руках, показывая вид, что он пьет за здоровье солнца, только что взошедшего над громадами настоящей Москвы; следовательно, я как бы соврал немножко, когда сказал, что ничего не было на девственной улице, кроме табачного дыма усастой ермолки. Я, изволите видеть, потому дозволяю себе маленькую вольность в частностях моего очерка, что главная основа его целого до бесконечности справедлива. Примите это в соображение и слушайте, что будет дальше.
Над двойным рядом покосившихся хижин девственной улицы, над ее травой и деревьями было такое мирное сияние весеннего дня, какое, думаю, должно освещать только светлые сады рая и божественные лики, населяющие эти сады.
Никак нельзя было подумать, чтобы какая-нибудь людская голова, освещенная этим солнцем, дышавшая этим ароматным днем, решилась бы пойти в дисгармонию с окружавшей его повсеместной красотой и обезобразить его своей пошлостью и подлостью. А между тем этим именно светлым утром, так живительно пробуждавшим жизнь после теплой ночи, на этом именно тихом месте, при виде которого в вас непременно пробуждалось желание выстроить на нем свою кущу, чтобы в ее безмятежной тиши терпеливо ждать конца, когда истает в вас вечно ноющее сердце, – навстречу вам, безобразным червем, выпалзывала людская мерзость, разгоняя ваши добрые мысли и ожесточенно вооружая вас против блага жизни.
В первый раз этим утром людская дичь засветилась предо мной сквозь зеленые листья гелиотропов, гвоздик и тому подобной дряни, которой Анна Петровна Маслова, по наречию девственных улиц, Маслиха, думала украсить три окна своего, как она выражалась, флигаря{157}157
Флигарь (искаж.) – флигель.
[Закрыть].
Будучи титулярной советницей, следовательно, одной из тех барынь, которых по справедливости называют чертовым помелом, потому что ничто не может быть нелепее их понятий и засаленнее их костюмов, Маслиха в тот самый день, когда я взглянул на ее гвоздики, стояла перед зеркалом в своем венчальном, гродетуровом платье{158}158
Гродетуровое платье – тяжелое платье из плотной тафты.
[Закрыть], с узенькими рукавчиками, с талией под мышками, и надевала чистый кружевной воротничок.
Ну, думаю себе: у Маслихи, должно быть, именинница ныне какая-нибудь есть – и при этом мне очень захотелось самому побывать на этих именинах для того собственно, чтобы посмотреть, с каким азартом чиновница нападет на даровой именинный пирог, как будет жаловаться богатым гостям на своего покойника, оставившего ее будто бы без куска хлеба с детьми мал-мала меньше, и как вообще, пропустив, аки бы от боли под ложечкой, значительную дозу возбуждающего, она будет целовать ручки благодетелям и проливать пред ними свои вдовьи, горькие слезы. Не скажу, чтоб я уж отроду моего не видывал таких картин, но, по чрезвычайной их занимательности, я чем более смотрю на них, тем более они подвигают меня услаждаться ими.
Редко ошибаясь в своих предположениях, здесь, однако же, я ошибся.
– На именины куда-нибудь собрались, Анна Петровна? – спросил я Маслиху, запуская глаза в самое нутро ее комнаты.
– Ах, испужал ты меня до смерти, Иван Иваныч! Какие там именины? Дочь из пенсиона взяла, так вот сряжаюсь теперь: попов жду, молебен будут служить, гости вечером обещались. Приходи, барышни будут, – попрыгаете.
– Очень благодарен, Анна Петровна, что не забыли. Непременно вечером буду.
– И не говорите лучше, не стойте понапрасну, – отнеслась Анна Петровна к нескольким личностям, стоявшим в ее передней с узлами под мышками. – Разбудите дочь, – ей-богу велю собаку на вас спустить.
– Анна Петровна! – послышались мне поющие голоса. – Али долго? Али мы плательщиками вам завсегда не были? Вы, примером, одним глазком только ежели взглянете, так с эким добром ни в жисть не расстанетесь.
– И глядеть не хочу, – отойдите лучше. Мало я на штаны-то ваши плисовые насмотрелась, да на рубахи-то ситцевые?.. Стыдились бы.
Фабричные упорно стояли около притолоки, выражая каждую секунду готовность сейчас же развязать свои узлы и представить их на ревизию Анне Петровне.
«Радость у соседки, – думал я про себя, глядя сквозь частую сеть цветов на опечаленные лица мастеровых, – дочь к ней из пансиона приехала; а между тем других людей эта радость может сделать голодными». Философские размышления, особенно летним утром, я очень люблю.
– Вот, Иван Иваныч, для этакого-то дня, – обратилась Анна Петровна, – хотят меня в грех ввести. Просто отбою нет от закладов, а выгоды никакой. Нанесут тебе юбок старых, поддевок изношенных, да так и бросают, не выкупимши. Весь дом завалила тряпками, а старьевщики не берут. Никуда, говорят, не годится.
– Анне Петровне здравия и благоденствия! – пробасил в это время дьячок, нечаянно вошедший в переднюю с церковными книгами и одеждами.
– А батюшка скоро? – торопливо спрашивала Анна Петровна.
– Изволят жаловать. Вот они на дворе уж.
Калитка щелкнула, на дворе раздались тяжелые шаги, дьячок стремглав бросился отворять дверь передней, и Анна Петровна всецело отдалась принятию благословения вошедшего священника.
Из маленьких окон «флигаря» по всей длине и ширине девственной улицы разнеслось трехголосное пение, сизыми струйками полетел из них пахучий дым кадильный, который сделался еще ароматнее от аромата гвоздик и гелиотропов, с которым смешался он, когда пролетал по их зеленым листьям.
Я пошел дальше. Мастеровые, выходя из калитки, на чем свет стоит пушили неудавшийся заем и в то же время крестились, потому что, нужно думать, что и до их озабоченных ушей донеслось знакомое пение.
Теперь я попрошу у вас позволения объясниться с вами насчет личности, виденной нами сейчас, закладчицы. Надеюсь, что я не сказал лишнего слова, того, что обыкновенно называют ни к селу ни к городу, когда просил этого позволения, потому что речь пойдет об одной из тех дикорастущих на терпеливой русской почве женщин, которые с нелепым оттопыриванием нижней губы, с какой-то, лишь только им свойственной, возмутительнейшей томностью на всем лице, гнусливо величают себя бл-л-а-а-рродной женщиной. Не знаю, как на кого, а на меня эта рекомендация производит самое одуряющее действие. Я в это время не столько хохочу коверкающемуся предо мной тупоумию, сколько бешусь и страдаю, потому собственно, что дозволено же наконец людям обезображивать свои лица гримасами безобразнейшей мартышки.
Поистине скажу, что предмет, к которому толкает меня теперь дума моя, именно таков, к которому подходить и от которого отходить нужно не иначе, как вымывши руки самым лучшим французским мылом. Но, подходя к Анне Петровне с вымытыми руками, я вместе с тем вооружаюсь всей терпимостью, к какой только я способен, и заодно уже смываю с себя чувство ненависти и к Анне Петровне, и к лицам вроде ее, долгое обращение с которыми отразилось на мне так несчастливо, что мне нужно вооружиться всей твердостью мысли для того, чтобы разумно отречься от злости на них, ибо от века не знали они, что творили, и, увы, до самого гроба не будут знать, что будут творить… Не на ваши головы падут грустные результаты нашей безмерной, национальной дури!..

Зарядье. Открытка начала XX в. Частная коллекция
Моя желчь, Анна Петровна, утихла теперь. Более она не оскорбит вашего бллао-родства своими вспышками. Справедливо и тихо расскажу я вашу жизнь от начала до настоящего дня, и если я, правды ради, обнажу, например, ваше далеко не титулярное происхождение, то верьте мне, что о ваших молодых партикулярных днях я буду говорить с тем именно глубоким сочувствием к ним, с которым я обыкновенно скорблю о том вызывающем всякое участие мире, где неприметно протекло наше общее, так беспомощно страдавшее детство…
Анна Петровна родилась, тому назад лет пятьдесят, на широком дворе богатого степного барина. Посторонние вытягивали ее за волоса и за уши, мать поливала обильными слезами, и вот, подогнанная однажды нетерпеливой рукой отца, она кубарем выкатилась из душной людской на двор, поросший густой травой и старыми деревьями. Степная природа, бросившаяся в глаза ребенка прекрасной жизнью своей, вырвала из души его саму собой сложившуюся песню. Согласным хором заливаются степные птицы, порхая по старым деревьям и по высокой траве, и Анютка, слушая их, оглашает своим детским голоском барский двор.
– Чья это девочка на дворе кричит? – спросил усастый барин у лакея, не вынимая изо рта благовонной трубки.
– Наша-с, – отвечал Петр.
– Годов сколько?
– Шестой пошел. Больная она у нас, сударь, какая-то, и на двор-то, почитай, в первый раз выбежала.
– Голосенко у твоей дочери, Петр, славный, – пожаловал барин своего верного слугу. – Вишь, словно синица чирикает. Отведи-ка ты ее к регенту и скажи ему, чтобы к хору он ее приучал.
– Не маловата ли будет? Измывы кабы не было над ней от регента. Бьет он их очень, осмелюсь доложить.
– Не бить, так какой из вас выйдет прок? – почти сердито спросил барин Петра, и Анютка поступила в муштр{159}159
…в муштр… – здесь: на обучение.
[Закрыть] к регенту.
– Альт, ваше превосходительство, у девочки неслыханный, словно бы у птички какой, – рекомендовал своему принципалу новую ученицу регент, весьма конфузливый молодой семинарист.
– Ну, хорошо, братец, хорошо! Старайся, – я тебя награжу, – поощрил его барин.
Между тем высокая не по летам, белокурая и голубоглазая Анютка вырастала не по дням, а по часам, и действительно, в церкви ли, или гости, бывало, в доме у барина соберутся, она, словно птичка, вьющаяся над высоким и густым лесом, вылетала своим голоском из целого хора, сосредоточивая на одной себе внимание старинных степных жантильомов{160}160
Жантильомы (искаж.) – джентльмены.
[Закрыть].
– Две тысячи на ассигнации, честью клянусь, без всякого сожаления бросил бы за эту канашку{161}161
Канашка – фамильярное обозначение женщины, выражающее одобрительную оценку или восхищение ее пикантной внешностью.
[Закрыть]! – говорили отставные корнеты и поручики – барские гости, покручивая гибельные усы.
– Пожалуй бы, и еще прикинул сотню, другую? – насмешливо спрашивал раззадоренных усачей счастливый владетель канашки.
– Еще бы не прикинуть, черт меня побери! – отвечал какой-нибудь Бова-королевич в лютом азарте. – Хочешь три тысячи?
– Прибавь что-нибудь, – торговался любостяжатель-хозяин.
– Разрывайся сердце! Идет к ним легенький сосунок от Догоняй – не догонишь.
– Ха-ха-ха-ха! – разражался хозяин. – Ты ведь от Догоняя ничего не хотел из дому пускать. Вот и промахнулся. Только я тебе, милый друг, вот что скажу: себе берегу на старость эту синицу. Без нее, сам ты видишь, весь хор никуда не годится.
Но я сейчас только приметил, что, так много распространившись о барской хористке, отступил от плана моего очерка. Если я должен много о чем-нибудь писать, то никак не об Анютке, потому что такое подробное развитие девичьей жизни противоречит моему заглавию и, сам я очень хорошо понимаю, не идет к делу. По этому случаю я прибегаю к некоторым сокращениям.
Прекращаю я на некоторое время мой полночный труд для того собственно, чтобы, не смущая никого несимметричностью моего рассказа, в тишине моей бедной комнаты неслышно погрустить о том печальном конце, к которому непрерывно приходили стройные, белокурые и голубоглазые певицы барских хоров.
Длинный ряд воспоминаний о моей собственной пошлой жизни возник в голове моей по поводу моих представлений о молодых днях Анны Петровны. С болезненным трепетом, который произвели в моем сердце эти воспоминания, я повторяю про себя обыкновенную, некогда Анюткину, историю в наших степных барских усадьбах.
В длинном флигеле, скупо освещенном сальными свечами, идет вечерняя спевка. Дворня до того привыкла к стройным концертам хора, что окончательно уже перестала шататься под окнами флигеля со своими вечными досугами. Конфузливый регент, управляя тридцатью человеками, выражал собой полнейшее счастье. Скрипка под его пальцами, как живое существо, до осязательности ясно пела про это счастье. На молодого человека были устремлены голубые глаза, блиставшие и любовью к нему, и каким-то благоговением. Полновластный распорядитель хора, регент нарочно становил Анютку впереди всех против себя. Смотрят они друг на друга, обвороженные друг другом, – и скрипка поет в руках регента, и Анютка поет, а хор, невольно поддаваясь могуществу любви, могуче вторит им, – и вне флигеля тихая, сельская ночь кажется еще тише, потому что казалась она вам глубоко заслушавшейся песней любви.

Балаганы. Худ. В. Е. Маковский. 1869 г. Открытка начала XX в. Частная коллекция
– Анютку барин зовет! – выкрикивает вдруг повелительным голосом лакей, на минуту появляясь в дверях певческого флигеля.
Как внезапно порванная струна, умолк хор и скрипка умолкла, закончив свое пение вздохом, похожим на тот, которым вздыхают в последний раз в этой жизни.
– Баста! – угрюмо скомандовал регент.
– Што скоро бросил спевку-то? Ай не по сердцу, что к барину Анютку позвали? – толковали между собой певчие, расходясь по своим каморкам.
В двухгодовой промежуток, который последовал после описанной мной спевки, замечательного ничего не случилось, исключая того, впрочем, обстоятельства, что барский хор почти что расстроился, потому что регент втянулся в запой, а Анютка с каждым днем теряла свой птичий голос и видимо сохла…
В моей памяти возникает другая сцена. Первозимье засыпало широкий барский двор своим белым, ослепляющим снегом. Весь двор исслежен разнохарактерной обувью дворни, которая толпилась около флигелей, помещавших прислугу. Перед крыльцами этих флигелей стоят одноконные крестьянские подводы, на которых молодое дворовое поколение отправляется в Москву, по предварительному барскому определению, в выучку разным добрым и полезным мастерствам. Семнадцатилетняя Анютка тоже едет с этим обозом в столицу, чтобы в совершенстве изучить там в частности – добрую нравственность, а в главном – приятные манеры, необходимые для такой ловкой горничной, которая требовалась для вырастающей барышни. Барин, назначая Анютку для этой высокой цели, руководствовался здесь главным образом тем, что Анютка и после своего курса в столице сохранит еще свежесть своего личика и что, по его наивным соображениям, не от чего было осечься в богатой Москве ее белокурым кудрям…
Прощаясь с детьми, дворовые так же горько плакали, как горько плачут и недворовые, когда расстаются со своими детьми. Следовательно, особенно занимательного в этих громких материнских выкриках, в этих молчаливых отцовских слезах – ничего не было.
Наконец обоз, провожаемый целой гурьбой, тронулся в свой далекий путь. На облучке тех саней, где сидела закутанная в бараний отцовский тулуп Анютка, прилепился и пьяный регент с тщательно закутанной в разные отрепья скрипкой.
– Вы не бойтесь, не горюйте! – утешал он Анюткиных отца и мать. – Со мной она там не пропадет. Будьте покойны: как только приедем в Москву, сейчас же я по докторам пущусь. Так и так, мол, голос самый ангельский имела. Воскрешайте, скажу. Певица, скажу, выйдет несравненная. Ну, они воскресят!
Но до конца отморозил глупый кутейник{162}162
Кутейник – презрительное наименование причетников и вообще церковников.
[Закрыть] бессапожные ноги свои, когда шатался по Москве, разыскивая воскресителя-доктора. До смерти, так сказать, исходился он по широким столичным улицам, и вся польза, которую он мог принести своей талантливой ученице, состояла в том, что после него Анютка снесла на толкучку его самоделковую скрипку и на деньги, вырученные за нее, купила новые башмаки, два золотника чаю и полфунта сахару.
– Сердце у меня оченно ломит! – говорила Анютка, – когда я взгляну на эту скрипку…
Прошла тут Анна Петровна все те фазы столичной жизни, которые неминуемо предстоит пройти существу, изучающему горничное мастерство и добрую нравственность, – до того, что окончательно забыла, билось ли когда-нибудь ее сердце в то время, когда конфузливый регент восторженно посвящал ее в тайны партитур, и, говоря высоким слогом, она до того погрузилась в прозу городской жизни, что успела своими трудами, как она говорила, выкупиться на волю, заплатив барину такой куш, который, как я рассчитывал, она могла иметь тогда только, когда прожила бы в горничных двести тридцать семь лет и восемь месяцев.
Поступила она тут, как бы экономкой, к некоторому приказному{163}163
Приказный – мелкий чиновник из земского суда.
[Закрыть], одному их тех добродетельных смертных, которые, по смыслу присяги, даже до последнего издыхания мажут казенными чернилами по казенной бумаге. Когда сей седовласый столоначальник, худой и бесстрастный, с серебряными очками на помутившихся глазах, дожив до пятидесятилетнего возраста, увидал, что от жизни, кроме могилы, ждать ему нечего, он сочетался с Анной Петровной законным браком в тех видах, что для чего-де и не осчастливить девицы?..
Вследствие таких, далеко, впрочем, не потрясших земного шара событий, мы и видим Анну Петровну титулярной советницей, дающей теперь маленький балик, по случаю окончательного выбытия из пансиона ее дочери, наследницы всех благ, приобретенных и беспорочной службой бесстрастного приказного, и деятельностью самой Анны Петровны.
Обильно обкушавшись великолепных романов Дюма{164}164
Дюма – Александр Дюма-отец (1802–1870) – французский драматург, поэт, писатель, журналист. Самыми известными из его произведений являются исторические романы «Три мушкетера» (1844), «Граф Монте-Кристо» (1845), «Королева Марго» (1847).
[Закрыть], молодая пансионерка все балы вообще, даже и те, которые даются русскими титулярными советницами, представляла в своем воображении не иначе, как такими, которые давали многоразличные Людовики и их изящно храбрая аристократия. Поэтому стол, накрытый в зале, назначавшейся также и для танцев, весьма раздражительно подействовал на нервы героини бала.
– Что это, маменька, какую гадость вы тут наставили? – в справедливом негодовании спрашивала она мать, небрежно тыкая вилкой в разные грибки и огурчики, поставленные на стол вместе с водкой для услаждения имевших быть на бале кавалеров и дам.
– Что такое? – торопливо осведомлялась Анна Петровна. – Али таракан во что попал? Много их у меня в кухне проклятых. Ничем не могу выжить.

Вид Николаевского вокзала и Каланчевской площади. Середина XIX в. Репродукция с литографии И. Шарлеманя. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские»
– Фи! – прогримасничала барышня, решаясь не умирать до тех пор, пока лично не убедится в том, что ее maman и не иное что называет балом, как потчевание водкой и свежепросольными огурчиками.
Все эти уродливые жизненные представления, почерпнутые нашей барышней из «Графини Монсоро»{165}165
«Графиня Монсоро» – роман Александра Дюма-отца (1846), где писатель воскрешает события второй половины XVI в. – эпохи религиозных войн и правления Генриха III, последнего короля династии Валуа. История трагической любви благородного графа де Бюсси и прекрасной Дианы де Монсоро развертывается на фоне придворных интриг, политических заговоров и религиозных раздоров.
[Закрыть], как стая маленьких птичек, спугнутая кем-либо, в ужасе взвивается над уединенным полем, в страшной суматохе, заметались в голове ее, когда пансионерка в первый раз вступила под убогую кровлю родительских лар. Стройный ряд соломенных стульев, вытянутый в маленьком зальце, аляповатый диван, обитый ситцем, круглый стол перед ним, созданный как будто медведем для медведя, модные картинки времен покорения Очакова{166}166
…времен покорения Очакова… – Взятие Очакова было одним из героических событий Крымской кампании 1788 г.
[Закрыть], висевшие на стенах в уродливых бумажных рамках, бесстрастный портрет отца, написанный масляными красками, и даже сами гелиотропы и гвоздики на окнах – все это вместе необыкновенно покоробило молодое лицо девушки, потому что вся эта роскошь с первого шага ясно и отчетливо доложила ей, что жизненная обстановка, в которой должна вращаться героиня девственной улицы, далеко не та же самая, какой обстановил некогда графиню дю Барри{167}167
Графиня дю Барри – Мария-Жанна дю Барри (1743–1783) – фаворитка французского монарха Людовика XV.
[Закрыть] ее царственный друг.








