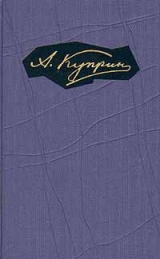
Текст книги "Том 8. Произведения 1930-1934"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
– Ура! – оглушительно кричат юнкера.
– Ура! – отчаянно кричит Александров и растроганно думает: «А ведь что ни говори, а Берди-Паша все-таки молодчина».
Все бегут в гимнастическую залу, где уже дожидается юнкеров офицерское обмундирование.
Там же ротные командиры объявляют, что спустя трое суток господа офицеры должны явиться в канцелярию училища на предмет получения прогонных денег. В конце же августа каждый из них обязан прибыть в свою часть. Странным кажется Александрову, что ни у одного из юных подпоручиков нет желания проститься со своими бывшими командирами и курсовыми офицерами, зато и у тех как будто нет такого намерения. Удивленный этим, Александров идет через весь плац и звонится на квартиру, занимаемую Дроздом, и спрашивает долговязого денщика, полуотворившего дверь:
– Можно ли видеть господина капитана?
– Никак нет, ваше благородие, – равнодушно отвечает тот, – только что выехали за город.
Александров пожимает плечами.
Глава XXXIНапутствие
Форма одежды визитная, она же – бальная: темно-зеленоватый, длинный, ниже колен, сюртук, брюки навыпуск, с туго натянутыми штрипками, на плечах – золотые эполеты… какая красота. Но при такой форме необходимо, по уставу, надевать сверху летнее серое пальто, а жара стоит неописуемая, все тело и лицо – в поту. Суконная, еще не размякшая, не разносившаяся материя давит на жестких углах, трет ворсом шею и жмет при каждом движении. Но зато какой внушительный, победоносный воинский вид!
Первым долгом необходимо пойти на Тверскую улицу и прогуляться мимо генерал-губернаторского дворца, где по обеим сторонам подъезда стоят, как львы, на ефрейторском карауле два великана гренадера. Они еще издали встречают Александрова готовно растаращенными глазами и, за четыре шага, одновременно, прием в прием, такт в такт, звук в звук, великолепно отдают ему винтовками честь по-ефрейторски. Он же, держа руку под козырек и проходя с важной неторопливостью, смотрит каждому по очереди в лицо взором гордым и милостивым. И кажется ему в этот миг, что бронзовый генерал Скобелев, сидящий на вздыбленном коне посредине Тверской площади, тихо произносит:
– Эх. Такого бы мне славного обер-офицера в мою железную дивизию, да на войну.
Но это наслаждение слишком коротко, надо его повторить. Александров идет в кондитерскую Филиппова, съедает пирожок с вареньем и возвращается только что пройденным путем, мимо тех же чудесных гренадеров. И на этот раз он ясно видит, что они, отдавая честь, не могут удержать на своих лицах добрых улыбок: приязни и поощрения.
А теперь – к матери. Ему стыдно и радостно видеть, как она то смеется, то плачет и совсем не трогает персикового варенья на имбире. «Ведь подумать – Алешенька, друг мой, в животе ты у меня был, и вдруг какой настоящий офицер, с усами и саблей». И тут же сквозь слезы она вспоминает старые-престарые песни об офицерах, созданные куда раньше Севастопольской кампании.
Офицерик просто душка,
Только ростом не велик.
Ах, усы его и шпоры,
Вы с ума меня свели.
– А то еще, Алеша, один куплет. Мы его под гросфатер пели – был такой старинный модный танец:
Вот за офицером
Бежит мамзель,
Ее вся цель,
Чтоб он в нее влюбился,
Чтоб он на ней женился.
Но офицер
Ее не замечает
И только удирает
Во весь карьер.
И опять она обнимает Алешину голову и мочит ее старческими слезами.
– Поедем завтра в Троице-Сергиевскую лавру, Алеша. Закажем молебен Угоднику.
Через три дня, в десять часов пополудни, Александров входит в училищную канцелярию, с трудом отыскав ее в лабиринтах белого здания. Седой казначей выдавал прогонные деньги молодым подпоручикам, длинным гусем ожидающим своей очереди. Расчет производился на старинный образец: хотя теперь все губернские и уездные большие города давно уже были объединены друг с другом железной дорогой, но прогоны платились, как за почтовую езду, по три лошади на персону с надбавкой на харчи, разница между почтой и вагоном давала довольно большую сумму. Вероятно, это был чей-то замаскированный подарок молодым подпоручикам.
Выдав офицеру деньги и попросив его расписаться, казначей говорил каждому:
– Его превосходительство, господин начальник училища, просит зайти к нему на квартиру ровно в час. Он имеет нечто сказать господам офицерам, но, повторяю со слов генерала, что это не приказание, а предложение. Счастливого пути-с. Благодарю покорно.
Александров пришел в училище натощак, и теперь ему хватило времени, чтобы сбегать на Арбатскую площадь и там не торопясь закусить. Когда же он вернулся и подошел к помещению, занимаемому генералом Анчутиным, то печаль и стыд охватили его. Из двухсот приглашенных молодых офицеров не было и половины.
– Что же другие? – спросил он в недоумении. Но ему никто не ответил. Кто-то поглядел на часы и сказал:
– Еще пять минут осталось. Подождем, что ли.
Но в эту минуту дверь широко раскрылась, и денщик в мундире Ростовского полка, в белых лайковых перчатках сказал:
– Пожалуйте, ваши благородия. Его превосходительство изволят вас ожидать в гостиной комнате. Соблаговолите следовать за мною.
Офицеры стали вслед за ним подыматься во второй этаж, немного смущенные малым количеством, немного подавленные всегдашней, привычной робостью перед каменным изваянием.
Генерал принял их стоя, вытянутый во весь свой громадный рост. Гостиная его была пуста и проста, как келия схимника. Украшали ее только большие, развешанные по стенам портреты Тотлебена, Корнилова, Скобелева, Радецкого, Тер-Гукасова, Кауфмана и Черняева, все с личными надписями.
Анчутин холодно и спокойно оглядел бывших юнкеров и начал говорить (Александров сразу схватил, что сиплый его голос очень походит на голос коршевского артиста Рощина-Инсарова, которого он считал величайшим актером в мире).
– Господа офицера, – сказал Анчутин, – очень скоро вы разъедетесь по своим полкам. Начнете новую, далеко не легкую жизнь. Обыкновенно в полку в мирное время бывает не менее семидесяти пяти господ офицеров – большое, очень большое общество. Но уже давно известно, что всюду, где большое количество людей долго занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где конец занимательности и начало равнодушной скуки, как, например, на кораблях в кругосветном рейсе, в полках, в монастырях, в тюрьмах, в дальних экспедициях и так далее, и так далее, – там, увы, неизбежно заводится самый отвратительный грибок – сплетня, борьба с которым необычайно трудна и даже невозможна. Так вот вам мой единственный рецепт против этой гнусной тли.
Когда придет к тебе товарищ и скажет: «А вот я вам какую сногсшибательную новость расскажу про товарища Х.» – то ты спроси его: «А вы отважетесь рассказать эту новость в глаза этого самого господина?» И если он ответит: «Ах нет, этого вы ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет» – тогда громко и ясно ответьте ему: «Потрудитесь эту новость оставить при себе. Я не хочу ее слушать».
Закончив это короткое напутствие, Анчутин сказал сиплым, но тяжелым, как железо, голосом:
– Вы свободны, господа офицеры. Доброго пути и хорошей службы. Прощайте.
Господа офицеры поневоле отвесили ему ермоловские глубокие поклоны и вышли на цыпочках.
На воздухе ни один из них не сказал другому ни слова, но завет Анчутина остался навсегда в их умах с такой твердостью, как будто он вырезан алмазом по сердолику.
Фердинанд
Новогодний рассказ
В моей чересчур длинной жизни я был участником и свидетелем таких явлений и курьезных приключений, о которых теперь побаиваюсь и рассказывать: до такой степени они кажутся издали неправдоподобными. А ведь русский читатель, изо всех читателей в мире, наиболее чуток на ложь, на вранье или даже на простое преувеличение.
Ну, кто мне поверит, например, что летом 1896 года, в южном Полесье, в деревне Казимирке, я видел град величиною приблизительно в кулачок двенадцатилетнего мальчугана? Я очень жалел тогда, что у меня не было под руками фотографического аппарата, чтобы снять эти огромные градины рядом с каким-нибудь простым предметом домашнего обихода: с папиросной или спичечной коробкой, с малой бутылкой из-под казенного вина, с обыкновенным чайным стаканом и так далее… Этот град почти мгновенно выбил все стекла и ставни в старом помещичьем доме и обезлиствил всю плантацию тутовых деревьев. Он убил в поле мальчика-подпаска и несколько десятков ягнят, а крупному скоту причинил множество тяжких ушибов.
Зимою, не помню какого года, но твердо знаю – в день мессинского землетрясения, – мы вышли, я и Арапов, управляющий маленьким имением покойного Ф. Д. Батюшкова, – ранним нехолодным утром потравить зайцев. Мы перешли через холмистое урочище, называвшееся «Попов пуп», и искали зайцев в полях и коречках, принадлежавших тристенским мужикам.
Следы были неясны, а собаки (почти все – дворняжки) – вялы и небрежны. И мы обое шли как-то нехотя. Снег нам казался скучно-желтым.
И вдруг Арапов воскликнул:
– Александр Иванович! Глядите! Глядите же!
Он был холодно-смелый человек. Он участвовал в Цусимском погроме, будучи матросом на транспорте капитана Куроша, перенес крушение, спасся вплавь, пробыл почти год в японском плену, где держал себя с большим достоинством.
Меня удивило, почти испугало выражение ужаса, которое я услышал в его голосе:
– Да глядите же на небо.
А на зимнем скучном небе сияли радуги. Не радуга, а именно радуги. Они шли сводчатым, полукруглым коридором от севера на юг и с каждой секундой становились все ярче и ярче. Собачонки завыли, да и мы не знали, что делать, что говорить… А потом эта семицветная аркада стала постепенно тухнуть… и вскоре пропала.
Лениво и беззвучно повалил снег лохматыми хлопьями…
Еще видел я однажды черную молнию. Это было в окрестностях села Курши, Касимовского уезда.
После нестерпимо знойного и душного дня, после совсем неудачной охоты вечерняя гроза застала меня на большом болоте. Это была одна из тех, длящихся беспрерывно, от заката до восхода, гроз, которые бывают в так называемые «воробьиные ночи». Рассказывают, что после таких ночей находят на полях и на дорогах множество убитых или ошеломленных воробьев. Верно ли это – я не знаю; никогда не пришлось проверить.
Больше часа я шел до дома. Была уже ночь, но дорогу я легко находил, потому что, ни на секунду не переставая и сливаясь одна с другой, полыхали во все южное небо, точно дышали, точно сжимались и расширялись дальние голубые молнии. И так же непрерывно рокотал где-то под землею сдержанно глухою угрозою далекий гром. И вдруг совсем близ меня ослепительно разодралось небо черными зигзагами, и оглушая трахнул сухой гром. Это странное явление повторилось еще пять или шесть раз, вселяя в меня дикий ужас.
Повторяю: на колыхающейся бледно-голубой завесе дальних молний эти молнии были черные, хотя и ослепляли. Конечно, это был оптический обман, объяснить который я не умею. Старые лесники, живущие в низинах, подтверждали мое наблюдение…
Я спросил бы еще: многие ли видели волка, бегущего на свободе вверх ногами, вниз головой? Я думаю, что не очень многие. Мне это пришлось увидеть всего лишь раз в жизни.
Я тогда обмерял для нескольких волостей Зарайского уезда площади крестьянских лесов. В каждой деревне ко мне прикомандировывали нескольких мужиков. Они таскали за мною цепь, треногу и аппарат, втыкали вешки, куда я им указывал, обрубали мешающие ветки и так далее. Работа моя была самая пустая: обход площади. Ее легко можно было бы делать простой компасной съемкой, и мне даже было стыдно, что за неимением компаса я работал с таким тонким, прекрасным инструментом, как теодолит, да еще изделия самого господина Цейса.
Стояла ясная, холодноватая и в лесах такая ароматная осень.
Выдался однажды прелестный золотой денечек. Я расставлял вешки по одной стороне молодого липового леска, который почему-то назывался «Зиньтабры». Вдруг мои мужики закричали:
– Волк! волк!..
Они показывали пальцами куда-то далеко, далеко и неопределенно, туда, где лежали желтые и синие осенние нивы и изредка торчали кустики. Я с трудом увидал, наконец, крошечное пятнышко, которое медленно двигалось по горизонту. Мне все-таки удалось поймать его в визирную трубку довольно скоро. Удивительное зрелище: матерый, бесшеий, толстохвостый, бурый волчище тряской, собачьей рысью бежит по воздуху вниз головой, ногами вверх… Небо у него под головою, а земля упирается ему в ноги. До него было версты, пожалуй, три. Но чудесный теодолит приблизил его сажен на сто. Поворачивая винтик визира, я успел показать волка мужикам. Они дивились, смеялись и хлопали себя ладонями по ляжкам.
Я мог бы без конца говорить о моих необыкновенных встречах, приключениях и наблюдениях: о доменных печах и о шахтах почти в версту глубиною, об аэропланах и водолазных скафандрах, о необыкновенном уме животных и об этом загадочном существе, человеке, размах которого так велик, что порою падает ниже гиены, а порою взлетает на высоту почти божественную. Но сегодня, перелистывая страницы моей памяти, я в них ничего не нашел новогоднего, кроме одного маленького рассказа. В нем, правда, нет ничего волшебного, необычайного, сверхъестественного или трогательного.
В нем одно достоинство: то, о чем я в нем говорю, действительно произошло под новый 1898 год в городе Киеве.
Я в тот год работал в газете «Жизнь и искусство». Писал повести и рассказы. Моя изящная литература была в сущности для этой газеты, которая медленно, но верно умирала, чем-то вроде камфары или соляного раствора. Гонорара мне давно уже не платили. С полгода назад редактор подал мне светлую мысль:
– Разыщите где-нибудь объявление. Плату за него вы возьмете себе, а мы такую же сумму спишем с нашего долга.
Раза три эта веселая комбинация мне удалась. Потом пошло хуже. Клиенты мои стали предлагать очень низкие цены, да при этом еще платили не деньгами, а своим товаром, натурой. И вот что случилось: я щеголял в шикарном блестящем цилиндре, между тем как мои ботинки просили каши, или раздавал всем своим знакомым в подарок патентованные зубные щетки или несравненную пудру «Трефль Инкарна» в кокетливых коробочках. Оскорбительнее всего был тот случай, когда похоронное бюро предложило мне за объявление кредит в своем торговом доме. Кому я мог бы предложить такой сюрприз?
Редакция уже давно была должна мне около сорока рублей (считая по две копейки за строку). Почему я не уходил оттуда? не понимаю! Может быть, из рыцарского чувства, может быть, просто по упрямству, а пожалуй, от лени.
На встречу Нового года я был заранее приглашен знакомым нотариусом с Подола. Я часто бывал у него, запросто, по вечерам. Учил его детей Юру, Илюшу и Сашу фехтованию на рапирах, а также охотно дрессировал их превосходного белого пуделя Мухтара. (Я никогда потом в жизни не встречал другой собаки, которая бы с такой жадностью ловила уроки.) Нотариус, бывший правовед, угощал меня плохенькой марсалой и читал мне вслух французские стихи, которых я совсем не понимал.
Но как пойдешь под Новый год в большой, ярко освещенный дом, где мужчины во фраках, где женщины прекрасны и блестящи, где тебе поневоле кажется, что самое пристальное внимание всего общества обращено исключительно на протертые и заплатанные места твоего жалкого туалета, где сидишь за столом, спрятав поглубже руки и ноги.
Я написал вежливый отказ; сам снес конверт на Подол и сам просунул его в дверь нотариальной конторы.
Весь день я ходил, посвистывал и утешался отрицательной философией:
– Новый год. Что за предрассудок? Чему радоваться? Чего ждать? Все равно каждый человек с момента рождения уже приговорен к смертной казни. Почему же все люди не сходят с ума при мысли об этой обреченности? Не одно ли и то же ждать рокового момента восемьдесят лет или два дня? В бесконечности времени и оба срока одинаково ничтожны.
Однако на всякий случай я все-таки пошел на разведки в редакцию. Бывают же чудеса на свете. Хоть бы призанять у кого-нибудь двугривенный.
В редакции никого не было. В конторе светился огонь. Я постучал.
В конторе за зеленым столом сидела младшая дочка редактора, лет пять назад просто Тиночка, у которой я тогда в играх служил лошадью, иногда беговой, иногда скаковой, а теперь – милая пятнадцатилетняя толстушка Валентина Митрофановна.
– Ах, денег бы мне, прелестнейшая из барышень. Новый год идет.
– Я бы рада была, но, право же, в кассе ни копейки.
– Тиночка, поищите в ящике хорошенько. Может быть, какая-нибудь мелочь на мое счастье найдется?
Она вспыхнула до слез.
– Неужели вы мне не верите?
И выдвинула ящик.
– Смотрите сами.
Я посмотрел и увидел – о чудо! – целый десяток загородных семикопеечных марок!
– О, добрая Тина. Марки – это деньги. Поделитесь ими со мной.
– Вы смеетесь надо мною. Это нечестно.
– Милая, очаровательная Тина, я серьезен, как Дон-Кихот перед битвой. За каждую из этих марок я получу в любой мелочной лавке по шести копеек. Дайте, сколько вам не жаль.
– Вы человек без совести! – сказала Тина с горьким упреком. – А еще я вас считала за друга. Берите все.
Я от души пожелал ей гору счастия в будущем году и побежал в ближайшую лавчонку.
Вечером я пообедал, как Лукул, в «Злой яме». Так назывался подземный трактирчик на углу Крещатика и Фундуклеевской улицы. В этом кабачке, сидя за столом и задрав голову кверху, посетители могли при старании видеть лишь узенький кусочек высокого тротуара и бегущие по нему сапоги, башмаки и туфельки. Здесь даже и летними днями горели лампы. Посетителей в этот день было очень мало, да и те скоро разошлись. Остались только я да еще какой-то неизвестный мне человек с видом печального какаду, сидевший рядом со мною.
Часам к одиннадцати толстый хозяин кабачка присел за наш стол и даже пригласил сесть своего жирного мопса – почесть, которую он оказывал только самым любимым посетителям. Подсела также его буфетчица – огромная немка Лиза, которую все мы звали «Пферд» [9]9
Лошадь (от нем. pferd).
[Закрыть], на что она совсем не обижалась. Хозяин, Нагурный, потчевал нас пуншем. Он познакомил меня с унылым соседом. Он был хозяином маленького паноптикума, помещавшегося в этом же доме, в первом этаже. Тоскливо тянулось время, а когда оно подошло к полуночи и часы зашипели, я достал блокнот и написал на нем, по старому обычаю: «Господи, благослови венец лета благости твоея на 1898 год».
Нужно было бы еще сюда приписать какое-нибудь заветное желание, но я не нашел ни одного. Оттого, вероятно, и весь этот год у меня был такой прескверный.
Выходили мы вместе с какаду. Когда мы вылезли из подвала, он сказал мне:
– Пойдем на мой паноптикум. Я буду вас угощал с венгерским вином. – Бог его знает, какой он был нации.
Я согласился. Мы поднялись на несколько ступеней. Он открыл дверь ключом и засветил огарок свечи.
– Идите за мной. Я сейчас зажгу лампу.
Я, следом за ним, вошел в очень большую темную залу. Скудный свет огарка метался и прыгал по стенам, и какие-то призраки теней дрожали, качались и падали между полом и потолком. Мне стало томительно скучно. «Зачем я сюда полез, в самом деле?»
Зажглась лампа-молния, и я увидел себя в обыкновенном музее восковых фигур. Лежала мертвая, невздыхающая Клеопатра, и тонкая змейка неподвижно уткнула тонкую голову в ее красный сосок. Недвижимо окаменела в беге огромная волосатая горилла, держа на плече точно окаменевшую полуголую женщину. Со всех стен мертво таращились на нас из-под стеклянных колпаков знаменитые люди, убийцы, императоры, политики, все сплющенные, скошенные набок от жары и небрежной перевозки. Какие-то банки с уродами на столах. Мне стало неприятно, почти жутко, пожалуй, я лучше чувствовал бы себя в морге. В морге все ясно: «Вот лежат бесчувственные предметы, бывшие раньше людьми». А тут как будто бы заснули странные мертвые существа, которых каждый день пробуждают к мертвой механической жизни. А вдруг они видят сны?
Хозяин пришел с двумя стаканами и поставил на стекло витрины.
– Хрозит! Хох! Нейяр! [10]10
Ваше здоровье! Ура! С Новым годом! (нем.)
[Закрыть] – воскликнул он громко, и какие-то шелестящие голоса в ответ ему зашуршали по залу. Я чокнулся с ним. Вино было в самом деле превосходное. Но больше одного глотка я не мог сделать. А вдруг оно из древнего саркофага?
– А теперь, – сказал хозяин, – пойдемте. Я буду вам показать самый замечательный… О, это гвоздь моего музея, это его центр, это настоящий хозяин паноптикума. Это сам Фердинанд.
Ведя меня, он продолжал говорить:
– Он мудр. Он знает все: и прошлое и будущее. Он работал еще с моим дедушка в музее знаменитого Барнум. Сколько ему лет? Вы скажете сто, двести. А я скажу, что, может быть, и две и четыре тысячи. О! Это Фердинанд!
Он присел на корточки перед большим ящиком, окутанным байковыми одеялами, и стал бережно развертывать материю. Я заглянул в ящик. Сначала мне показался там какой-то масленый, матовый, темный блеск, потом зашевелилось что-то живое. Наконец из ящика вытянулась узкая плоская длинная голова.
– Змея! – воскликнул я с отвращением.
– Змея! – передразнил меня хозяин. – Есть много людей, но король только один. Есть много змей, но выше их всех – боа констриктор. Это Фердинанд. И больше не надо никаких слов! О мой сынока, о мейн гросс-папа, мон пети и жоли! [11]11
О мой дедушка, мой маленький и красивый! (нем. и франц.)
[Закрыть]
– Молодой человек, – продолжал он, – вы видите на этом стуле клетку с кроликом. Это новогодний подарок моему сокровищу, моему красавцу Фердинанду. Сейчас я буду его кормить. Вы увидите самое трогательное в мире зрелище.
Вид огорченного какаду совсем сошел с лица моего собеседника, глаза его были полны нежной ласки. Мне большого труда стоило отказаться от его любезности. «А что, – опасливо думал я, – вдруг ему придет в голову угостить своего божественного удава ради праздника лакомым блюдом из молодого человека двадцати восьми лет?» Вот уж где следы преступления будут надежно спрятаны навеки.
Но зачем дурно думать о людях. Этот сумасшедший хозяин самым учтивым образом проводил меня не только до дверей, но даже и до улицы.
На прощанье он крепко пожал и потряс мою руку.
– Заходите, мой друг, на мой паноптикум хоть каждый день. Вход для вас всегда будет без плата. И если приведете с собой вашу красивую возлюбленную, то и ей тоже одна контрамарка.
Мы простились. Но, – силы небесные, – с какой радостью я глядел на ночное небо, и на свежий снег, и на уличные огни. И с каким наслаждением вдыхал прекрасный, сладкий, чуть морозный воздух.








