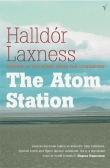Текст книги "Исландия"
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Александр Иличевский
Исландия
Авторский сайт Александра Иличевского – https://www.ilichevsky.com
Редактор Анна Матвеева
Издатель П. Подкосов
Продюсер Т. Соловьёва
Руководитель проекта М. Ведюшкина
Арт-директор Ю. Буга
Дизайн обложки Н. Теплов
Корректоры О. Петрова, Е. Рудницкая
Компьютерная верстка А. Фоминов
В оформлении обложки использована фотография Александра Бронфера
© А. Иличевский, 2021
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2021
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *

Посвящается Алёне Романовой
Глава 1
Странник
Мой первый алхимический опыт был основан на рецепте теста на опаре из «Книги о вкусной и здоровой пище». Вместо дрожжей я использовал чайную заварку, в кастрюлю сложил понемногу все имевшиеся в доме продукты, начиная с крахмала и продолжая уксусной эссенцией. Мне было двенадцать лет, и бабушка Сима, у которой я в то время жил, уже не знала, что ей делать с моей страстью к опытам. Было это мне на руку, поскольку она не смела задерживаться на работе. Но вскоре я нашёл себе занятие почище кулинарии и менее затратное – в моём распоряжении оказались «Малая история искусств», «Дон Кихот» и том ободранной «Детской энциклопедии», начинавшийся с буквы С статьёй «Скорпион». Нынче я по-прежнему ценю бессмысленные сведения и знаю, что бедуины по всей пустыне, на краю которой я теперь живу, ищут чёрных скорпионов, чтобы высушить, смолоть в порошок и, смешав его с табаком, выкурить эту ядовитую пыль. Теперь я знаю, как крем попадает в трубочку эклера, теперь мне не придёт в голову, как тогда, облачиться в тогу, свёрнутую из простыни, и, взяв в руки веник и крышку от кастрюли, перед зеркалом изображать Персея с головой горгоны Медузы. Как же меня очаровывали крылатые сандалии, с помощью которых можно было летать и спасти Андромеду. Теперь я живу неподалёку от тех скал, что были жертвенником Левиафана, теперь мне Дон Кихот не кажется чудаком. А тогда кастрюльку с «опарой» я спрятал под кровать, где, был уверен, живут гномы, и они уж точно поработают хорошенько над закваской. И достал из серванта, где хранились бедные семейные реликвии, прадедовы часы. Карманные, с цепочкой, они не ходили, но я воображал, что с их помощью можно путешествовать во времени на небольшие расстояния, особенно в пасмурную погоду, когда незаметно склонение солнца. Часы эти были настоящей машиной времени, потому что было достаточно прокрутить минутную стрелку на пять, десять минут, как я слышал звук поворачиваемого английского замка. О, этот мягкий треск вставляемой ключной бороздки, возвещавший приход бабушки. Я и сейчас слышу его, но где-то далеко, там, где от поворота ключа становится щекотно сердцу…
С детства я был близорук, очки сначала не носил вовсе или носил для особого случая, например для похода в кино, вот почему мне всегда были интересны задние планы картин, детальность которых утверждала прозрение, торжество истинности над размытостью, туманом недосказанности, отгадки над тайной. Поиски провидения с помощью искусства после вызывали во мне тихое ликование, а Тиресий, лишённый зрения в обмен на дар пророчества, напоминал художника, который щурится при взгляде на горизонт и уверенными мазками выписывает не только покрытые толщей рассеянного света сады, но и в их глубине – собачку, тянущую с пикниковой скатерки окорок. На картинах меня увлекал задний план больше, чем передний, вероятно потому, что детали вообще обладают сокровенностью, выпестованной вниманием и воображением.
По ходу дела я изобретал свои подручные способы улучшить зрение, все они сводились к тому, чтобы смотреть сквозь суженное поле зрения, например вприщур или через дырочку в сжатом кулаке. Несложный оптический эффект камеры-обскуры вычитáл пару диоптрий из искривлённого хрусталика, и буквы, написанные на школьной доске, становились чётче. Подслеповатость моя, добавлявшая неуверенности в преодолении пространства, приумножала увлечённость, с которой я этим занимался. Всегда было интересно стремиться в даль, чтобы превратить её в близость, например войти в видневшуюся у горизонта облачком дымчатой зелени рощу, дойти до одиноко растущего на холме деревца, пересечь поле, достичь стогов и стаи перелетающих пашню грачей или спуститься зимой с клюшкой наперевес и коньками на шее в засыпанный снегом по макушки осинника затопленный карьер, где на самом донышке расчищен пятачок зеленоватого льда, на котором мальчишки рубятся в хоккей. Даль с помощью пытливости и любопытства преодолевалась когда-то и библейским Енохом, для которого попадание на небеса, где архангел Метатрон показал ему многие тайны мироздания, стало выражением пристальности, телескопической приближённости, попаданием в метафизический задник: Енох первым из смертных узнал, что звёзды не точки на небосклоне, а обладают протяжённостью, подобно «огненным горам». Помню раскидистую черёмуху над железнодорожной насыпью, царство белого цвета, если всматриваться, стоя поодаль. Мы приблизились, чтобы наломать домой букеты, и в этом невестином тереме застали парня с девушкой, оба скинули рабочую одежду, после того как сели выпить, закусить на газетке, их пронзительная нагота стала откровением.
В левом верхнем углу «Поклонения волхвов» Джентиле да Фабриано, если преодолеть насыщенные передние планы, заполненные фигурами и лицами, рассказать о которых не хватит бумаги, можно разглядеть трёх робких от усталости и потерянности магов, взобравшихся на вершину горы, чтобы узреть невидимое великое – Рождественскую звезду. Однажды я провёл два дня подле этой горы, на окраине Иерусалима, близ Вифлеема. Мне нравилось выйти ночью из палатки покурить, глядя на горный абрис, подле вилась древняя дорога, на которой у Марии отошли воды, и она поспешила обратно к жилью. Да Фабриано никогда не был в Святой земле, к его рождению Крестовые походы завершились, но в Европу были завезены рисунки, описания, и неудивительно, что Иудейские горы он изображал с точностью, не говоря уже о выразительной группе людей, приветствующих рождение Христа, где каждая фигура – характер, добавьте сюда ещё сокола, коней, мартышек, льва, собак, какого-то паренька со стёртым безглазым лицом, шарящего руками по земле, не то из преклонения, не то обронил что-то. Так исполнилось давнее моё подспудное желание – оказаться внутри картины (и не только метафорически), с предельной степенью близости – на заднем плане Ренессанса. Благодаря этому осознанию вся реальность для меня с некоторых пор проглядывает будто в щёлочку, складываясь, подобно мозаике, но не калейдоскопу, из осколков полей зрения предельной чёткости, каждый из которых вроде бы обыкновенный камешек, но вместе они изображение. Всё, что я вижу вокруг, я верю (а наш зрительный аппарат большей частью основан именно на доверии к способностям разума), – это содержание заднего плана полотна времени, прописанного с помощью, например, Джентиле да Фабриано до последней чёрточки.
Есть ещё один задний план, который интересует чрезвычайно, тот, что за спиной «Странника» Босха, хотя, конечно, весь Босх – это сплошной сценический задник «Божественной комедии», как кажется, особенно «Ада», который интересней, конечно, «Рая», потому что больше походит на нашу, во всяком случае, на мою жизнь. Задний план «Странника» потому интересен, что главный герой не только метафорически, но и портретно напоминает моего прадеда, Иосифа Розенбаума, о котором я часто думал в Берлине – в период, когда решил начать эти заметки, а именно после смерти бабушки Симы, его дочери.
Жизнь прадеда, точнее, то, что я о ней знаю, кажется скудной на события, зато первая её часть полна скитаний. Он родился в 1887 году на западном берегу Каспийского моря, приобрёл профессию часовщика, женился в 1914-м, а в 1916-м для того, чтобы избежать призыва на поля сражений Первой мировой войны, нелегально пересёк границу с Ираном. Блудный сын, путник, пилигрим, торговец вразнос – эти образы волнуют недаром, поскольку сам земной путь – странствие человека от рождения до смерти, а потому понятие о страннике имеет значение в мифологии жизни. Полуразрушенная таверна, мужчина, справляющий нужду за углом, парочка любовников в дверном проёме, любопытная женщина, выглядывающая из окна с выбитыми стёклами и оторванными ставнями, не странника ли поджидает она. Путник колеблется в нерешительности, полуобернувшись к таверне с почти страдальческим лицом. Странствовать – менять пространство, страны, стороны света, оказываться в странном положении, отстраняться, именно этим занимается путник на дороге, ещё не ведающий, где придётся заночевать, кто пустит его во двор или в хлев, а если зима на дворе, в сени.
В определённом возрасте странствия перестают быть пищей воображения, и я находился на пороге вступления в такой период, когда в ноябре 2015 года прилетел в Берлин, приняв приглашение пожить месяц в старом доме на берегу озера Ванзее. Самолёт приземлился после захода солнца, автобусом я добрался до электрички и сел в вагон вместе с двумя восточными мужчинами, смешивавшими в своей речи фарси и русский. Я приметил их ещё на платформе, один из них был слепец, с палочкой, движения неуверенные, на переносице непроницаемые очки, они сначала о чём-то толковали оживлённо, замолкли, и после паузы слепой сказал поводырю по-русски: «Говори, ты должен всё время со мной говорить, чтобы пробиваться ко мне в темноту, в которой я сижу». Затем эти двое делали пересадку на Потсдам, шли по платформе, и слепой спрашивал: «Мы на Ванзее? На Ванзее?» Эта картина со слепцом в пустом почти вагоне, движущемся сквозь непроглядный лес Грюневальда, кажется мне сейчас источником воспоминаний не только о той первой ночи, проведённой на берегу загадочного озера.
До усадьбы, где проживали участники Литературного коллоквиума, было рукой подать, но в аэропорту я потянул спину, неловко схватив чемодан с транспортёрной ленты, так что кое-как доковылял до ворот, у которых убедился, что роуминг на моём телефоне не работает и, значит, цифровые коды от калитки, от парадного и небольшого сейфа с ключом от моей комнаты совершенно недоступны, включая вайфай, работавший в доме. Я прохаживался у забора, тщетно пытаясь привлечь чьё-нибудь внимание, поскольку к полуночи ни одной живой души в той местности не обнаружилось. Казалось, я приехал в пустоту, и это чувство сопровождало меня всё остальное время, когда я уже не удивлялся, почему в восемь вечера на улицах не встретить ни одной живой души. Из беспомощности я отправился на станцию, но и там было негде прикорнуть – платформы пусты, каждый уголок вокзала продувался, так что пришлось вернуться, перекинуть рюкзак через ограду и приблизиться к дому вплотную. Я стучал в окна и дёргал ручки застеклённых дверей – напрасно, никто не отзывался. Делать было нечего, и я спустился на берег озера, чтобы найти кучу собранных, но ещё не сожжённых листьев, в которые я зарылся, вынув предварительно из рюкзака бутылку виски. Я лежал в перине из опавшей листвы и смотрел на противоположный берег, где среди огоньков фонарей были и те, что освещали парк перед виллой «Марлир».
Я достал заветные часы прадеда, оставшиеся мне после смерти бабушки вместе с альбомом семейных фотографий, и стал проворачивать минутную стрелку, как я делал это в детстве, – прокручу на десять минут, подожду, прокручу ещё. Получив их спустя десятилетия, с часами я решил не расставаться, считая чем-то вроде амулета. Прадед прислал их своей дочери незадолго до смерти. Он был часовщиком, и, очевидно, эти часы были его рук делом, без надписи производителя, ходили ли они когда-то – неизвестно, на задней крышке была выгравирована надпись Ante Christum natum. Я полагал, что эти часы, как и в детстве, помогут терпеть, переносить неприятные ситуации. Кроме того, мне просто нравилось брать их в руки, словно я держал в пальцах волшебную линзу детства, те два года, что довелось мне прожить у бабушки Симы, пока родители разводились и разменивали жильё. Бабушка умерла в доме для престарелых, последние двенадцать лет никого не узнавала, не произнесла ни слова и вздрагивала, когда я осторожно прикасался губами к её щеке. Всё её имущество помещалось в фибровом чемоданчике, выданном мне патронажной медсестрой. Изнутри он пах хозяйственным мылом и истлевшей бумагой. Это был единственный багаж, с которым Серафима когда-то переехала в «стардом», как она его называла, и содержимое чемодана – старые фотографии, газетные вырезки, ветхий, зачитанный номер «Нового мира» с «Одним днём Ивана Денисовича», несколько писем и пачка патентов прадеда, в которых мне ещё предстояло разобраться, – всё это находилось последние месяцы у меня в рюкзаке, который я, засыпая на берегу Ванзее, положил себе под голову, размышляя о том, что я вижу, глядя в кромешную озёрную тьму.
Есть такие события, которые уничтожают место, не оставляют от него ни клочка, одну географию. Вот и я тогда оказался на краю такой странной воронки, водная преграда перед которой представала словно бы порогом в преисподнюю. Всё вокруг было в высшей степени ухоженным – респектабельные дома, озеро, парк, лодочная станция, пристань, неподалёку могила Клейста, – и где-то там, всего в километре, 20 января 1942 года сидели за столом люди, принявшие тогда решение об уничтожении миллионов других людей.
Ночь была тьмой непреклонна, и, если бы не бутылка Laphroaig, она бы не только не приобрела смысла, но никогда и не кончилась. Силясь задремать, я вспомнил, как в прошлый свой приезд в Германию ехал поездом из Мюнхена на юг в компании немецких филологов и переводчиков. Вот мы миновали озеро, где утонул Людвиг Баварский, прославленный много чем и когда-то ходивший в горы созерцать альпийский ландшафт, покуривал опиум в уединённой хижине над пропастью, возлежа среди персидских ковров, в то время как его свита и поклонницы поджидали в отдалении, например в замке Эльмау. Поезд петлял и карабкался, и вскоре появились вокруг горные вершины, заснеженные, скалистые. Я удивился вслух, ведь всего ничего – только час пути от города, а вот и настоящие перевалы, и спросил своих спутниц, мол, вы, наверное, часто ходите в горы, почти каждые выходные? «В нашем кругу это не принято, – ответили мне, – потому что мы антифашисты, а нацисты со своим гиперборейством и культом альпинизма настолько дискредитировали горы, что нам туда путь заказан». Я едва сдержался тогда, но сейчас, на берегу Ванзее, глядя во тьму над виллой «Марлир», пришёл к выводу, что такой жёсткий подход осмыслен. Это при том, что среди моих визави были две девушки, мать одной из которых выучила иврит и прошла гиюр[1]1
Гиюр – обращение нееврея в иудаизм, связанный с этим обряд. (Здесь и далее, кроме особо оговорённых случаев, примечания редактора.)
[Закрыть], в то время как мать другой и слышать ничего не желала о Шоа[2]2
Шоа – катастрофа, бедствие еврейского народа, случившееся в результате политики уничтожения евреев нацистами.
[Закрыть].
Мне снова во время забытья привиделся Босх, его странник, а утром меня разбудила карканьем ворона на ветке над головой. Я едва продрал глаза, когда ко мне подошёл встревоженный сторож. Я не сразу сумел встать, очевидно, ночь, проведённая на земле, отозвалась в мышцах, и боль в спине схватила меня стальными челюстями поперёк туловища, так что какое-то время я сидел на корточках перед сторожем, перед зеркалом озера, не в силах произнести ни слова. Мне было почему-то стыдно, будто я был в корне виноват. Наконец я поднялся, сторож проводил меня и протянул ключ от комнаты. Не успел я завалиться спать, как постучалась девушка, координатор Литературного коллоквиума, которая выдала денег на месяц жизни.
Холодная ночёвка не прошла даром, к вечеру я проснулся под крышей дома, у порога которого провёл ночь, от боли, возникавшей в пояснице при малейшем шевелении. Кое-как сполз с кровати, на четвереньках добрался до стены, а по ней до туалета. Где-то на середине пути обратно у меня выступили слёзы, и я подумал, что это хорошо: в сущности, я забыл, когда последний раз плакал, а ведь всегда есть что оплакать. Вернулся я тем же путем и сумел оторваться от стены и упасть не на пол, а на кровать. Ничего не оставалось делать, как смотреть в потолок и в окно, в котором видны были покачивающиеся верхушки деревьев. В Берлине я был второй раз в жизни, я стал вспоминать, что запомнилось после первой поездки два года назад, и это оказалась пустота, в которой я очутился, когда добрался до Рейхстага и попытался представить, как здесь выглядел город во время войны в то самое мгновение, когда было водружено Красное знамя. Я вспомнил фотографию того же времени одного еврейского поэта в шинели и фуражке, капитана Советской армии, у Бранденбургских ворот держащего в руках голову Гитлера, чёрную, отломленную от статуи. Вокруг поэта раскатанная в прах и слякоть – машинами и танками – пустошь города. Внезапно я осознал, что боль наполняла меня, как эта самая пустота военной разрухи, теснила изнутри и снаружи, и тут я понял, что на сегодня назначены две встречи, отменить которые теперь было невозможно.
Одна встреча следовала за другой – с Елизаветой, литературоведом, которая хотела расспросить меня о чём-то для своей диссертации, другая – с журналисткой, пригласившей записать на радио интервью. Превозмогая боль, я приполз в пристанционное кафе, криво сел, достал часы и стал ждать. Елизавета явилась первой, поинтересовалась, что со мной, и, кивнув, стала спрашивать, а мне пришлось отвечать, хотя и сквозь зубы от боли. Мне не нравилось то, что со мной сейчас происходило, некое превращение в подопытного кролика. Я стал подкручивать стрелки часов. Вскоре в кафе пришла журналистка, Кристина, она заказала кофе и стала терпеливо его пить понемногу, покуда Елизавета разворачивала свою паутинную пряжу. Кристина быстро сообразила, что к чему, что меня корчит от боли, смастерила самокрутку и предложила выйти покурить. Я извинился, мы вышли, и через несколько затяжек боль отступила. Я вернулся и ответил на остававшиеся вопросы. После чего мы с Кристиной поехали на Берлинское радио. Мне показались забавными там допотопные лифты, похожие на выдвигающиеся спичечные коробки. Я вспомнил, как в такой пустой коробок в моём детстве мальчишки засовывали майского жука вместе со свежим листиком берёзы, и жук потом внутри таинственно царапался и грохотал, если приложить к уху коробок. В лифте я почувствовал себя таким жуком на пару мгновений, а затем мы шли по нескончаемому коридору, и Кристина вдруг указала на распахнутую дверь: «Вот кабинет Гиммлера». Она привела меня в одну из студий, отделанных деревом, я сел к микрофону и ответил на несколько вопросов, а потом на выходе Кристина мне шепнула: «Из этой студии Гитлер объявил войну СССР». И тогда я вспомнил, как она, когда мы с ней только познакомились, водила меня по Берлину и рассказывала, что в девяностых город был необъяснимо полон кроликов, скакавших в бурьяне между домами, не отремонтированными ещё с 1945 года, закопчёнными, изрешечёнными пулями; город отапливался углём и осенью тонул в дыму, смешанном с туманом. «И конечно, все вокруг в этих чёрных домах трахались, как эти самые кролики на пустырях. Поскольку в этой последней богемной столице Европы, на этом новейшем огромном «Монмартре» совершенно нечем было заняться, кроме как любовью и искусством», – объяснила тогда Кристина.
И в этот раз мне Берлин показался необычайно похожим на Москву, причём дело было не только в том, что оба города несли на себе отпечаток одной послевоенной эпохи. Вот почему Берлин мне показался неотличимым от Москвы, в которой также хватает социалистической панельной застройки. Это кроме того, что послевоенный период восстановления страны из разрухи, осуществлённый руками немецких военнопленных, наполнил СССР добротными, сложенными из известняка домами. Я провёл два года в таком доме на Апшероне, в доме, где жила бабушка Серафима.
Затем мы вышли из здания радио и пошли на бульвар под железнодорожной эстакадой пить вино. Холодный город наполнился стуком поездных колёс и ледяным белым вином, мы продрогли, и Кристина потянула меня куда-то за собой, скоро мы оказались в будке для моментальных фотографий, где стали греться собственным дыханием, постепенно развеселились, корча рожи, у Кристины это мило получалось. После мы забрали её сына из продлёнки, повезли его к отцу, с которым он не жил вместе с самого рождения, потом вернулись на Гейнештрассе, где в большой квартире на шестом этаже без лифта обитала Кристина. У меня опять заболела спина, не так сильно, как раньше, но всё-таки мне требовалось обезболивающее, и я его получил – викодин и хорошую порцию волшебной травы, после чего я снова пришёл в себя. Мне ещё в юности казалось, что существование суть степень уменьшения или усиления боли, просто лет до тридцати имелось больше сил такое переносить. Теперь же чуть что боль оформляет меня точно жука в коробке, вопрос ещё, насколько я громко царапаюсь и стучу лапками изнутри, или слышно меня, только если поднести к уху коробок. Понемногу спазмы отступили, и мы смогли заняться любовью. Поздно вечером у малахольного отца ребёнка Кристины возникли срочные дела, он привёз сына, и в полночь я возвращался на Ванзее со стратегическим запасом лекарства во внутреннем кармане, у сердца, так что, когда вышел к берегу озера, я чувствовал себя куда увереннее. Листья в парке вокруг усадьбы уже были убраны, хотя я не представлял себе, куда можно деть всю их массу, разве что сжечь, но ни кучки золы, ничего от костров не обнаружил. Я полежал, постепенно замерзая от сырости, в лодке, вытащенной на стапель, снова глядя на огоньки противоположного берега, и понял в какой-то момент, что именно так начинается моя маленькая новая жизнь.