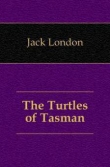Текст книги "Клянусь! (СИ)"
Автор книги: Александр Круглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
– А почему, – не унимались девицы, – ни всем троим сразу вручали свидетельства, а порознь, и не торжественно, не в большом парламентском зале, а в рабочей приёмной, втихую, чуть ли не скрытно? И мы, журналисты, только сейчас всё это от вас и узнаём.
– Да потому… Неужели не ясно, что не хватает ещё на российский престол претендентов от Романовых. Удивительно, что допустили хотя бы вручение царёвых грамот, предоставили для этого приемную Верховного Совета. Вот он, вручённый мне документ, – протянул я его журналистам. Первой его ухватила блондиночка.
– Читай, – приказала брюнеточка, старшая.
– «Российский императорский дом, – зазвучали первые слова из свидетельства. И дальше: – Круглов Александр Георгиевич… Его императорское высочество Великий князь Николай… Тут следует его личная подпись… Красивая, чёткая, – прокомментировала блондиночка. Но дальше уже прочла всё остальное без остановок, стремительно: Легитимная Российская империя. Зона действия международного права. Удостоверение № ИК 105 ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Собственного Его Императорского Высочества Конвоя. Имеет статус дипломатической неприкосновенности и право выезда за границу под государственным флагом Российской империи. Всё, – закончив читать, выдохнула удовлетворённо блондиночка. – Дальше только «Личная подпись – А. Круглов».
– А ну-ка, – потребовала удостоверение старшая. Внимательно рассмотрела его. – А теперь твоя очередь, – обратилась она к оператору. – Переписать, переснять. Все слово в слово. Не забудь и обложку. – И пока дело делалось, прямо в лоб спросила меня: – Ну и как этот экзотический документ вы расцениваете? Да и вообще это всё? – вскинула копну роскошных смоляных волос, уставилась с любопытством на меня.
– Я-то?.. Да тут всё, по-моему, ясно…
– А всё-таки?..
– И российский императорский дом с наследным Великим князем Николаем, как и Сажи Умалатова со своим недобитым Президиумом Союзного Верховного Совета, впрочем, как и все иные такие же «бывшие», чем-то, может, и легитимны, но практически виртуальны и реально мало что значат. Отсюда и их генералы, и сам император – безвластные, безоружные и без армий, они тоже виртуальны, бутафорны, сомнительны, как отныне и я в их числе. Но, получив почётные звания, мы ведь не забросили свои разнообразные русские, российские патриотические дела. Напротив, впрягаемся в них с удвоенным рвением. Воодушевляя на то и других. Вот как я к этому всему отношусь. Так что внезапное моё генеральство, как бы там ни было, нужно непременно обмыть. – И полез в холодильник.
За парой бутылок шампанского интервью журналистов со мной затянулось. Захмелев, коварно прищурясь, задала мне свой любопытный вопрос и блондиночка:
– Многие всю жизнь проживают с тоской по какому-либо таланту, умению… Книгу о чём-то особенном хочется им написать или по-новому, по-своему исполнить «Аппассионату» Бетховена, а то и вовсе лётчиком, космонавтом взмыть выше всех в небеса. Сдаётся мне, что и у вас что-то подобное есть, – и игриво пригрозила мне пальчиком.
– Есть! – так же чуть задорно, полухмельно выдал неожиданно я. Блондиночка вскинула удивлённо глаза, на мгновенье застыла.
Чуть опешил от своего же собственного признанья и я.
– И что же? – спросила она. – Что же такого есть и у вас?
– Потребность есть, а таланта, способности – ноль. Умения нет!
– Какого умения? – вскинула бровки на меня и брюнеточка. – Что за талант?
– Певца… Петь… «Скажите, девушки, подружке вашей, – выпрямляясь поудобнее в кресле, взял вдруг я ровно, негромко, чуть выше, сильнее стал забирать: – Что я ночей не сплю, о ней мечтая, что всех красавиц она милей и краше…» А дальше и вовсе надо было круче ещё забирать. И не страстью только, не только душой, жгучим сердечным надрывом. А и голосом… Даже прежде всего именно голосом. А вот этого-то как раз я и не смог. Всегда не мог, не смог и теперь. И как внезапно запел, так же вдруг и замолк. И тут же признался:
– Хоть бы раз так исполнить это бельканто, как только Карузо и Шаляпин могли. Только бы раз, в самый острый момент! Половину бы лучших своих выступлений с трибуны за это отдал!
– О-о, это уже совсем интересно! – захлопала в ладошки блондиночка. – До личного, до интимного, похоже, дошло. Кто она, признавайтесь.
– Скорее всего, помощница новая ваша, кто же ещё? – решительно предположила брюнеточка, старшая. – Мариночка, так, кажется, вы зовёте её? Девчонка совсем, фигурка, мордашечка… Да такая любому мужчине, тем более вам, ваших лет, не только глаза – разум затмит. Говорят, стихи свои вам читает, чуть ли не с вами живёт. Будто приставлена к вам…
– Вот по таким-то как раз, кто всегда у вас под рукой, на глазах, меньше всего и страждет душа. Романсы поют о тех, кого рядом нет, кто далеко.
– Так кто же тогда? – добивалась блондиночка. – По ком же тогда такая тоска, что вы из трибуна готовы миннезингером стать?
– Считайте, что по идеальной даме, по незнакомке прекрасной, встреча с которой ещё предстоит. По ней-то самое замечательное бельканто в иные минуты так и рвётся у меня из души. А умения нет.
И всего удивительней то, что выпроваживая с этими словами теледесант, я и в самом деле ничего не придумывал: в сердце моём действительно уже назревало нечто такое, что при определённым образом сложившихся обстоятельствах и с учётом особенностей моего опыта, темперамента, нрава, словом, в принципе вполне могло очень заметно изменить мою жизнь.
ВИКА
Они пришли вместе – мама и дочь. Чувствовалось, мать предводительствовала, а дочь только держалась чуть сбоку и сзади от нее, не высовываясь и помалкивая. И настороженно присматривалась ко мне из-под русых кудряшек шустрыми, серыми с зеленцой глазами. И невозможно было отвести от неё своих глаз: с русской румяной мордашкой, с воспалёнными губками-сердечком, с остреньким задорненьким носиком. А уж обо всём её и данном природой, и подчёркнутом модой утончённом изяществе и говорить не приходится.
«Господи, прелесть какая! – так и зашёлся от всего этого я. Мать тоже была еще хоть куда. Одна фигурка чего только стоила. И всё-таки ни этим, ни голосом своим певучим и звонким, ни кокетством неудержимым и вольным не могла она восполнить всё то тайное, чистое, юное, что увядало уже у неё, но вовсю расцветало у дочери. – Сколько жe это им? Надеюсь, дочери исполнилось уже восемнадцать?». И спросил:
– И где же вы прятались до сих пор от меня? Что-то прежде я вас тут не встречал.
– А мы только недавно переселились в ваш дом, к нашему любимому депутату поближе, – обещающе глядя мне прямо в глаза, игриво пропела мамаша. А дочь как молчала, разглядывая из-под кудряшек меня, так и продолжала молчать – ни шелохнулась, ни пикнула. Зато разлилась вовсю сладостной патокой мать: и по телику меня смотрят всегда, и в газетах читают, а уж все книги мои и вовсе зачитали до дыр.
– Я ведь тоже натура не простая, а творческая – музыкантша, артистка, художница… И Викочка у меня… Она всё это тоже умеет, – похвастала доченькой мать. – Ну чего ты застыла, молчишь? Смотрю на тебя: молодая, красивая, дай Бог каждому хотя бы половину твоих дарований… А добилась чего? Работы приличной – и той никакой…
– Мама! – вдруг резко одёрнула её молчавшая до этого Викочка.
– Что, что, мама?
– А то! Ещё хоть слово – и я немедля уйду!
– Всё, всё, всё, – моментально запричитала, всплеснула руками мамаша. – Ухожу, ухожу. – Подмигнула заговорщицки мне, попрощалась и скрылась за дверью. А дочь вдобавок ещё и прихлопнула её поплотней.
Она, Вика, Виктория, Викочка, конечно же, не могла не видеть, не чувствовать моего восхищения ею, моего желания видеть и слышать её. И не только видеть и слышать… И, оставшись со мной одна, с глазу на глаз, без докучливой материнской опеки, охотно согласилась распить с кофейком коньячок. За рюмашкой рюмашка – и глазом не успели моргнуть, как покончили с ним. На столик водрузилась бутылка мадеры. Я всю жизнь и теперь неразлучный со спортом, всегда стараюсь не пить. В компаниях только демонстративно «поддерживаю». Так что эта бутылка и та, что водрузилась на столик за ней, приговорила своими усилиями опять же одна только Викочка.
«Вот это способности, – первое, что открылось мне в ней. – Я бы и половины не одолел».
Хорошенько захмелевшая, разгорячённая, развязавшая сама себя изнутри, она – слово за слово – стала вдруг свою душу передо мной изливать. Не день, не недели, даже не месяц, давненько, небось, всё это копилось, назревало в её сердце. И тут как раз я возьми, да и предстань у неё на пути. И разразилась она… И, восхищаясь ею еще пуще – её чистосердечием, открытостью передо мной, казалось, ещё ярче расцветшей в ней красотой, я так и ластился, льнул, порывался весь к ней.
– Потом, потом, – не прерывая потока девичьих пылких признаний, обид, хвастовства, продолжая потягивать из бокала теперь уже «сухаря», и голосом, и руками отбивалась она от меня.
– Прошу вас, потом… Всё, всё потом… Дайте мне вам всё рассказать.
Я впервые встретил такую неудержимую, неиссякаемую жажду исповедания, да к тому же совсем ещё юной, совсем ещё незрелой души, и потому не противился, а, как просила она, выжидал, слушал её и наслаждался, ничуть не меньше, чем, говоря, наслаждалась она. И знал о ней – в общих чертах – теперь почти всё. И в юношеском театре, и в клубах, на разных эстрадах навыступалась; в пионерских лагерях вожатой была; и будучи охранником российского оборонного комплекса, чуть ли не всеми видами стрелкового оружия овладела; успела полсотни парашютных прыжков совершить, а донорской кровью своей сколько русских жизней спасла…
Да, именно так с ней, наверное, всё и должно было быть: все её родные и близкие служили в российских военно-морских и лётных частях. И это всё мне чертовски нравилось. Как и то, что именно этим она передо мной гордилась и хвастала, старалась доверие моё заслужить. «А если, – мелькнула внезапная мысль, – вот так она изливается передо мной не только из девичьей, ещё пионерско-советской романтики? Зная меня, кто-то взял да и приставил вот такую Викулю ко мне?» Но восхищение, любопытство мои были сильней. Да и мне нечего было бояться, скрывать… И я только удивлённо спросил:
– Да когда ж ты успела это всё совершить? Сколько же тогда тебе лет?
– Двадцать четыре.
– Что-о? – раскрыл я в изумлении рот. – Да ты ещё школьница! – В какой уже раз оглядел её всю. – На выпускницу, не старше, тянешь.
Вика хохотнула:
– Да я три раза уже была замужем. С первым и не расписывалась. От второго дочь – Наташенька… Вот она-то у меня школьница, а не я.
Когда уже глубокой ночью, бережно заключённая мной в объятия, она – вожатая, донор, парашютистка, стрелок, отпрыск бравых русских лётчиков и моряков, жена трёх лихо, вздорно заброшенных ею мужей – вдруг сдержанно, беззвучно заплакала, уткнувшись мне носиком в грудь, я, казалось, её хорошо понимал. Другая в её-то возрасте волком бы от такой биографии взвыла. И я невольно, сострадая, стал поглаживать её своей тяжёлой ладонью по голове в золотистых кудряшках, по обнажённым плечам, дотянувшись, осторожно касался губами её намокших глаз, молча, ни слова не говоря, совершенно беззвучно, но ясно, чётко ощущая уже, что я теперь за неё в каком-то неожиданном, не очень покуда понятном мне, но, безусловно, ответе.
И чего же после этого всего удивляться, что уже ко всем следующим вечерам и ночам я с пленарок, комиссий и фракций парламента рвался поскорее в Севастополь, домой. Ничего нашего, принципиального пророссийского, русского, не включалось намеренно в повестку дня сессии. А на всякую там рутинную пустопорожнюю мелочёвку мне было плевать. Севастополь – не меньше – мне подавай! И я уже стоял на пороге, когда нежданно-негаданно нагрянувший ко мне в гостиницу журналистский десант пресёк мой отъезд к Вике, домой, в Севастополь.
Такой возможности выхода в прессу, на телеэкран я, лидер Российского народного вече Севастополя, ни за что, ни при каких обстоятельствах не имел права упускать. И, конечно же, не поехал, остался. И будь у меня хоть толика великого дара Карузо, то вырвал бы тогда из себя «Скажите, девушки, подружке вашей» – этот самый трепетный, самый зазывный на свете романс так, что не только бы гости, но и гостиница вся, весь сквер перед ней, всё вокруг сущее, тоже наделённое сердцем, душой, зашлось бы такой же любовной тоской, как и сам терявший голову депутат. И когда только в субботу, в выходной я, наконец, добрался до Севастополя, Вики нигде не нашёл. Она явилась лишь в воскресенье, к ночи, прихрамывая, с окосевшим прищуренным глазом, вся в синяках, вместо милой девичьей мордашки – маска-страшилка: и в подзорку не угадать своего.
– Где пропадала? – вырвалось в сердцах у меня.
– А ты? – вмиг отозвалась она.
– Ты же знаешь, в парламенте. А вот ты?.. Как ты могла?
– Что, что могла?
– А то!
– Того, что ты думаешь, не было. И быть не могло…
– Так я тебе и поверил!
– Да потому и избили, что не получили от меня ничего…
Больше об этом мы не обмолвились ни словом, нигде, никогда.
Около полумесяца пряталась, отлёживалась, постепенно приходила в себя она в моём доме. Пришлось взять в Симферополе в парламенте отпуск, чтобы ей способствовать в этом. Ближе друг другу, чем в эти дни, мы не были уже никогда. Слабая, беззащитная и зависимая, да ещё как бы и виноватая передо мной, она вся покорно мне отдалась. Я делал с ней всё, что хотел. Но и одного её слова, даже только намёка было достаточно, чтобы и я тотчас же бросился выполнять ее прихоти. И лишь одно во мне вызывало тревогу: уж слишком быстро росла батарея порожних бутылок под столом.
– Так я скорее верну себе прежний заманчивый вид, – глядясь в зеркало, ухмылялась она.
И впрямь, уже через часик-другой после очередного приёма на лице её не оставалось и малейшего алкогольного следика. Постепенно – быстрее, чем я себе представлял – куда-то исчезли и все следы избиения. И первое, куда мы с Викой направились вместе, – прямёхенько в загс. И вышли в скверик оттуда уже супружеской парой. На минутку-другую укрывшись с женой от свадебной свиты под сенью платана, я ещё раз поздравил её, расцеловал и сказал:
– Викуля, милая, ты знаешь, я тебе говорил, какая клятва на мне… У меня немало противников, а то и врагов. И они вполне теперь могут попытаться использовать против меня и тебя. Если не завербовали уже… Шутка, шутка! – поймав её настороженный, чуть даже испуганный взгляд, поспешил отреагировать я, улыбнулся заносчиво, осторожно щёлкнул её в задорненький носик. – Словом, Викуля, будь бдительна. Сегодня на свадебном алтаре ты поклялась мне не только в супружеской верности, но и во всей нашей жизни вообще. Если хочешь, то и в борьбе. Нашей, совместной – всех русских! – борьбе за попранное наше достоинство. Представляешь, – помогая уже и руками, и соответствующей, чуть ироничной миной на оживившемся сразу лице, начал я рисовать ей картину. – Я, твой муж, на баррикадах, а татары, бандеровцы, вся предательская российская сволочь на меня так и прут. Но у тебя же опыт спортсменки, охраны, всех твоих офицеров-родных… И ты тут же, вот как есть, в подвенечном наряде, все караульные пистолеты, карабины, гранатомёт на себя и с парашютом с неба – прямо на баррикады, на помощь, в объятья ко мне. И вместе мы расколотили врагов. Вот в чём ещё над свадебным алтарём ты мне сегодня клялась. А я, конечно, тебе. Дошло?
Свежеиспечённая жена от такой картины даже слегка ошалела, хихикнула, рассмеялась и давай хохотать.
– Смешно? – вовсю заулыбался и я. – А так, между прочим, или что-то подобное этому вполне может быть. У настоящей пары, в настоящей семье именно так, только так и должно как раз быть!
Вика перестала смеяться. Уставясь изучающим взглядом на меня, уже теребила пальцами мочку правого уха (так, о чём-то задумываясь, она поступала всегда).
В следующие дни в городе уже знали о моей женитьбе. Кое-что знали и о жене. Всякое судачили. В воскресенье на «посту правды и протеста» людей собралось больше, чем всегда. Мнения разделились: в семьдесят лет жениться на двадцатилетней… Да держал бы уж в любовницах, в секрете красотку свою и не позорился…
А какой тут позор? Дай бог каждому так, возражали в основном мужики. А сердобольные дамочки правильно подмечали: не только же сливки он с девки снимает, а расписался ведь с нею – ответственность за семью взял на себя, дочь её, падчерицу, и ту себе на шею повесил. И только отдельные активистки-сподвижницы, те, наверное, что самыми порядочными, принципиальными считали себя, угомониться никак не могли: мол, как же так, чтобы уважаемый лидер наш, преданный, умница такое легкомыслие мог допустить, чужачку почему-то какую-то взял, к тому же девчонку совсем, своих красоток будто бы нет? Словом, всем теперь ясно: не Севастополь, а бабы ему дороже всего. И грозились отречься от лидера своего, уйти в другие движения.
– Дуры вы, дуры! – зло сорвалось у меня с языка. – В лидерах своих вы меня чего держите? Ведь не как мужика… Я же совсем на другое вызвался вас воедино сплотить. Совсем на другое! Севастополь – вот что нам подавай! СЕ-ВА-СТО-ПОЛЬ! – решительно, жёстко отчеканил я им по слогам. – С этих позиций на меня и смотрите. И я, как Стенька Разин, за борт в набежавшую волну княжну брошу, если раньше сама от завышенных требований, от жизни такой не сбежит.
На следующий день я увёз жену в Симферополь, в гостиничный люкс, поближе к парламенту – своему месту работы. Дал при себе работу и ей – помощником депутата. Но почти всё за неё делал я сам. А в жилище нашем, в гостиничном номере, как и положено, всё делали горничные. За женой, таким образом, оставалась, не считая заботы о пище, одна-единственная, возможно, и главная – супружеская обязанность, которую она, как признавалась сама, в силу особенностей своего здоровья, привычек, характера большей частью и выполняла как обязанность, лишь иногда вспыхивая не только моим нетерпеливым и жадным, но и собственным сдержанным, но так и воспламенявшим меня, мои душу и тело огнём. Словом, не всё безоговорочно приемля в своей хорошенькой юной жене, я старался представить её куда более содержательной, надёжной и верной, чем она на самом деле была. Такой, какой я хотел её видеть, и внешне, и внутренне. Всё время я как бы подталкивал её к идеалу, как понимал его я, хотя и сам не очень-то смахивал на него. Ждали отдачи, успехов, совершенства от Вики, от её талантов, юности, красоты и многие другие. Хотелось, конечно, достичь идеала и ей. И, как могла, порывалась, тянулась к нему и она. Так сложилось, в стенах парламента и в депутатском и административном, и правительственном окружении, как всегда, после очередного торжества, юбилея тут же, в банкетном зале, а то и в каком-нибудь баре поблизости закипала вовсю вечеринка, вторая, ночная, жизнь народных избранников. Подвыпившая, всегда жаждущая себя показать, жена с ходу увлёкши меня, а то и сманив кого-нибудь из самых непоседливых, резвых депутатов, министров, военачальников, пускалась с ними в безудержный пляс, пыталась что-то популярное, модное спеть, завязать с кем-нибудь позатейливей, поострей разговор.
Рефат Чубаров – один из предводителей крымских татар, заместитель главы их меджлиса, с ухоженными смоляными усами, баками и бородой, по-восточному упитанный, холёный и барственный – в пляс не пускался, а вот однажды под самый конец вечеринки, подойдя ко мне, предложил:
– В обществе такой славненькой русской красавицы, – почтительно поклонился, кивнул он жене, – мы, досточтимый старейшина наш, – хитро улыбнулся мне, вгляделся в меня, – договоримся о самых острейших наших проблемах куда как глубже, скорей. Где продолжим, у меня или у вас?
– У меня, мой кабинет в двух шагах, за стеной.
Я слизнул со стола, что нравится Вике, водку, бутерброды, салат; Рефат, по неведению (но тоже, видать, для неё) – шампанское, коробку конфет.
Расставив всё это на подоконнике настежь раскрытого окна моего кабинета, мы начали разговор стоя, как на фуршете.
– Счастье крымских татар, – как всегда, настаивал я, – не с Украиной, не с Турцией, а с Россией, с русскими, с великим русским народом. За это давайте и выпьем. – Я только пригубил, аналогично поступил и Рефат, только Виктория Викторовна, наверное, за нас двоих осушила свою посуду до дна. Ничего не корча из себя, глядела в окно, выходившее в парк, и скромно помалкивала. И вдруг ни с того ни с сего, посередь разговора Рефат спросил у меня:
– Можно я поцелую её, красавицу нашу – вашу жену?
Я опешил: с чего это вдруг?.. И к чему?.. А если каждый начнёт целовать мою жену?.. И ответил:
– У неё есть своя голова… Спроси у неё.
– Разреши? – обратился к ней напрямую Рефат, даже уже развернулся поудобнее к ней…
Жене и мгновения хватило, чтобы всё разом смекнуть:
– Вот сюда, в щёчку, – и, развернувшись тоже к нему ближайшей щекой, чётко, указующе ткнула пальцем туда, куда и должен был угодить его поцелуй.
И угодил…
– Интересно, – тут же спросил у Вики Чубаров, – чем же это тебя наш старейшина взял? – Цепко взглянул на меня. – Небось, интеллектом?
– Это, между прочим, тоже немало, – отрубил я ему вместо неё, – интеллектом женщину взять. Но кроме интеллекта этого, есть у меня кое-что и ещё…
Викуля прыснула, ладошкой ротик прикрыв. Когда Чубаров ушел, сказала:
– Умный…
– Что ты имеешь в виду?
– Умнее других – хитрый, расчётливый, точный.
– Похоже, что так, – согласился я с ней. – Но лучше, пусть будет мудрый, хотя бы, как я. Тогда не будет нашим врагом.
Приближалась Пасха. Я с Викой и член совета российского вече Юрий Морозов с женой Таней договорились о совместном участии в ночном пасхальном обряде в Херсонесском храме и освящении там испечённых жёнами куличей. А до полуночи, до начала обряда, посидеть, повеселиться в баре на набережной. Как всегда, узнавая меня, к нам подходили соратники, единомышленники, просто знакомые, поздравляли, зазывали за столик к себе или, подсев за наш, раскупоривали свои бутылки. Когда спохватились, Вика изрядно уже набралась. Чтобы хоть как-то проветрить её, протрезвить, пошли в Херсонес пораньше, пешком. Но не одолели и половины пути, как на Пожаровской лестнице она улеглась на парапете. Пришлось всем троим её поднимать, а затем ещё остаток пути со всех сторон подпирать.
– Всё, отгулялись, Викуленька, – зная её, как можно посговорчивей, поспокойней объявил я жене, – в храм, на обряд не выйдет уже, не пойдём.
– Нет, пойдём! – вздыбилась сразу она.
– Да ты на ногах не стоишь…
– Всё равно! Поползу! – не унималась она. – Там священник… Справедливый, красивый такой, – пьяно пропела она. – Нам он куличи освятит.
– А прихожане? Их сотни, а то и за тысячу порой собираются в храме. Я же сколько раз тебе объяснял… Депутат же я, лидер движения, партии… Да меня в Севастополе почти все знают. И что? Круглов в храме на священном обряде с пьяной женой! Позор! – выдавил я из себя, начиная уже заводиться. – Всё, домой! Позора не будет!
– Нет, будет!
– Что-о?! – взвился, я. – Так это и впрямь твоя коварная тайная миссия? Задача такая – меня подставлять?
– А я и раньше такое слыхал, – признался вдруг Юра. – Александр Георгиевич, ходит такой слух…
В машину с расходившейся Викой брать нас никто не желал. Так её на себе до дома, на Репина, и дотащили. А на четвёртый этаж так просто уже волокли. Но и в квартире, в прихожей она продолжала взывать:
– В храм, в храм! Хочу в храм! – И когда уже на всю лестницу стала стонать: вот, мол, на Пасху её не пускают, что она свободная, куда хочет, с кем хочет, туда и идёт, и уже отовсюду сбегались соседи, я, не справляясь больше ни с ней, ни с собой, врезал ей пару отличных, вполне заслуженных ею затрещин. Юра с Таней, понимая, что настоящая схватка с женой у меня ещё впереди, подбодрив меня, тут же сбежали (и правильно сделали). И только когда я окатил ее ещё и ведром холодной воды, она, наконец, пришла как будто в себя. И первое, единственное, что, казалось, уже трезво и без истерики сказала она, было: «Я тебе этого никогда не прощу!» Обтерлась, высушилась, переоделась. Как всегда тщательно повозилась у трюмо над причёской, лицом. У двери задержалась на миг.
– Козёл! – бросила мне. И ушла в первый послеобрядный пасхальный рассвет.
Наступили майские праздничные и просто весенние дни. И на этот раз, как и в предыдущие годы, все – от самых правоверных проукраинских национал-коммунистов (Севастополь для них – Украина в союзе с Россией) и до самых крутых русских, и своих, доморощенных, и «нацболов», присланных к нам на праздник Лимоновым, – все высыпали на городскую центральную площадь справить один общий оппозиционный и патриотический Первомай. После митинга многотысячной людской волной прокатились по центральному городскому кольцу. А 9 мая, куда только не глянь, не выйди, не ткнись – всюду цвет, гордость нации – фронтовики, бронза, серебро, золото боевых геройских наград.
21 мая – дата из дат! – юбилей важнейшего Постановления расстрелянного Ельциным Верховного Совета Российской Федерации о Российском Федеральном статусе Автономной Республики Крым и его воссоединении с Родиной нашей – Россией. Чуть позже, 9 июля, – юбилей такого же важнейшего Постановления того же, расстрелянного Ельциным, ВС РФ – о Российском Федеральном статусе Севастополя. И в каждый юбилейный день Российское народное вече Севастополя и Севастопольская городская организация всекрымского движения избирателей под руководством отставного офицера российского Черноморского флота Юрия Бастрикова открыто, на весь белый свет заявляют: оуно-бандеро-руховские оккупанты, вон из российских Крыма и Севастополя! И призывают руководство и прежде всего президента России начать, наконец, воссоединение единой и неделимой России, её ныне разделенного великого русского народа. И хватит перед обнаглевшими незалежниками и самостийщиками заискивать. И коли те сами не возвращают нахапанного, напротив, ещё упорнее цепляются за него, надо принудить их вернуть наше.
Даже в эти напряжённые май, летнюю пору да и в начальные осенние дни в пылу лозунговых призывов, споров, борьбы, как обручами сковавших тогда всю мою жизнь, нет-нет да и выпадали недолгие промежуточки спокойного нейтрального времени, и обручи набитой порохом бочки слегка опадали и душу тогда трогало совершенно иное: глубинное, личное, сугубо своё. И прежде всего, конечно же, Вика – моя жена, наша первая с нею крутая размолвка, почти что разрыв. Сгоряча данная тогда ей мною оценка: истеричка, пьянчужка, засланка, – не оставляла, казалось, иного выхода, как развестись. Господи, какие решительность и прямота – развестись, разойтись, разбежаться! А чистоплюйство какое!.. А чем не бездушие, узость и слепота?.. И это всё я, я, я – писатель, лидер, вожак, ведущий толпы людей за собой… Толпы!.. А одну-единственную разнесчастную душу не смог за собой повести!.. Да чего после этого стоит твоё хваленое, более чем двойное превосходство в возрасте над совсем ещё молодой женой? Чего?.. Если опыта, если души и ума хватает у тебя лишь на одно – на развод? Да это же потеря, проигрыш, поражение обоих сторон, двух, ставших родными, людей… Особенно того из них, кто считает себя мудрее, надёжней, сильней… Вика тогда себя не считала такой. Напротив, в первый же день, в первую ночь отдала себя, вверилась мне и открыто, бессильно, безвольно расплакалась у меня на груди. Тогда уже ожидала получить у меня надежду, поддержку и понимание. А что получила? А я что хотел получить от неё? Что?.. Ничего ещё в неё, в её жизнь не вложив – ни нежности, ни забот, ни тревог… И капли всего этого в неё еще не вложив… А сам уже всё хотел от неё получить. Всё!.. Всю!.. Да, да, всю, такой, какой ещё только должен был сделать её для себя, для неё, для двоих…
Настенные часы размеренно, громко стали бить полночь. Я и подумать как следует ещё ничего не успел, как меня словно сдуло с постели, словно метлою смело. Через двадцать минут я уже пробегал мимо Графской. Ещё через двадцать последним катером добрался до Северной. Какой-то трактор с прицепом под виноград подбросил меня до Орловского моста. И всё, в это ночное время никаких машин больше не было.
Огни посёлка, где Вика теперь жила у мамы, сквозь предрассветную темень, туман все-таки пробивались кое-как до меня. И я пошёл прямо на них. Всё здесь многократно исхожено мною с ружьём, сколько зайцев, куропаток, фазанов настреляно… И с солнцем, величественно, красочно, ярко взошедшим над морем, я подошёл к знакомой двери. Тёща уже в бегах, жена ещё в постели…
– Прости, – склонившись над ней на коленях, утопая лицом в разметавшихся кудрях, шёпотом бужу её я. И покаяться как следует еще не успел, а уже неудержимо тянусь снова к ней.
– М-мм, – мычит, бодается, отбивается жена от меня.
– Интересно, – срывается с моих губ первый упрёк, – для кого это ты бережешь себя? – Учти, Викуля, пожалуйста… Долгу, клятве своей я не стану, да просто не смогу никогда изменить, даже ради тебя, – подвожу я итог. – И тебе в этом деле до конца надо тоже быть честной и смелой и не скрывать от меня, от мужа своего ничего. И не надо даже пытаться меня себе подчинить, не надо… Вот – болт! – решительно пересёк я в локте руку другой рукой. – Не выйдет из этого ничего. Только можем друг друга навсегда потерять. И не старайся мне мстить, и не пытайся – я на это моментально тем же отвечу! Так что давай-ка, Викуленька, относиться друг к другу и терпимо, и чутко, и бережно. И совсем, совсем не известно ещё, кто из нас незаменимей кому и нужней…Ох, не известно! Это знает один только Бог!
Я ТЕРПЕТЬ УЖЕ БОЛЬШЕ НЕ МОГ
Верховный Совет Автономной Республики Крым первого созыва всё ближе подкатывал к последнему своему рубежу. Оставалось ему меньше полгода. И каждый из депутатов, стремившихся продолжить свои полномочия и в следующем составе парламента, старался предстать перед избирателями повыгодней и поярче.
К этому времени властям – от местных и до киевских и московских – удалось подменить борьбу русских за воссоединение Севастополя, Крыма с Россией вторичным требованием: наравне с украинским предоставить на Украине статус государственного также и русскому языку. Обычный отвлекающий хитроумный манёвр: пожалуйста, добивайтесь, в конце концов даже и получайте, вот вам – государственный русский. Но смотрите, не вздумайте требовать прихваченной нами у вас, пусть даже и самой что ни на есть исконно российской земли. Не вернём. А тем более Севастополь, Крым. И нигде, ни с газетных полос, ни с телеэкранов, ни в эфире, ни даже с трибун не только центральных, но и местных парламентов, а также уличных и площадных трибун мы не позволим этому москальскому, имперскому требованию открыто враждебно звучать. А Российской общине, Русскому блоку Севастополя по этому поводу даже напрямую спустили запретный приказ. И всюду, и прежде всего именно в Севастопольском горсовете, в крымском парламенте, так называемые русские патриоты как раз только в новую эту дуду и дудели: только о русском государственном языке наравне с украинским (честь-то какая!) и ни слова о воссоединении Севастополя, Крыма с Россией. Как будто не ясно: да только так, воссоединившись с Родиной нашей, с Россией, мы, русские Севастополя, Крыма, и получим всё напрочь, надёжно, по-настоящему. Всё, всё, всё, в том числе и родной русский язык!