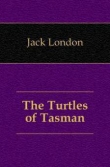Текст книги "Клянусь! (СИ)"
Автор книги: Александр Круглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Домой… Ха-ха-ха! – посмеялся на всю площадь я в микрофон. Бросил взгляд на часы. – В рабочее время, не спросивши у нас… Да немедленно вернуть его в кабинет – и на митинг, сюда! Кое-кто хохотнул, но жидковато. Не верила толпа, что мэр приедет из дома сюда.
Я предложил:
– Коли гора не идёт к Магомету, Магомет идёт к горе. Идём к Семёнову, к мэру домой! За мной!
И не шестьсот, как сказано в представлении прокурора, а половина бывших на площади, тысячи полторы-две самых решительных, отважных, выносливых двинулись с площади к дому Семёнова. И дважды – на выходе с проспекта на побочную улицу и уже перед самым домом Семёнова – гвардия эта грудью себе пробивала дорогу сквозь встававший перед нею спецназ. Он работал дубинками, а мы – кулаками, ремнями да древками от знамён. Кое-кого с обеих сторон окрасила алая кровь. Но прямо, честно скажу: её могло быть значительно больше, если бы нас было меньше, меньше за правду, за справедливость, за единую Русь, тех, кто двинулся тогда за мной к предводителю города. И ещё: ведь и менты, и спецназ были перед нами севастопольские, свои, знакомые многим из нас. А били нас прицельно, озлобленно лишь очень немногие из них: раз-два и обчёлся. Остальные, можно сказать, просто «держали нас в рамках», чтобы не вышли за них. А мы и не имели такой цели. У дома мэра, запрудив всю улицу, мы только взывали к нему, передавая из рук в руки два имевшихся у нас мегафона. И требовали, чтоб он вышел, хоть на балкон, выслушал нас и принял воззвание, в котором было изложено всё. Так и не вышел, улизнул от прямого давления тысячной толпы, от их живого прямого воздействия. Хотя несколько позже ему в машину была подложена бомба. И только чудом отделался ранами – остался живой.
Что касается представления прокурора Ивана Вернидубова, то прежде, чем рассматривать на пленарке, его сперва обсудили в постоянной парламентской комиссии по государственному строительству, законодательству, законности и правопорядку, в которой я состоял. Явился в комиссию и сам прокурор. Это случается редко, но прокурор настоял. Пышущий здоровьем, розовощёкий, с напряжённо любопытствующим выражением без единой морщинки лица, голубоглазый блондин уселся напротив меня. Нет-нет да и бросал внимательный взгляд в мою сторону. Я отвечал ему тем же. Разик-другой мы даже улыбнулись друг другу.
Своё представление читал он, не напрягаясь, ровно, спокойно, как для себя.
– Ну, что скажете? Что будем парламенту рекомендовать? – обратился ко всем нам председатель комиссии, когда прокурор закончил читать. То, что высказал каждый, в сумме выглядело так: Александра Круглова мы все знаем по совместной работе в парламенте не первый год. Он открыто, последовательно стоит за российские Севастополь и Крым. Взглядов устоявшихся, проверенных жизнью не меняет, почему и доверяем ему. Искренний, честный, правдивый… Резок, крут бывает, но справедлив. Каждому парламенту не мешало бы такого иметь. А ещё он старейшина Верховного Совета Автономной Республики Крым.
– Нет, – подвёл итог председатель комиссии, – мы его вам, уважаемый прокурор, не сдадим.
Прощаясь, прокурор никак не выказал, что недоволен. Мне последнему руку пожал. Чуть дольше, чем на других, задержал на мне взгляд, вроде пытаясь что-то во мне разглядеть, что-то понять.
Вслед за нашей комиссией ему отказал и Верховный Совет.
Но тем не менее из всех прокурорских представлений именно его, именно это я воспринял как предупреждающий важный сигнал. Его обвинения, и особенно обвинения заместителя генерального прокурора Украины, грозили мне не только отсидкой – почти десять лет, но и полной конфискацией за всю жизнь нажитого мною добра и прежде всего квартиры, конечно. И я поспешил подарить её младшему внуку. Так она и стала его, а я, смешно сказать, стал бомжем. Живу я теперь во внуковском доме, юридически – на птичьих правах. Но зато благодаря прокурорам, и прежде всего Вернидубову, в книге Гиннесса рекордсменом едва ли не стал. И, возможно, могу ещё стать. В общей сложности за восемь лет своего депутатства (двойного: и в Севастопольском городском Совете, и в Верховном Совете Автономной Республики Крым) прокуроры пытались лишить меня депутатской неприкосновенности более двадцати раз.
– Мне сдаётся, что в мире другого такого парламентария днём с огнём не сыскать, – хорошо знающий Запад, многие порядки в нём, Эдуард Лимонов озадаченно перебирал копии представлений, что прокуроры составили на меня. – По-моему, есть резон собрать и все остальные – и в книгу Гиннесса их. А вдруг и действительно вы рекордсмен?
– Времени нет. Да и знать надо, как это делать, с чего начинать. Найдётся, может быть, кто… Награда, гонорар пополам.
Вернидубова вскоре забрали в Киев на повышение – сперва областным прокурором, затем заместителем генерального прокурора Украины. Через пять лет он вернулся в Севастополь управляющим государственной налоговой инспекции города…
Однажды в моём доме раздался телефонный звонок:
– Здравствуйте, Александр Георгиевич, сколько лет, сколько зим? – донёсся до меня чей-то, уже где-то слышанный голос.
«Чей?» – лихорадочно пытался сообразить я, кого-то даже назвал.
– Нет, не угадаете, – и тот, кто был на другом конце провода, преставился: Иван Васильевич Вернидубов.
– Что-о-о? – воскликнул в удивлении я. – Вот это сюрприз! – Ну и, конечно, сразу же мысль: но он-то ведь больше не прокурор, налогом тоже ему меня не достать, нет налогового греха на мне – не бизнесмен. Закончился срок и моего депутатства, хотя вполне можно меня ковырнуть как председателя народного вече, которым снова переизбрали. И я спокойно спросил:
– И чего же вы ждёте теперь от меня?
– А ничего, Александр Георгиевич, действительно ничего. Разве только услышать о ваших регулярных поездках в Москву, бескорыстном, верой и правдой служении интересам России, союзе нашем с ней. Что, здоровы, всё как надо у вас?
– Нормально, – ответил я и невольно добавил: – Вашими молитвами, наверное.
– Вот именно… Кто же ещё знает, понимает вас лучше, чем мы? Как вы смотрите на то, чтобы нам встретиться?
– Нам? Встретиться?
– Посидеть, поговорить…
Я растерялся, ответил: – Да нормально…
– Тогда хоть сейчас могу машину за вами прислать.
– Спасибо, Иван Васильевич. Без нужды. Я ухожу на встречу с Пархоменко, с коммунистами. Закончится – и я сразу к вам. Вы же где-то там, рядом.
– Отлично, – согласился Иван Васильевич. – Даже лучше ещё: по окончании рабочего дня, без всяких помех.
Идиотская перестройка, бездумное попрание устоявшихся ценностей, повальная зараза предательства развели всех нас по разные стороны баррикад, поразбросали по всему белу свету, многих поиспоганили так, как и представить себе было нельзя. Но, так или иначе, оставались ещё и продолжают нас невольно скреплять некие глубинные неодолимые скрепы – русскость тысячелетняя наша, почти вековая советскость и даже уже миновавший, к счастью, первоначальный распад и развал – даже они за дюжину лет ничего не смогли с нами поделать, растворить, разложить. Словом, всё, всё это – наше общее российское, русское прошлое, настоящее, будущее, вдруг как бы опомнившись и воспряв, теперь взялись снова всех нас свести воедино. Свести и нацелить, настроить, организовать на утверждение новой победоносной тысячелетней России.
Встретил Вернидубов меня в своём кабинете. Протянул приветственно руку, улыбаясь, отметил:
– Хорошо выглядите. Помолодели. Так и дальше держать.
Но уж кто действительно помолодел, так это он сам: «прокурор» выглядел собранным, сбитым, даже надежней и крепче, чем при первой нашей встрече на комиссии в Верховном Совете пять лет назад. Лицо посвежело, подзагорело, щёки чуть налились, серо-голубые глаза вглядывались в меня внимательно и любопытно, похоже, пытаясь что-то понять во мне и без слов.
Пока мы вот так оценивали друг друга, обменивались приветствиями и любезностями, секретарша, до этого шнырявшая по кабинету туда-сюда, дала глазами хозяину знак, и тот предложил:
– Ну что, Александр Георгиевич, как положено на Руси, по чарочке. Нам с вами давно бы пора… Исправим сейчас. – И через потаённую дверь провёл меня в уютную небольшую камору, усадил за уставленный бутылками и яствами стол, уселся хозяином в кресле и сам.
– Что пьём? – перебирая бутылки, спросил Вернидубов. – Нашу русскую или… Вот, пожалуйста, немецкая, финская… можжевеловая, – приподнял он небольшой, витиеватой формы пузырь, – от макаронников…
– Нет, нашу, – отрубил тут же я, – лучше «столичную», да ещё бы прямо из первопрестольной.
– Ишь, губа не дура, чего захотел, – выдохнул из тугой молодцеватой груди «прокурор». – Может, ещё красной икорки, да сразу чтоб ложкою, – подначил легко, весело он. – Вы, как помнится, дальневосточник, с Приморья…
– Да, с Уссури… Уссуриец я – Дерсу Узала.
– Я даже по телику видел… Племянники ваши, братья да дядья – вся родня ваша и поныне все таёжные следопыты, охотники и тигроловы…
– Все – не все, но в каждом поколении обязательно кто-нибудь есть.
Разливая по рюмкам «столичную», Иван Васильевич с гордостью вспомнил, что и он сам что ни на есть – и родом, и духом, и норовом – натуральный русак. И предложил:
– С кем, с кем, а с вами, Александр Георгиевич, прежде всего давайте выпьем за нас, за русских, за русский народ.
– И за Россию, – вклинился я в его неожиданный, самый приятный для моих ушей тост. – Не за Союз, который в два счёта можно всегда развалить… Хватит и одного нам урока… А за Россию – единую и неделимую, за единый великий русский народ – стержень, основу, цемент вечной России. Сталин знал, за какой народ провозгласить на пиру победителей свой знаменитый исторический тост! – И вместе с поднятой рюмкой мне и самому захотелось подняться, встать во весь рост. И Ивану Васильевичу, конечно, хотелось. Но в тесной каморе, вдвоём, с глазу на глаз это, пожалуй, могло бы показаться слишком уж нарочитым и выспренним. И хоть и не встали, не приложили торжественно своих ладоней к сердцам, но вместе с русской, московской, «столичной», со словами, что вырвались вдруг из наших душ, прокатилась в груди, по горлу, по жилам, по нервам жгучая волна одного из самых глубинных в нас и победительных чувств.
– А чего вас к коммунистам, к Пархоменко понесло? – поинтересовался Вернидубов. – Насколько я знаю, вы до сих пор так и не можете простить им предательства. Не восстановились у них?
– Оттого и понесло, хотел попытаться их образумить. Все севастопольцы за воссоединение с Родиной нашей – Россией, а коммунисты, точнее, украинские национал-коммунисты, решительно против. Будто это не коммунисты вовсе, а отъявленные оуно-бандеро-руховцы. Им, видите ли, мало фактической оккупации исконно российских Крыма, Севастополя, с миллионами русских людей, им ещё и закон подавай о статусе Севастополя как неотъемлемой территории Украины. Чего захотели! Болт вот им в задницу, а не Севастополь, не Крым! – невольно, в сердцах сорвалось у меня с языка. – На последних выборах севастопольские коммунисты уже потеряли многие свои голоса, теперь, на предстоящих, потеряют и все остальные. Так им и надо! Нечего против воли народа идти, предавать его самые глубинные чаяния!
«Прокурор» слушал всё это молча, внимательно, сдержанно. Кто-кто, а он мою позицию и по этому, и по всем остальным пунктам нашей патриотической пророссийской программы знал куда как лучше всех остальных. И то, что я сознательно жёстко заявил о них снова здесь, в гостях у него, по прошествии лет, конечно же, начисто исключало возможность хоть какого-то отступничества с любой из двух наших сторон. Каждый надёжно оставался верен долгу, своим соратникам и себе и без всякой тревоги и опасения всё откровенней и искренней отдавался тем любопытству, интересу и доверительности, а, похоже, также и какой-то невольной глубинной потребности покаяния, с которыми один вдруг позвал, а другой с такой же готовностью отозвался на этот неожиданный человеческий зов.
Всё это и близко не походило ни на одну из многих прежних моих подобных же встреч.
О Касатонове уже говорил, теперь вот о Кожине.
КОМАНДУЮЩИЙ ВМС УКРАИНЫ
Украина формировала свой флот, свои, как она их называла, Военно-морские силы в условиях полного безволия, продажности и предательства со стороны и политического, и хозяйственного, и военного руководства России. Незалежная и самостийная, пользуясь этим, нагло вымогала, тащила, оттяпывала у нашего флота для своего всё и всюду, где и что только ей удавалось – от корабликов и кораблей до важнейших боевых объектов флотской инфраструктуры. Особенно распустили они свою шакалью жадную воровитость в Севастополе, в Крыму, да и вообще по всему российскому побережью Черного и Азовского морей.
Согласуя свои действия с Касатоновым, с другими командующими, а также с командирами частей Черноморского флота, Российское народное вече Севастополя, Российская община, Движение избирателей, все другие патриотические организации вездесуще, отважно, неутомимо увлекали за собой тысячи севастопольцев на схватки с украинскими вояками-оккупантами. Вместо гранат, правда, покуда бросали в них тухлые яйца и помидоры, а вместо автоматов пускали в ход древки от знамён и всё, что подвернётся под руки.
Потому-то именно в моём доме и раздался однажды телефонный звонок. В ту самую первоначальную пору разгрома российского Черноморского и, как казалось хохлам, восхитительных перспектив их державного флота.
Звонил командующий ВМС Украины адмирал Кожин: мол, встретиться надо, есть предложение, когда удобней машину прислать?
Через полчаса я был уже у него в штабе. Он стал доказывать, что с дальнейшим разрастанием и усилением самостийного и незалежного государства Украина, при всесторонней поддержке со стороны Америки, Запада господствующее положение в Черноморском бассейне будут занимать ВМСУ. И напрасно мы, русские патриоты, этому противодействуем. Во-первых, нам этой силищи не одолеть, а во-вторых, современный украинский флот – в интересах России. Вот и давайте вместе его укреплять. Есть предложение: приближается лето, сами знаете – райская пора для уличных политиков, для тысячных толп, для кипучих страстей. Так вот, вместо того чтобы толкаться на митингах, языками бестолку воздух на них сотрясать, мы вас лично, если хотите, то и вместе с семьей, на всём готовом поселим в одной из южнобережных государственных дач. Обеспечим доступ к необходимым документам и историческим материалам, на флотские боевые учения, в походы на кораблях. Вас, как патриотического лидера, все в Севастополе, на полуострове знают. И как писателя… Кто не читал ваших замечательных повестей «Сосунок», «Отец», «Навсегда»… И кому ещё, как не вам, написать – правдиво, убеждённо, художественно – о создаваемом украинском флоте, о содружестве двух братских флотов, о их моряках?!
Всё, как видите, было обличено в такие слова, что прямо хоть тут же в райские южнобережные кущи, на золотые пляжи, в творческое одиночество дворцовых палат. И за перо – живописать ВМСУ.
Книги я написал. В том числе и эту, что сейчас у вас в руках. Но не на госдаче и несколько позже. А в то жаркое лето было мне не до них. Вместе с российским флотом мы, «веченцы», все севастопольцы, долго ещё, не год и не два, отбивали враждебные попытки наших родных братьев-«хохлов» поживиться, как всегда, за счёт российского флота, России, нас, «москалей». И что обидно, без всякой признательности, даже напротив – с проклятьями, со злобной хулой.
ПОСТ ПРАВДЫ И ПРОТЕСТА
Между тем СБУ, прокуратура, милиция не сидели сложа руки, продолжали копать – и под меня, и под всех остальных особо отличившихся «веченцев». Так что суды едва успевали приговоры им выносить по самым незначительным, а то и вовсе надуманным поводам, и по преимуществу – штрафы, и немалые. Секретарь-казначей народного вече Алла Сладковская пыталась даже выразить протест этой откровенной грабиловке. Но судья Бурчуладзе, пронзив строптивую ответчицу своим, казалось, стеклянным искусственным глазом, грубо её оборвал:
– Но, но, но!.. Здесь вам не митинг, здесь суд!
– Произвол, грабиловка тут, а не суд! – поправил судью следующий по очереди ответчик – мой брат Гений Круглов.
Переполненный зал одобрительно задвигался, загудел.
– Ещё слово – и я удалю из помещения всех! – с высоты судейского амвона немигающим глазом обвёл недовольных судья. – А вы, как мне известно, профессиональный юрист, – язвительно обратился он к Гению, – не забывайте: за срыв судебного заседания я ведь и наказать вас могу.
– А вы, – сорвался, пошёл ва-банк Гений, – тоже не забывайтесь: вы незаконно судите нас, это не суд, а расправа. Я присоединяюсь к протесту своего соратника по вече, по партии Аллы Николаевны Сладковской. И в суде вашем не буду участвовать.
Глаза у Сладковской удивлённо расширились, уставились Гению прямо в лицо. Удивился и я. Ещё бы: сейчас, здесь, в переполненном зале, перед противником нашим судьёй Гений демонстративно, решительно поддержал Аллу Сладковскую. О, если бы так он всегда! А то ведь в рутине повседневных партийных забот, взаимных недопониманий, обид, в запале амбиций, страстей, напротив, нередко открыто осуждает, порой даже оскорбляет – мракобеской, шпионкой, жидовкой обзывает её. Скорее всего, оттого, что, кроме общих для всех нас, «веченцев», интересов и целей, фанатичного служения, у нашего секретаря-казначея было за душой кое-что и ещё, что побуждало самых разных людей задерживаться возле неё. И на регулярно действующем агитационно-пропагандистском «Посту правды и протеста», который мы установили на Нахимовской площади, собравшись возле Сладковской, севастопольцы всех мастей вступали в жаркие споры. И не только Севастополь и флот, Крым и Украина – вся Россия, народ, их правители и вожди горячо обсуждались на этом открытом словесном ристалище. То и дело с чьей-то подачи возникали вдруг разговоры и вовсе как будто чужие для нас: о Боге, о жизни и смерти, о совершенно ином существовании, которое открывается нам после жизни земной, о грехе и раскаянии. Рассуждали также и о неких тонких и параллельных мирах, о пришельцах чёрт знает откуда, о торсионной и всяких прочих (будто бы кем-то уже открытых) энергиях. Они-то, эти энергии, наконец-то, и вызволят Россию из разора, немощи и раболепства, в которые вогнали её «перестройка», коммунисты-предатели и олигархи.
– И как нам их, нехристей, не проклинать? Как? – не очень-то выясняя, кто действительно коммунисты, а кто лишь именуются ими, – изливала столпившимся возле неё на посту севастопольцам свой праведный гнев Алла Сладковская. – Церковь, православие, бога-Христа со свету пытались изжить. А Русь священную нашу и вовсе… Сколько управляли страной, столько и корёжили, перекраивали, дробили её, покуда развалили совсем. Русских по всему чужестранствию миллионами поразбросали, позабыли да позабросили. Во! – похлопала Алла ладонью себя по хребту. – На себе, на Севастополе сами всё испытали. Знаем! Это же надо, до такого маразма дойти, чтобы теперь ещё и новые договоры с оккупантами заключать, своими же руками смертушку свою закреплять. Это вместо того, чтобы ломать им хребты!
Я ко всему этому относился не только терпимо, но и заинтересованно, как к невольному продолжению работы наших душ и умов над мучащими всех нас денно и нощно вопросами. А Гений считал, что кто-кто, а Сладковская сознательно затевает всё это на посту. С одной стороны, вроде бы с нами, за наши патриотические интересы и цели, а с другой, как человек глубоко православный, религиозный, верующий, да ещё не терпящий предателей-коммуняк, проводит ещё и свою линию и, безусловно, отвращает каких-то людей от лозунгов и плакатов, газет и журналов, от тех политинформаций и тематических бесед, которые ежедневно выставляет и проводит здесь на посту Гений Круглов, к тому же ещё и заместитель, родной брат лидера севастопольского движения за российские Севастополь и Крым. И он не позволит, чтобы какая-то секретарша не считалась с ними, с ним, несла на посту всякую чушь, поступала по-своему. Да и кроме Аллы, кто только не пытается хозяйничать, а то и командовать в вече, корчить из себя чёрт знает кого: и засланцы злонамеренные, чуть ли не открытые наши враги, и краснобаи, жаждущие себя показать, и вообще немало таких, что видят в вече себя только на первых ролях. И только дай им волю, так с потрохами тебя и сожрут. Гений, правда, не церемонится с ними, скольких уже выжил из вече. Некоторых даже немножечко жаль, могли бы получиться нормальные «веченцы». И Сладковскую также из-за него могли потерять. Но она оказалась слишком преданной нашему общему делу, наплевала на Гения, на грубость, на резкость его, переварила все его подозрения, оговоры, несправедливости, осталась в движении. В нужный момент одёрнул расходившегося братца и я, поддержал секретаря-казначея. А теперь на суде вот и он, Гений, её поддержал. Выступил против Бурчуладзе, против судьи вместе с ней. И на лобное место судья теперь вызвал его.
– Заявления о предоставлении мне украинского гражданства я никому никогда не подавал, – начал Гений чётко и жёстко. – Следовательно, после развала Союза я здесь, в Севастополе, на исконно русской, российской земле, автоматически стал гражданином России. И украинскую оккупационную власть, её суд не признаю. – И не успел судья ему, как и Сладковской, заткнуть своим окриком рот, как Гений сам уже, поплотнее скомкав носовой платок, кляпом затолкал его себе в рот, так же демонстративно заткнул ватой уши. Уселся поразвалистей на стуле перед судьёй, ногу на ногу, руки по-наполеоновски скрещены на груди и уставился взглядом куда-то за железную решетку окна в голубевшее ещё по-летнему наше крымское осеннее небо. И о том, что Бурчуладзе и ему присобачил самый большой из допускаемых законом денежный штраф, Гений узнал только после того, как освободил свои уши и рот от собственноручно загнанных им туда кляпов.
Сладковская, как и я, как и все наши соратники в зале, не могла не восхититься в тот момент этим дерзким неожиданным вызовом, который бросил Гений всей этой бутафорской судебной затее.
– Это Гений, Гений в нём говорит, – усевшись после приговора в первом ряду, возле меня, шепнула мне на ухо Алла Сладковская. Она и прежде всё крутое, неординарное в словах и поступках моего младшего брата объясняла не иначе, как его особым самоощущением, обострённой ответственностью перед своим многообещающим и обязывающим ко многому именем.
Ближайший сподвижник Лазо, Шишкина, Фёдорова, других руководителей партизанских отрядов Приморья, отец наш, Георгий Андреевич Круглов, словно знал, к каким испытаниям должны быть готовы его сыновья. Он и меня, старшего, нарёк со значением – Авангардом. Отца в последний день севастопольской обороны гитлеровцы расстреляли, а меня, Авангарда, фронтовой писарь маршевого полка, в который самовольно мальчишкой я влился, должно быть, под снарядно-бомбовый грохот и вой переиначил в Александра. Как в Святках, победителем, защитником людей. С этим именем я домой и вернулся. А Гений – Гением. Им и остался.
Меня, депутата, на суд к Бурчуладзе нельзя было притянуть, потому законники, правоохранители поступили иначе. Менты подкатили к «пocту» на новенькой милицейской машине с мегафоном, все при оружии, в форме. И сразу же с ходу давай придираться, я бы даже сказал, задираться: как вы смеете Кучму, президента нашего, так уродливо, карикатурно изображать? Немедленно снять!
– Он не наш… Он президент Украины… А мы на севастопольской – русской, российской земле… – понеслось чуть ли не из всех глоток собравшихся возле поста…
Не понравился стражам порядка и последний номер распространявшейся нами московской национал-большевистской газеты «Лимонка» и то, как мы чесали и в хвост, и в гриву городского голову Леонида Жунько за его чрезмерную преданность Киеву, раболепие перед ним. И вообще возмущались они, почему до сих пор мы не убрались с центральной площади города? Где у нас разрешение регулярно проводить здесь свою работу? Письменное! А ну, покажите! У нас его не было. И тогда патрульные попробовали выдворить нас. Потянули уже было руки к нашим карикатурам, ко всей пачке газеты «Лимонка».
Нас, «веченцев», как обычно, к концу рабочего дня собиралось уже до полусотни. Все ощетинились сразу, запротестовали: «Не имеете права!.. Конституция!.. Международная хартия прав человека!..» Кто-то уже даже во всю глотку на всю площадь орал: Вот пусть татары сперва зарегистрируют свой меджлис, тогда зарегистрируем своё вече и мы. А пока и уведомления нашего хватит! Иные из наших уже даже и рукава засучивать стали. Стражи притормозили, перестали шмонать.
Я крикнул своим: – Никому ничего не отдавать! Я сейчас! – и к милицейской машине, чтобы связаться по рации с начальником райотдела. Менты тотчас же развернулись и за мной. Но вместо того чтобы дать мне переговорную трубку через окно, как я просил, они вдруг распахнули заднюю автомобильную дверцу, подхватили меня и уже качнули, чтобы, как куль, забросить в салон. Но не тут-то было. Я, даже для них троих, тренированных, молодых, был ещё о-го-го!.. Мог ещё постоять за себя. Вмиг до предела распластался, раскинув в разные стороны руки и ноги, ощерился как краб на суше перед врагом, затем вцепился во всё, во что только было возможно. И ни хрена не вышло у ментов. Оттого, быть может, ещё, что бить-то меня они, конечно, не смели. А тут как раз и наши с поста подоспели и враз вырвали из их рук, отбили меня.
Вот теперь, когда ментам не удалось меня заломить, себе подчинить, допустимо было всё трезво взвесить и рассудить.
– Всё, хватит! – вскинул я вверх победительно руку. – Если по совести, справедливо, то первый виноватый, неправый тут – это я и есть. – И с высоты вдруг охватившего меня покаяния оглядел всех, и наших, и ваших, спокойно и взвешенно: – Давно уже следовало мне самому побывать у Анатолия Григорьевича, – признался я всем. – Когда ещё ему обещал и с кинообвинением, и с протоколами ознакомиться, что-то там подписать… Больше недели прошло, а так и не сдержал депутатского слова. Нехорошо. – Нахмурился и отрубил: – Всё, едем! – сам распахнул переднюю дверцу машины, уселся рядом с водителем. Втиснулись в неё и остальные патрульные. Один по мобильнику уже докладывал, чтобы нас ждали.
Забеспокоились, зашевелились и наши.
– А мы за вами троллейбусом, – крикнул мне в окно Слава, самый неутомимый, любопытный, настойчивый из активистов агитационного поста. – Подстрахуем вас, мало ли что? – и, не дожидаясь отъезда машины, повлёк остальных к остановке троллейбуса.
Когда я вошёл в кабинет начальника Ленинского райотдела милиции подполковника Олейника, на столе уже дымился и испускал крутой аромат щедро заваренный кофе.
– Давненько, Александр Георгиевич, давненько не появлялись у нас, – пожал мне руку Анатолий Григорьевич. – Я уже даже и скучать по вам стал.
– Так вот почему ваши ребята силком норовили приволочь меня к вам.
– Как так силком? – изобразил удивление Анатолий Григорьевич.
– А так, самым натуральнейшим образом.
– Да нет, вы, должно быть, не так поняли их… Напротив… Они по мобильнику уже хвастали мне, что, можно сказать, чуть ли не на руках вас в машину внесли.
Я заулыбался тому, как они преподнесли всё это начальнику… И подумал: может быть, он сам такое придумал? А Олейник уже продолжал:
– Депутата, ветерана, всеми уважаемого, заслуженного человека… И чтобы силком?.. Да я по семь шкур с них спущу! – и, склонившись над пультом связи, на разные кнопки стал нажимать. Но никто почему-то не отвечал.
– Не надо, – остановил я его, – тем более шкуры снимать…
– Вы что, прощаете? – напрямую спросил он меня.
– Да, прощаю. Тем более, и моя вина тоже тут есть. Сколько раз вы звонили, просили, приглашали меня. Я каждый раз обещал, а слово сдержал только сейчас. Простите меня.
– Простите и вы.
Нас ждало дело. Это оно собрало нас здесь. Анатолий Григорьевич потянулся к кофейнику, наполнил чашки, мне подлил ещё и коньяку. Начали так с застолья, а потом целиком погрузились в просмотр заснятых спецслужбами о нас, «веченцах», видеолент, в чтение протоколов и актов, свидетельств СМИ, особенно проукраинских, с удовольствием «поливавших» нас, москалей помоями. На некоторые приходилось писать объяснения, часть протоколов и актов даже подписывать, настолько неопровержимы были они. И тогда они ложились на столы прокуроров, следственных органов и завершали свой путь судебными делами кого-то из нас.
Анатолий Григорьевич на своём милицейском участке этого непростого пути не зарывался, не злобствовал, а профессионально и, что тоже немаловажно, чисто по-человечески просто старался всё это использовать так, чтобы, как он считал, на будущее предостеречь всех нас, патриотов, левых, радикалов самых разных мастей, от крайних шагов, правовых нарушений и, в конечном итоге, от отсидок в тюрьме.
И когда через пару часов я вышел от него в вестибюль райотдела, соратники мои, те, что с поста примчались сюда вслед за мной, были рады, что их предводитель и жив, и не бит, и без наручных цепей. А в начале нашей борьбы такое, пусть редко, но всё же бывало. Пока мы не заставили органы с нами считаться, нас уважать, но и научились быть справедливыми и в отношении к ним.
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
«СОБСТВЕННОГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА КОНВОЯ»
Звонок… Я открыл дверь. И в мой гостиничный номер оживлённо вкатились пара девиц и паренёк. У девиц в руках – диктофоны, у паренька – портативная телекамера.
– Поздравляем! – начал задуманное теледейство нежданно-негаданно нагрянувший ко мне теледесант. – Вы же сержантом вернулись с Великой Отечественной? – риторически вопросила брюнеточка, по всему видать, старшая в нём. – Так ведь?.. И вдруг… Это же надо: раз – и в одночасье уже генерал! – восхищённо всплеснула руками, закатила даже глаза.
Что-то подобное изрекла, изобразила и помоложе, блондиночка:
– Небось, и в голову не приходило, что российский императорский дом придворным вас сделает?
Лишь парень, знай, наматывал всё это на плёнку и, целясь камерой в нас, строчил как из пулемёта. А красотки, тыча мне под нос свои диктофоны, так и выпытывали всё из меня: почему двум другим депутатам присвоили звание только полковника, а генерала лишь мне?
– Да потому, скорее всего, – поделился я догадкой, – что не так уж давно вся страна отмечала юбилей Великой Отечественной, а я из всех нас троих – единственный фронтовик. Во-вторых, – горделиво сорвалось с моего языка, – кто ещё отчаянней и однозначней здесь, у нас, за единую и неделимую Россию стоит? Кто? Нету таких! И, наконец, есть ли в Верховном Совете кто-нибудь старше меня?.. Так вот, официальный старейшина в нём – это я! И это тоже разве не в мою пользу резон?