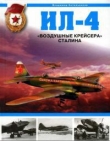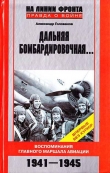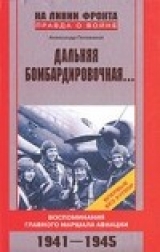
Текст книги "Дальняя бомбардировочная..."
Автор книги: Александр Голованов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 46 страниц)
В первой половине сентября стало ясно, что в запланированное время (на пятые сутки) встреча войск 1-го Украинского фронта с восставшими не состоится. Было принято решение перебросить в Словакию чехословацкую десантную бригаду. Переброска была возложена на АДД. Помня о неудачах, постигших нас при проведении десантной операции под Каневом, где практически отсутствовало надлежащее взаимодействие между родами войск, проводившими эту операцию, Ставка издала приказ, по которому командующий АДД для переброски чехословацкой бригады выделял 5-й авиакорпус. [472] Ответственность за организацию и обеспечение переброски бригады возлагалась этим приказом на командующего 1-м Украинским фронтом, а за непосредственное выполнение – на командира 5-го авиакорпуса генерал-лейтенанта авиации Георгиева. Там же указывались сроки: 17—21.9.44 г. (Архив МО СССР, ф. 39, оп. 11493, д. 12, л. 99).
От уполномоченного СНК СССР по иностранным военным формированиям мы получали условные сигналы по приему самолетов на аэродроме «Три Дуба», которые устанавливал командующий чехословацкими войсками в Словакии и которые передавались им через начальника чехословацкой военной миссии в СССР. Эти сигналы менялись каждый день – как для посадки, так и для сброса грузов. Имея уже достаточный опыт такой работы и зная, что сигналы нередко путаются, было, конечно, целесообразно иметь на месте своих людей, знающих наших летчиков и порядки, существующие в АДД, по организации и проведению таких полетов.
Для того чтобы обеспечить прием, разгрузку и отправку большого количества самолетов, на аэродром «Три Дуба» был направлен заместитель командира 53-й авиационной дивизии полковник Б. Ф. Чирсков с оцеративной группой.
В первую ночь оперативная группа принята не была, так как аэродром отбомбил противник. На вторую ночь вся группа благополучно прибыла, и полковник Чирсков стал заниматься решением вопросов, как организовать прием, разгрузку и отправку самолетов. Он имел указания о том, что необходимо обеспечить прием и выпуск 80—100 самолетов каждую ночь. Принять такое количество самолетов совсем не просто, когда рядом базируется истребительная авиация противника, а сам аэродром регулярно подвергается бомбардировке. Требовалась, во-первых, максимальная маскировка аэродрома в ночных условиях – предельно малое количество огней на летном поле, во-вторых, быстрейшая разгрузка прибывающих самолетов и немедленная их отправка, так как большого количества самолетов аэродром принять не мог. Оставление же самолетов на день на аэродроме исключалось, ввиду каждодневного облета его разведчиками противника. И все-таки, можно сказать под самым носом у немцев, такая работа была проделана. Оперативная группа успешно справилась со своей задачей.
Наши корабли приходили на аэродром волнами по 15—20 самолетов. Как правило, они разгружались, не выключая моторов. С помощью словацких товарищей были созданы группы по разгрузке прибывающих самолетов, вместе с экипажем корабля они быстро разгружали самолет, который сейчас же улетал, а на его месте появлялся другой самолет. Так конвейером, организованно шла интенсивная работа. [473]
Самолеты противника не один раз бомбили этот аэродром, наша группа потеряла в связи с этими налетами двух товарищей.
На аэродром «Три Дуба» доставлялось не только стрелковое вооружение, но и полковые минометы, артиллерия, автотранспорт, а также противотанковые ружья, тяжелые пулеметы и другое снаряжение. Кроме полетов с посадками, мы также сбрасывали вооружение и боеприпасы в других точках Словакии: Брезно, Доновали, Зашова и других. В конце сентября немецкие части подошли к Зволену, угрожая захватить город и выйти в район аэродрома. Как раз в это время на аэродром «Три Дуба» прибыло 76 самолетов, которые доставили рядовой и офицерский состав из чехословацкой бригады с их вооружением.
Бригадой командовал полковник Пшекрыл – волевой, смелый, энергичный командир и, как показали дальнейшие его действия, не теряющийся в сложной обстановке человек. Прилетел он на самолете лейтенанта Н. С. Ларионова, который в сложных условиях погоды вместо аэродрома «Три Дуба» выскочил на площадку в районе Брезно, которая была обозначена огнями, и произвел там посадку. Вместе с полковником Пшекрылом на этом самолете прилетел начальник разведки словацкой армии Павел Марцело и другие ответственные товарищи, всего двадцать человек.
Площадка оказалась столь малых размеров, что прибывшему туда полковнику Чирскову вместе с летчиком Ларионовым немало пришлось поломать голову над тем, как вызволить самолет. Разбирать его и вывозить по частям не было никакой возможности, оставить на площадке – сразу его уничтожат самолеты противника.
В конце концов решили все же взлететь, предварительно максимально разгрузив самолет и слив из него горючее, оставив лишь минимальный запас на обратный перелет. Решение, конечно, волевое, не обеспеченное размерами площадки, однако бросить самолет, который был в полной исправности и мог продолжать нести службу, экипаж не мог. Нужно было или отказаться совсем от этой затеи, или начинать взлет на полной мощности моторов и продолжать его, несмотря ни на что…
Получив «добро» полковника Чирскова, члены экипажа заняли свои места. Самолет зарулил на самый край площадки, моторам был дан максимальный режим, по выходе на который самолет был снят с тормозов и начал разбег. Лица, относящиеся к летно-подъемному составу, легко себе представят состояние экипажа, а также и разрешившего этот взлет… Почти цепляясь за землю, самолет какое-то время летел на одной высоте, но, постепенно набирая скорость, вышел все-таки с границы опаснейшего режима и обрел маневренность.
Если вам когда-либо встретится человек, имеющий летную профессию, еще молодой, но с сединой в волосах, можете, не спрашивая его, быть уверенными в том, что в его летной жизни было что-либо похожее на описанный случай и, вполне вероятно, не один раз… [474]
Прибытие подразделений чехословацкой бригады сразу изменило обстановку на этом участке, и противник был отброшен от Зволена. Однако гитлеровцы, стягивая значительные силы, стали сжимать кольцо вокруг территории, занимаемой партизанами и повстанческой армией. В окружении насчитывалось не менее 75000-80000 человек, и они могли, конечно, оказывать сопротивление продолжительное время. Однако отсутствие единого командования и взаимодействия между повстанческой армией и партизанами не помогало их боевым действиям… Вместо того чтобы направить все свои усилия на борьбу с общим врагом, в стане словаков шла, по сути дела, внутренняя политическая борьба за власть в армии между эмигрантским правительством Бенеша с одной стороны, и Словацким национальным советом – с другой. Все это, естественно, прямо сказывалось и на порядках, и на дисциплине в армии. Дело дошло до того, что встал вопрос о присылке туда командных кадров из Красной Армии… Большая часть солдат и офицеров повстанческой армии вела упорные оборонительные бои с противником, который имел против них больше шести немецких дивизий с соответствующими дисциплиной, вооружением и техникой. Силы были явно не равные. И все же в течение двух месяцев словаки дрались с врагом при отсутствии согласованных действий среди своего командования, что, по сути дела, и предопределило гибель Словацкого восстания.
Со второй половины октября противник повел решительное наступление по всему фронту повстанческой армии. Мы усилили боевое снабжение повстанцев, а кроме этого, приступили и к ударам с воздуха по войскам врага. Кроме 5-го авиакорпуса на проведение этой операции были задействованы соединения и части 4-го гвардейского корпуса АДД. Погода, надо прямо сказать, не благоприятствовала полетам, но приходилось летать и в сложных метеорологических условиях, чтобы не оставить наших словацких товарищей без столь необходимой помощи. Противник организовал с аэродрома, находящегося в районе города Попрада, перехват наших самолетов своими истребителями, чем причинял нам определенный урон, но остановить доставку вооружения, конечно, не смог.
События развивались стремительно. Кольцо окружения сжималось. Имея повседневную связь с Иваном Степановичем Коневым, мы имели довольно подробную информацию о положении дел в Словакии. Незадолго до конца словацкого восстания, когда остались уже считанные дни его существования, правительство Бенеша обратилось к нам с просьбой о посылке туда нашего представителя. Однако в нашем ответе было сказано, что посылка представителя Главного командования Красной Армии, которая была бы полезна ранее, сейчас нецелесообразна. [475] И действительно, противник захватил 24 октября Брезно, 26-го – Зволен, а за ним и центр восстания – город Банска-Бистрица. Такая скоротечность событий была неожиданна и для штаба 1-го Украинского фронта. Так, в присланной мне 20 октября телеграмме начальник штаба 1-го Украинского фронта В. Д. Соколовский писал, что сигналы для сброса груза на площадку Брезно с 20 по 29 октября установлены соответственно периоду с 11 по 19.10.44, а уже 25 октября Соколовский сообщил, что сигналы ввиду сложившейся обстановки в Словакии как для посадки, так и для сброса будут даны только в день доставки. Например, сигналы с 25 на 26 октября: а) с посадкой самолетов на аэродром «Три Дуба» сигналы с земли – две белые ракеты, самолет дает одну белую ракету; б) для сброса груза без посадки район Доновали, 16 километров северо-восточнее Банска-Бистрица – две зеленые ракеты, световой маяк дает букву «Р», три костра треугольником.
На следующий день генерал Соколовский прислал следующую телеграмму:
«При сложившейся обстановке в Словакии посадка наших самолетов стала невозможной. Районы Зволен и Брезно находятся под угрозой захвата немцами. В ночь с 26 на 27 и с 27 на 28 октября с. г. можно сбрасывать на площадку в районе Доновали. Сигналы – две зеленые ракеты. Световой маяк дает букву „Р“, три костра треугольником».
В один из последних дней работы нашей оперативной группы на аэродроме «Три Дуба» туда приехал входивший в число руководителей Словацкого национального совета Карол Шмидке и Шробер, о роли которого в восстании мы ничего не знали. Они попросили отправить в Советский Союз ценности, принадлежащие словацкому народу, чтобы последние не попали в руки к фашистам. Зная товарища Шмидке как секретаря ЦК Компартии Словакии, полковник Чирсков согласился выполнить просьбу, сказав, чтобы ценности привозили с наступлением темноты, соответственно их замаскировав. Доложил об этом он и руководству. Ценности к указанному времени были доставлены на аэродром, но погода была весьма плоха и прилет самолетов исключался.
И все-таки один самолет пробился и в сложнейших условиях произвел посадку на аэродром. Понял это полковник Чирсков лишь по приближающемуся звуку уже рулящего самолета… Его пилотировал заместитель командира эскадрильи капитан Алексей Александрович Васильев. Забрав более тонны ценного груза и сопровождающих, Васильев улетел и благополучно произвел посадку на свой аэродром в районе Львова. Это был единственный самолет, который побывал в ту ночь на аэродроме «Три Дуба». Вскоре аэродром был захвачен гитлеровцами. Мы еще продолжали полеты в Словакию, правда уже без посадок, доставляя оружие и боеприпасы партизанам как в конце октября, так и в ноябре. [476]
По своим масштабам обеспечение боевых действий повстанцев в Словакии было одной из крупных и сложных операций, проведенных АДД. В ней участвовали шесть полков 5-го авиационного корпуса и боевые экипажи шести полков 4-го гвардейского авиационного корпуса АДД. Помимо доставки военного снаряжения и боеприпасов, вывоза раненых они вели там еще и боевые действия, нанося бомбовые удары как по живой силе противника, так и по его аэродромам.
Назову части и соединения и их командиров, которые обеспечивали боевые действия повстанцев и партизан в Словакии, а также некоторое количество товарищей из лиц летно-подъемного состава. Совершенно естественно, что назвать всех участников, хотя они и заслуживают этого, здесь невозможно.
К таким частям относятся: 1-й гвардейский авиационный Брянский Краснознаменный полк дальнего действия (командир гвардии подполковник Василий Петрович Филин); 23-й гвардейский авиационный Белгородский Краснознаменный полк дальнего действия (командир гвардии полковник Григорий Алексеевич Шамраев); 336-й авиационный полк дальнего действия (командир подполковник Давид Михайлович Равич).
Эти полки входили в состав 53-й авиационной Сталинградской дивизии дальнего действия (командир генерал-майор авиации Василий Иванович Лабудев). 7-й гвардейский авиационный Гатчинский Краснознаменный полк дальнего действия (командир гвардии подполковник Борис Григорьевич Езерский); 29-й гвардейский авиационный полк дальнего действия (командир полка гвардии подполковник Николай Григорьевич Афонин); 340-й авиационный полк дальнего действия (командир Герой Советского Союза гвардии подполковник Федор Федорович Степанов).
Эти полки входили в состав 54-й авиационной Орловской дивизии дальнего действия (командир гвардии генерал-майор авиации Василий Антонович Щелкин).
15-й гвардейский авиационный Севастопольский Краснознаменный полк дальнего действия (командир гвардии полковник Сергей Алексеевич Ульяновский, а затем гвардии подполковник Владимир Саввич Цыганенко); 13-й гвардейский авиационный Рославльский Краснознаменный полк дальнего действия (командир гвардии полковник Константин Петрович Дмитриев); 31-й гвардейский авиационный полк дальнего действия (командир Виталий Александрович Гордиловский).
Эти три полка входили в состав 4-й гвардейской авиационной Брянской дивизии дальнего действия (командир дивизии – полковник Иван Иванович Кожемякин). [477]
14-й гвардейский авиационный Смоленский Краснознаменный полк дальнего действия (командир гвардии подполковник Вениамин Дмитриевич Зенков); 35-й гвардейский авиационный полк дальнего действия (командир Герой Советского Союза гвардии подполковник Владимир Порфирьевич Драгомирецкий); 22-й гвардейский авиационный Севастопольский полк дальнего действия (командир Герой Советского Союза подполковник Александр Алексеевич Баленко).
Входили эти полки в состав 5-й гвардейской авиационной Гомельской дивизии дальнего действия, которой командовал полковник Павел Иванович Кондратьев. После его гибели комдивом был назначен полковник С. А. Ульяновский.
Как 4-я, так и 5-я гвардейские дивизии входили в состав 4-го гвардейского авиационного Гомельского корпуса дальнего действия, которым командовал генерал-лейтенант авиации Георгий Семенович Счетчиков.
Более 2000 боевых вылетов произвели экипажи АДД, по обеспечению Словацкого восстания, сделав огромное количество посадок на аэродроме «Три Дуба». В общей сложности на аэродром «Три Дуба» было доставлено порядка 2500 человек личного состава, более 1000 тонн различного военного груза, многие сотни людей были вывезены.
Нельзя, конечно, здесь обойти молчанием и личный состав этих полков и соединений, который, летая на выполнение боевых заданий, можно сказать, не покладая рук, стремился сделать все, что в его силах, чтобы помочь своим боевым словацким товарищам. Вот фамилии некоторых из них: заместители командиров полков М. Д. Козлов, Е. К. Гудимов, Н. И. Бирюков; заместители командиров полков по политчасти К. М. Куликов, С. М. Сошников, Ф. В. Шкода; штурманы полков П. Н. Степин, В. М. Чистяков, Ф. С. Яловой, А. З. Носовец, П. А. Полыгалов, А. П. Карпенко; командиры эскадрилий М. Д. Науменков, Г. А. Лебедев, А. В. Дудаков, В. А. Чепурко, Г. И. Баймузин, Ф. М. Колясников, А. А. Агибалов, С. В. Жиганов, Г. Г. Агамиров, А. Д. Давыдов, М. Т. Лановенко, Н. Ф. Москаленко, И. Ф. Мандриков, С. А. Лукьянов, М. Ф. Костенко; заместители командиров эскадрилий С. П. Слепцов, М. В. Левин, П. Ф. Шубин, В. Ф. Шеметов, А. Н. Котелков, Л. И. Васильев, А. В. Мансветов, И. Д. Лещенко, М. Г. Синев, В. М. Безбоков, Н. Н. Поляков, А. И. Калентьев, К. К. Ляшевич, А. И. Судаков, В. П. Канагин, Г. П. Троценко, М. А. Прилепко; штурманы эскадрилий А. Ф. Попов, И. Е. Скалозуб, И. Р. Евстафьев, Л. Ф. Тюрин, А. А. Андреев, М. П. Орлов, Е. П. Бондаренко, Л. П. Христовой, Е. С. Вирченко, С. П. Тимофеев, В. Ф. Тимченко, Л. Хазахметов, Ф. С. Румянцев, И. А. Гвоздев, П. Д. Просветов, Д. П. Волков, М. Я. Орлов, П. И. Годунов, П. Н. Воронков и другие. [478]
Помнится и такой случай. Нашу оперативную группу лично пригласил ксендз – католический священник – и разместил у себя, в помещении, находящемся недалеко от костела. Более того, священник всячески помогал во всем во время пребывания группы на аэродроме «Три Дуба», а когда партизанам пришлось уйти в горы, он спрятал нашу радиостанцию, которую уже не смогли вывезти, хранил ее у себя, подвергаясь, естественно, прямой опасности быть расстрелянным, и вернул ее нам в целости и сохранности по занятии этого района Красной Армией. К сожалению, как это нередко бывает на войне, фамилия его так и осталась неизвестной. Я не могу, конечно, утверждать, что этот ксендз был революционером, но что он был борцом за независимость и свободу своей Родины, это является бесспорным.
И у нас во время Великой Отечественной войны были священники, и весьма немало, которые говорили проповеди против немецких захватчиков и за их изгнание с нашей земли, отказывались молиться за победу немецкого оружия, за что вешались и расстреливались. Были священнослужители, которые имели прямые связи с нашими партизанскими отрядами и даже находились в этих отрядах. Помнится мне, когда повесили, кажется в Минске, священнослужителя высокого сана за отказ служить молебен о победе гитлеровцев и это сообщение пришло в Москву, Сталин высказал свое мнение – видимо, церковь и ее служители перестали в своей массе быть черносотенцами, а следовательно, и прислужниками капитализма.
…Хотя Словацкое восстание и было подавлено превосходящими силами противника, оно сыграло определенную роль в борьбе с гитлеризмом и отвлекло на себя некоторые силы врага.
На примере этого восстания Сталин показывал следующее. Правительство Бенеша и руководство Словацкого национального совета, имея общего противника – клику Тисо и гитлеровскую Германию, не объединили свои усилия на борьбу с одним врагом, хотя стремления их в этом вопросе не расходились. Главным препятствием оказалась идеологическая позиция сторон. Хотя политика, всецело подчиненная той или иной идеологии, на определенных этапах может объединяться с политикой других идеологий для достижения общей цели, в данном случае – для разгрома фашизма. Этого в Словакии не произошло. В попытках решить спорные политические вопросы было упущено время для организации объединенных целенаправленных вооруженных действий против немецких оккупантов, вследствие чего начавшееся, по сути дела, стихийно восстание народа и армии оказалось без единого твердого руководства, чем и воспользовался враг. [479]
Помощь югославским партизанам
Не один раз обсуждался у Сталина вопрос о положении партизан в Югославии. Так, еще в конце 1941 года английское правительство через своего посла в Москве Криппса обратилось с просьбой, чтобы были даны «указания» югославским коммунистам прекратить самостоятельные действия против немецких оккупантов с тем, чтобы создать одно единое руководство под началом Д. Михайловича[124]124
Михайлович Дража (1893—1945). Сербский генерал (1942). В 1941—1945 гг. глава формирований четников. В 1942—1945 гг. военный министр югославского эмигрантского правительства. Казнен по приговору народного суда ФНРЮ.
[Закрыть] – главы четников в Югославии, приверженца короля Петра II. Король бежал из страны и обосновался со своим правительством в Англии, где был принят как родственник английской королевской семьи.
– Видимо, серьезную силу представляют югославские партизаны, если англичане обращаются к нам за помощью! – сказал смеясь Сталин.
С такой же просьбой обратилось к нам и правительство Югославии из Лондона. Как англичане, так и югославские эмигранты во всеуслышание объявили Михайловича национальным героем, борющимся за интересы югославского народа против Гитлера.
– Сами справиться с партизанским движением у себя в стране не могут, так хотят при нашей поддержке подчинить партизан Михайловичу, а потом их задушить. Все это шито белыми нитками. Хитрые, но детские уловки! – продолжал Сталин. – Жаль, что сейчас мы можем только сочувствовать югославским партизанам и не можем оказать им какой-либо реальной помощи.
Конечно, обращения английского посла и лондонского правительства Югославии остались без положительного ответа.
Чем сильнее развивалось партизанское движение в Югославии, тем большую помощь в борьбе с этим движением оказывали англичане Михайловичу. В марте 1942 года и США согласились поставлять военное снаряжение Михайловичу, было заключено соответствующее соглашение. Однако партизанское движение крепло и развивалось. Следовали новые обращения английского правительства к руководству нашего государства с предложениями объединить под тем или иным предлогом боевые действия партизан Югославии с действиями Михайловича, но, говоря военным языком, – успеха они не имели. Тем более не могло быть и речи о подчинении партизан Михайловичу, что об этом без всякой дипломатии заявил руководитель партизанского движения в Югославии Иосип Броз Тито[125]125
Тито (Броз Тито) Иосип (1892—1980). С 1953 г. президент Югославии.
[Закрыть].
Наконец, убедившись, что всякие попытки установить единую власть в лице Михайловича, который в 1942 году получил чин генерала и был назначен в эмигрантском правительстве военным министром, ни к чему не приводят, английское правительство решило установить непосредственный контакт с Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ). [480] В мае 1943 года туда прибыла английская военная миссия, а в июле английский посол в Москве передал, что его правительство решило теперь оказывать поддержку всем борющимся в Югославии, независимо от того, к какой партии они принадлежат. Однако ощутимой помощи НОАЮ от англичан не получала, причем эта помощь всякий раз резко сокращалась, когда руководство НОАЮ не желало принимать предложения англичан, заключавшиеся в основном в признании королевской власти на территории Югославии.
Много сил, энергии, изворотливости, присущих только ему, приложил Уинстон Черчилль, чтобы сохранить монархию в Югославии, но так ничего и не добился. Чем больше получал от союзников военной помощи Михайлович, тем меньших успехов он добивался, тем большей признательностью и авторитетом пользовались партизаны во главе с маршалом Тито. И всякий раз, как только в Ставке по тому или иному поводу заходила речь о Югославии, всегда вставал вопрос: какую помощь можем мы оказать партизанам?
Огромное расстояние, разделявшее нас, не давало возможности оказать хотя бы сколько-нибудь значимой поддержки. Мы совершали в Югославию лишь отдельные полеты. Наконец, в ноябре 1943 года наши войска освободили Киев, что дало нам практическую возможность начать подготовку к регулярным полетам в Югославию. От Киева до баз югославских партизан было более 1300 километров по прямой, а это значило, что самолеты должны были преодолеть расстояние свыше 2600 километров для того, чтобы достичь цели (район выброски) и вернуться обратно, не считая времени пребывания в воздухе, необходимого для отыскания этой цели, точного сброса доставленного, а также возможных отклонений по маршруту по тем или иным причинам. Получалось, что в лучшем случае, при всех условиях благоприятного полета, нужно вести расчет, как минимум, на преодоление самолетами расстояния в 3000 километров. Это по тому времени было пределом практической дальности наших самолетов. Начинать такие полеты значительным количеством самолетов казалось явным авантюризмом, но положение, в котором находились югославские партизаны, обязывало нас использовать малейшие возможности, а следовательно, и идти на определенный риск. И на такой риск мы пошли. Верховный принял решение организовать и начать регулярные полеты для обеспечения боевых действий партизан в Югославии, несмотря ни на какие трудности.
В ходе Тегеранской конференции по инициативе нашей делегации было принято решение о максимально возможной помощи югославским партизанам различным снабжением и материалами, что способствовало бы их активным действиям против гитлеровских захватчиков. Однако как англичане, так и американцы не отказались и от активной помощи четникам Михайловича. [481]
Во время Тегеранской конференции была проведена сессия Антифашистского вече народного освобождения Югославии в городе Яйце (29—30 ноября 1943 года). На этой сессии эмигрантское югославское правительство за антинародную деятельность было лишено всех прав законной власти, а королю Петру II было запрещено возвращение в Югославию до конца войны. Высшим исполнительным и административным органом власти стал созданный решением вече Национальный комитет освобождения Югославии во главе с его председателем маршалом Тито.
По завершении Тегеранской конференции еще на бакинском аэродроме Сталин дал указание ускорить организацию планомерных полетов в Югославию. Непосредственную оперативную связь с нами по вопросам помощи югославским партизанам было поручено держать Д. Мануильскому[126]126
Мануильский Дмитрий Захарович (1883—1959). В 1928—1943 гг. секретарь Исполкома Коминтерна. В 1944—1953 гг. зам. председателя СНК (СМ) и нарком (министр) иностранных дел УССР.
[Закрыть].
Вот что он писал мне:
«По поручению Правительства прошу переправить для Народно-освободительной армии Югославии двадцать тонн груза и восемь человек. Учитывая важность данного ответственного задания, прошу для этой цели выделить самых лучших и опытных летчиков и экипажи. Пункт доставки – район Дрвар.
Сигналы: 16 или 12 огней (уточним сегодня) в виде римской цифры десять и сигнал по азбуке Морзе буква „П“ лампочкой. Ожидают с 10 января…
Д. Мануильский. 10 января 1944 г.»
(Архив МО СССР, ф. 39, оп. 11493, д. 6, л. 1.)
А 14 января мы из Югославии получили следующую телеграмму:
«Находимся близ Дрвара. Имеем аэродром на Крбовском поле, в Лике близ Удбине.
Немцы успели 13 января прорвать наш фронт близ Мрконич-Града на коммуникации Мрконич-Град – Гламоч. В горном массиве Млиниште организуем новый отпор. Если отбросим немцев, то самолеты могут спуститься и на Гламочском поле. Кроме этого, подготовляем аэродром у Босанского Петровца. Верховный штаб находится не в полной безопасности в связи с близостью фронта Мрконич – Гламоч № 56.»
(Архив МО СССР, ф. 39, оп. 11493, д. 6, л. 5).
Куда же нам доставлять груз, чтобы он попал по назначению и не оказался в руках врага? Фронт, если можно так выразиться, дышит. [482] Да и фронта-то, как такового, который мы привыкли представлять себе, по сути дела, нет. А лететь туда нужно 1300 километров, доставить точно по адресу все находящееся на бортах самолетов, для чего нужно обязательно обнаружить адресата, не говоря уже о том, что почти весь путь предстоит пройти над территорией, занятой противником. Уточнив, какие пункты находятся твердо в руках партизан, 15 января отдается следующее распоряжение:
«Командиру группы майору товарищу Дудник:
1. Обстановка в районе цели: 13.1.44 г. немцы прорвали фронт близ Мрконич-Град на коммуникации Мрконич-Град – Гламоч.
2. В руках партизан находятся: Дрвар, Босанский Петровец (что севернее Дрвар 20 км) и Грахово (что южнее Дрвар 23 км).
3. Цель: людей и груз выбросить на площадке в районе Босанского Петровца, что 30 км севернее Дрвар (на Широком поле).
4. Сигналы прежние.
Зам. командующего АДД генерал Скрипко. 15 января 1944 года».
(Архив МО СССР, ф. 39, оп. 11493, д. 6, л. 8).
А вот месяцем позже мы уже получили следующее сообщение:
«Груз нужно сбрасывать у Прекай юго-восточнее Дрвар. Географическая широта 44 19, долгота 16 32.
Место у Босканского Петровца ненадежно. Немцы предприняли наступление от Бихача в направлении Петровца.
Бой идет на протяжении 70 км от Грахово до Бихача. Сигналы будут и на Петровом поле близ Травника. 14 февраля 1944 г. Вальтер» (так подписывался маршал Тито).
Так, в связи с боевыми действиями, исключались одни места доставки вооружения и боеприпасов и возникали другие. Партизаны находились в движении.
Для планомерного обеспечения югославских партизан была организована авиационная группа с базированием на Украине. Одними из первых, кто начал регулярные полеты в Югославию, были экипажи Александра Давыдова со штурманом Василием Тузовым, Евгения Мухина со штурманом Иваном Лисовым, Константина Кудряшова со штурманом Федором Румянцевым, Никифора Рыбалко со штурманом Василием Улизко, Гоги Агамирова со штурманом Иваном Гвоздевым. Командиры кораблей были классными летчиками, налетавшими до войны огромное количество часов на трассах Гражданского воздушного флота и имевшими большое количество боевых вылетов во время Великой Отечественной войны. Их штурманы также имели значительное количество боевых вылетов. [483]
Число экипажей, принимавших участие в полетах к партизанам Югославии, стремительно нарастало, и в скором времени на выполнение этой труднейшей, опаснейшей и важнейшей задачи была задействована целая дивизия 4-го гвардейского авиационного корпуса АДД. Этим корпусом командовал генерал-лейтенант авиации Георгий Семенович Счетчиков – высококультурный, грамотный, разносторонне развитый командир, который очень быстро продвинулся по командной лестнице и, будучи в начале организации АДД командиром полка и подполковником, в 1944 году уже командовал корпусом в звании генерал-лейтенанта авиации.
Почему работу экипажей, принимавших участие в полетах к югославским партизанам, я называю труднейшей, опаснейшей и важнейшей? Ведь всякая боевая работа на войне и трудна, и сложна, и опасна! Дело в том, что всякий раз, вылетая на выполнение полученного задания, экипаж отправлялся в неизвестность. Прежде всего ему не была известна погода по всему маршруту, за исключением того места, куда он летит, и то многочасовой давности, а местная погода, как мы знаем, меняется довольно часто. О получении прогнозов из районов боевых действий партизан не могло быть и речи. В первые месяцы никаких радиосредств, используя которые можно было бы прилететь хотя бы в район расположения места назначения или, как мы привыкли выражаться, в район цели, не было.
Следовательно, преодолев линию фронта и более чем тысячекилометровый маршрут, весьма нередко в сложных метеорологических условиях, при обледенении и вне видимости земных ориентиров, экипаж, естественно, не мог точно знать, пользуясь только расчетом времени, куда он фактически вышел, и, установив зрительную связь с земной поверхностью, должен был определить свое местонахождение, после чего приступить к отысканию цели, которая обычно обозначалась кострами определенной конфигурации.
Если в 1943 году партизаны имели бригады и партизанские отряды, то уже в 1944 году были сформированы корпуса, а численность партизан в НОАЮ доходила почти до 350000 человек. В десятках различных мест находились эти соединения, и их-то и нужно было разыскивать вот по таким, например, данным: 9-й корпус – место Уланована, координаты – 13 48 00; 46 04 00. Сигналы латинское «II» из пяти костров; место Локуа, координаты – 13 47 00; 46 01 00. Сигналы те же. Или: 7-й корпус – место Пака, координаты – 15 04 20; 45 30 25. Сигналы «Е» из костров… 4-й корпус – место Кладуша, координаты – 15 14 20; 45 11 30. Сигналы – «Ш» из костров, и так далее, с указанием, с каких по какие числа месяца будут выкладываться те или иные опознавательные знаки. [484] А кроме указанных корпусов существовали и другие, например 5, 8, 6, 1-й и другие, а также дивизии и отдельные группы, например группа Мораца, соединение Пеко… Подчас просто давались координаты даже без названия места, например: Сербия, координаты – 21 54 00; 43 24 08. Сигналы – треугольник из костров. В общем получалось большое количество различных площадок со своими сигналами, найти которые на карте и то требуется время. Найти же указанные далекие пункты с самолета ночью, и подчас безлунною, не так-то просто. Длительный же поиск площадок мог привести к тому, что, летая на предельный радиус полета, экипаж рисковал остаться без топлива и в лучшем случае, потеряв самолет, мог рассчитывать попасть в тот или иной партизанский отряд, однако вероятность такого благополучного исхода, нужно сказать, была невелика. Сложность и опасность полетов в горной местности по розыску площадок и сбросу грузов с минимально возможной высоты, чтобы гарантировать попадание их в руки адресата, а не врага и избежания столкновения с горами, обязывали экипаж быть предельно внимательным. Я уже здесь не говорю о возможной встрече с истребителями, о преодолении других средств противовоздушной обороны противника, через районы которых из-за ограниченного количества топлива приходилось лететь напрямую. Вот почему мной выше были применены исключительные слова, подчеркивающие всю сложность выполнения поставленной задачи. Однако, несмотря ни на какие трудности, все экипажи дивизии летали с большим желанием на выполнение этих задач, зная, что они делают это ради братской помощи югославским партизанам в их тяжелейшей борьбе.