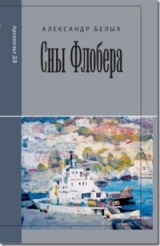
Текст книги "Сны Флобера"
Автор книги: Александр Белых
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Александр Белых. Сны Флобера
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ «СВОБОДНАЯ ВЕЩЬ» АЛЕКСАНДРА БЕЛЫХ
У Александра Белых, родившегося в 1964 году в городе Артеме Приморского края, образцовая биография «молодого советского писателя» – была некогда такая категория пишущей литературной братии, ищущей себе места под коммунистическим солнцем. Вырос в шахтерской семье, работал на заводе токарем, котельщиком, отслужил в армии, бороздил Тихий океан на краболовных судах Дальневосточного морского пароходства, с юных лет обладал поэтическим даром.
Университетское образование по специальности японская филология, стажировка в Токио – тоже бы пошли при Советах молодому дальневосточнику в плюс. Видите, товарищи, человек ИЗ НАРОДА, а рубит во всех этих хайку и хокку, таинственные эти иероглифы щелкает, как семечки. Можно доверить ему переводить ПРОГРЕССИВНЫХ японских писателей. Пока. А потом, когда приобретет ИДЕЙНЫЙ опыт, можно будет позволить ему и на классику замахнуться.
Другой вариант судьбы эрудированного, тонко чувствующего Александра Белых, родись он десятью – двадцатью годами раньше – диссидентство, самиздат, эмиграция. За переводы нового самурая Юкио Мисимы, пессимизм и эротику тогдашняя власть молодого человека по головке не погладила бы, а выжить на родине с ощущением, что ТАК БУДЕТ ВСЕГДА, ему вряд ли удалось бы.
Но случилось так, что в 1991 году (а это время действия основных событий романа «Сны Флобера») советская власть у нас в стране закончилась, а с ней и прежняя «официальная» и «неофициальная» литература.
Литература вообще постепенно стала никому не нужна, тиражи скукожились. Писатели и поэты поколения Александра Белых «попали в непонятное», и его первая заметная публикация в журнале «Иностранная литература» состоялась, несмотря на свободу, лишь в 1999 году.
Именно с тех пор его имя поэта, прозаика, переводчика, эссеиста, сценариста и прочее стало известно сузившемуся изрядно, но все еще широкому кругу ценителей слова. Его собственные стихи переведены во многих странах, его переводы публикуют в Москве и Питере, но все это имеет отдаленное отношение к созданному им роману, пока что единственному.
Роман этот, писанный во Владивостоке в аккурат на рубеже второго и третьего тысячелетий с 1999 по 2001 годы, несет на себе зримые и незримые меты своего места и времени.
МЕСТО: «… салат из морской капусты, и кальмаров с яйцом, папоротник с мясом. Оба блюда заправила густой деревенской сметаной. Еще порезала тонкими ломтиками сало, ламинарию они собирали прямо в бухте». Такое постмодернистское меню, сочини его московский эстет, выглядело бы малоталантливой натяжкой, глуповатой и грубоватой издевкой над РОССИЙСКОЙ ментальностью. Владивостокский эстет из народа Белых в этом смысле органичен и реалистичен. Что поделаешь, если русских занесло в ту сторону, где водятся крабы, морские гребешки и тигры. И рядом – Япония, рядом – Китай, Корея, и «ветер с Востока довлеет над ветром с Запада», как гласит неточный перевод знаменитого изречения товарища Мао – Цзедуна.
ВРЕМЯ: КОГДА НАЧАЛЬСТВО УШЛО, оставив интеллигентное население в нищете, свободе и разрухе, это дало отдельным представителям такого населения уникальную возможность лепить из подручного материала самые фантасмагорические фигуры. «Свободная вещь» – так, по воспоминаниям современников, реагировал великий Андрей Платонов, услышав какую‑нибудь нелепую, малодостоверную историю из окружающей его жизни.
Все сюжетные коллизии романа, включая в себя кажущиеся вязким кафкианским сном сцены японских приключений юного героя Ореста (он же – пёс Флобер), тоже в этом смысле «свободная вещь». Равно как и гетеро – гомосексуальное существование разновозрастных и разнополых персонажей на таинственном острове, освященном широкими тенями Петрония и Томаса Манна. Равно, как и Гоголь, который еще «крепче обнял юношу», или чеховская «Чайка», спектакль, где всех персонажей и зрителей арестовали японские городовые. «Свободная вещь»! И то, что дневниковая запись Андрея Платонова за 1942 год, взятая эпиграфом к роману, непостижимым образом проясняет сущность «Снов Флобера» – очередное доказательство того непреложного факта, что на русском литературном пространстве еще полным – полно белых пятен, и границы этого пространства вряд ли когда‑либо будут зафиксированы.
Сказано же вам было Классиком, что «широк русский человек», а классики, как известно, шутить не любят. Вынесет и ассимилирует всё – и восточную философию, и марксизм, и «воскрешенье отцов», и «венского шарлатана», и порногравюры древних японцев – вынесет все, и широкую, ясную в жизни дорогу проложит опять в никуда. Что, собственно, мы и видим в финале романе, где автор, занесенный волею автора же, в Аргентину, пытается выбраться из своего же собственного сочинения, но мы так и не узнаем, удастся ли это ему, потому что роман тем временем незаметно заканчивается. У Платонова, кстати, тоже была безупречная пролетарская биография, закончившаяся созданием гениального «Чевенгура», книги, которая, на мой взгляд, занимает в нашем российском менталитете такое же место, как «Улисс» Джойса в менталитете западном.
Но я, упаси Бог, вовсе не собираюсь обвинять Александра Белых в гениальности, которая, как известно, всегда находится на грани безумия. И он вовсе не выпадает из современного литературного контекста, где уже существует «Кесарево свечение» Василия Аксенова и его же «Новый сладостный стиль». Где дерзает «в поисках утраченной метафизики» мой сверстник Анатолий Королев и экспериментирует с новой реальностью относительно юный Павел Быков (не путать с Д. Быковым, тоже пока что достаточно юным)!
И мне почему‑то не хочется пускаться в литературоведческие рассуждения о том, как сделан этот роман и что это – развернутая ли метафора о страшной и одновременно убогой силе женской любви, способной превратить выбранный объект в животное? Или книга странствий русской МЕРТВОЙ ДУШИ среди временно живых героев? Или просто – случилась, знаете ли, граждане, такая СКАЗОЧНАЯ история с ужасным концом, паренек японку полюбил, а она, сука, его заколдовала, научила есть похлебку из собачьих потрохов…
Пускай обо всем этом критики пишут, когда роман появится на прилавках.
Пускай себе соревнуются в рассуждениях о расцвете и закате постмодернизма, о концептуализме, авангарде и влиянии европейского декаданса на японцев, которые в свою очередь повлияли на писателя Белых.
А также о расширении границ русской прозы, о подлинном, не мнимом взаимовлиянии культур. Когда не «Книга оборотня» механически переносится на постсоветскую почву, а вырастают на этой почве диковинные, но вполне съедобные плоды, корешки которых находятся неизвестно где, в неизвестном пространстве, неизвестном времени, отчего и не имеют никаких зримых границ.
Мне, впрочем, пора закругляться. Я лишь добавлю напоследок, что роман «Сны Флобера», на мой взгляд, – это подлинная, высококачественная, штучная русская современная книга. Кто‑то такую книгу на переходе второго тысячелетия в третье должен был написать. И то, что это досталось сделать Александру Белых из Владивостока – его счастье.
12 февраля 2007 г.
Москва
ОТ АВТОРА
Это медлительное повествование, исполненное смысловых перверсий, может показаться слишком медленным для современного читателя, но его никто не торопит. Живите медленно, смотрите медленно, любите медленно! Это время медленной женщины – главной героини романа, способной (и не ведающей об этом) без волшебства, силой только своего чувства перевоплотить возлюбленного в образ своего вожделения.
Роман насыщен уликами идеального преступления, найти их – тоже своего рода медленное расследование. Для читателей срединной России действие происходит в экзотических местах – во Владивостоке и Японии, но события романа могли бы развиваться и в любом другом географическом месте. Это не столь существенно: превращение героя возможно только в метафизическом пространстве. И всё же место действия выбрано не случайно.
Вы станете свидетелем не столько любовных отношений, сколько участником стилизованной и иронической литературной игры, в которой персонажи и их двойники – маски вовлечены в предсмертное сновидение любимого существа героини – сенбернара Флобера, чья душа странствует в поисках сочинителя и своего нового воплощения – быть может, самого читателя.
Роман о том, как пишется роман.
МАРГО КАРАУЛИТ КОФЕ
«Щенок Филька в Уфе:
один, без имущества, лежит на полу
в холоде. Всё, что можно сделать
в таком состоянии, –
весь инструмент должен заключаться
лишь в собственном живом туловище:
ни бумаги, ни пера!!»
Андрей Платонов. «Записные книжки», 1942.
Яркие вспышки битого стекла на косогоре среди рыжего глинозёма, камней и сухих прутиков полыни, колышимой северо – западным ветром, привлекли внимание сороки – белобоки из двойного гнезда на железобетонном фонарном столбе на углу высокой ограды городской тюрьмы.
Марго любила наблюдать за жизнью сорочьей семьи. Ей было невдомёк, что эти любопытные и прехитрючие птицы тоже могут шпионить за ней. Марго прищурила глаза. Её мысли вспыхивали и гасли.
Она думала: «Вот завести бы себе золотую рыбку, запустить её в маленький аквариум, совсем маленький, на литр – полтора – два – ах, найти бы такой круглый! – поставить на колени, обнять обеими руками и любоваться тихими зимними вечерами. Чем же кормят их, этих самых золотых рыбок? Ведь надо будет менять воду – из‑под крана нельзя – один раз в неделю, наверное, или реже, раз в месяц. Да – да, по четвергам, в мои творческие дни. Вот и славненько! Кстати, во что же она обойдётся мне эта радость? Ах, сколько забот сразу, слава Богу, что кошки еще нет…»
Марго представила, как пузатенькая рыбка с золотым позументом, увеличенная водой и аквариумным стеклом, лениво колыхая плавниками, открывает губастый рот и беззвучно, с паузами в долю секунды, артикулирует: «О! О! О! О!» Тонкие губы Марго невольно издали звук, похожий на звук лопнувшего мыльного пузыря. Пух!
Она близоруко смотрела вдаль сквозь очки, сквозь двойные стекла окна, за которым проходила жизнь, как в немом кинофильме. Да, да, вот именно, как в кино, в её собственном домашнем кино, которое она снимала когда‑то не в воображении, а на восьмимиллиметровую плёнку.
Сильный ветер выгибал ветви деревьев, срывая редкие листья; воробьиная стая, пугливо переметнувшись через тюремный забор, укрылась под карнизами высотных зданий; мимо мчались машины и троллейбусы, торопились пешеходы – всё это было как бы по ту сторону аквариума, в котором уныло и неприхотливо жила Марго.
Вид из её окна напоминал носовую часть огромного корабля, который будто врезался в синеву горизонта и, рассекая волны, куда‑то плыл, плыл, плыл – то ли к совершенству, то ли к смерти.
Бурные тёмно – синие волны и облака создавали у женщины ощущение бесконечного, непрерывного движения. Это ощущение не покидало Марго даже ночью: огни города, подобно палубной иллюминации, рисовали в её воображении контуры корабля, плывущего в черном пространстве, над которым проливался звездным молоком Большой Ковш. На исходе зимы на горизонте вырастали невысокие глыбы айсбергов – заснеженные сопки противоположного берега Амурского залива, подёрнутого синевой. Глядя в ночные окна, Марго часто приговаривала:
– Куда ж нам плыть?..
Тяжёлые буро – зелёные шторы, свисающие с карниза, словно листья ламинарии в сушильне, с пронзительным скрипом железных крючков отлетели вправо и влево – к стене с ковром и к стене с книжным шкафом. Марго впустила дневной свет в единственную комнату, служившую ей одновременно и спальней, и кабинетом, и гостиной, и медленно поплыла на кухню, чтобы выкурить сигарету. В шкафчике у неё хранилась початая красная пачка «Винстона», оставленная на прошлой неделе Артуром, студентом, сочиняющим под её началом диплом на тему о соотношении символа и реминисценций в поэзии Фудзивара – но Садаиэ.
– Оставь мне пару штук, хорошо?
– Да берите всю! – великодушно предложил Артур.
Кто‑то пустил слушок по коридорам азиатского факультета, что у него с Марго якобы роман, адюльтер, интрижка. Разговоры недоброжелателей окольными путями дошли до Артура, безобидного и, как она говорила, смазливого паренька, умеющего копировать голоса и жесты преподавателей. Эти сплетни вовсе не обескуражили его. Он даже немного возгордился сомнительной славой. Он был вхож в дом Марго, приносил на хвосте всякие коридорные сплетни, плохо отзывался об одном сокурснике – «этом, как его» – Оресте, который, мол, что‑то иронически – пренебрежительное сказал в адрес Марго и т. д.
Ещё раз пробежав глазами машинопись с переводами, она заметила ритмическую ошибку в стихотворении, но отложила бумаги в сторону – до очередного вдохновения. Чаще на помощь вдохновению приходила добросовестная усидчивость, в крайнем случае черновую работу подмастерья выполнял какой‑нибудь студентишка.
Вид из второго окна, где стоял её рабочий стол, был невзрачным: угол городской тюрьмы, телефон – автомат с разбитой кабиной; окна многоэтажных домов, из которых, казалось ей, наблюдают за её жизнью. Комнатные цветы на подоконнике – гортензия и разросшийся терновник – хоть как‑то заслоняли унылую картину, безрадостно напоминавшую район Текстильщики в хлебосольной Москве, где она не раз останавливалась у своих неприветливых родственников, приезжая в нечастые научные командировки.
Десять лет её однообразной жизни, одиноко проведенные в этой комнате, без ущерба можно уплотнить в один год, а весь год – в одно предложение. Одним словом, Марго жила тихо и почти без событий.
Вот это маленькое «почти» сидело в ней занозой. Она считала, что все главные события происходят не в биографии, а в душе, как у всякого русского интеллигента, – то есть где‑то в области метафизики. Её события были сродни маленьким духовным подвигам, которые совершают в тиши келий отшельники и монахи. И совсем неважно, если никто не заметит их, ведь на то есть Бог! Она верила в него не потому, что была религиозна, не из любви, а из опасения, на всякий случай, как бы впрок, словно покупала одежду на вырост, en disponibilite`, а вдруг её вера да пригодится в лихую годину. И всё же она считала чудовищным, что её жизнь, исполненная духовных подвигов, когда‑нибудь обозначится прочерком, минусом между двумя датами – рождения и смерти.
«Кстати, – предавалась математической мистике Марго, – если от меньшего числа, то есть даты рождения, отнять дату смерти, то получится число со знаком минус, которым означается время инобытия. Приходит время расплаты, а за прожитые годы набегают проценты. И платить нужно всегда больше, чем тебе отмерено на жизнь. А чем платить? Конечно, числом перерождений!»
Она предчувствовала, что если нагрянет смерть, то никто не будет проливать скорбных слёз; поговорят немного и благополучно забудут. В крайнем случае, какой‑нибудь читатель полистает её книжки. Слабое утешение. «Что вечности до наших дней, до наших деяний?» – приговаривала Марго. Однако ею двигало желание оставить след в душе человечества, за что и следовало бы уважать любого деятеля, если бы не было так много желающих наследить да натоптать на этой земле, а потом удалиться в бессмертие с чувством выполненного долга.
Когда‑то будущее для Марго представлялось в виде тихой уютной комнаты, куда она однажды придёт с запотевшими от мороза очками, поставит вещи у порога, снимет пальто и скажет: «Ну, вот я и дома!» Уют для неё ассоциировался со щенячьей лаской любимого, подаваемого по утрам чашечкой кофе, литературными трудами. Это была комната грёз, вроде волшебной коробочки – откроешь её, и сразу нарисуется отдельно взятое будущее. В нём время переставало быть. И вот она стояла на его пороге, а позади неё захлопнулась дверь.
* * *
Сквозняк хлопнул дверью так громко, что стёкла продолжали дрожать, пока она снимала кожаное пальто. Комната грёз превращалась в комнату скудных воспоминаний, в комнату тревог, перерастающих в безвольное отчаяние без жалоб, без проклятий. Не каждая вещица – свидетельница какого‑нибудь события – могла вспомнить, при каких обстоятельствах она появилась в негромком доме Марго.
Её жизнь была похожа на ежедневное восхождение к неведомым вершинам, но каждый раз она оказывалась на девятом этаже своей однокомнатной, стандартной квартиры. Когда Марго погружалась в чтение, её комната как бы изменялась во времени: из коробочки для вещей она превращалась в средневековый замок с черными деревянными полами, с ширмами, с шорохами, шёпотом и призрачными тенями. В этом замке было множество комнат. Однажды она отправилась по дороге вчерашнего дня и заблудилась. И никто не кинулся её искать. Только сквозняк завывал вслед, как сейчас между домами. У – у-у!..
При одной мысли, что комната её грёз превратится в комнату смерти, бедную Марго знобило, мозг пронзали иглы – казалось, он ощетинивался, словно тот ёжик, которого она однажды в детстве нашла в пригородном лесу. «Господи, кто же будет меня выносить?» – просыпалась она по утрам с этой жуткой мыслью. Однако она боялась не столько смерти, сколько сопутствующих ей обстоятельств: мертвецкой, трупов, отпевания, музыки, погребения.
Её будущее обретало новый смутный образ – комната в богадельне. «Нет, нет, нет!» – в отчаянии шептала она, натягивая на голову одеяло, и крепко жмурилась. Она считала до пятнадцати, подавляя слёзы; потом открывала глаза. Никого не было, все уже успели спрятаться! Ей вспомнилось, как её обманули в детстве ребята, когда играли в прятки: вместо того, чтобы спрятаться, они убежали от неё на море.
«Инти – инти – интерес, выходи на букву О. Орест, Осирис, Орёл, Осёл. Где вы все, мои любимые? Пойти на базар, купить курицу, запечь в духовке, сегодня Владик придёт на обед…»
Марго отвернулась от окна, чтобы проследить за кофе.
Любовь её, как правило, черпала силы в ревности. «Ревность – вроде речного ложа, которое принимает, воды любви, удерживает их в своих берегах и даёт им направление, пока они не впадают в воды забвения, в которых неведомо куда плывёт мой бумажный кораблик вместе с домом на Орлином гнезде, вместе с кружащими над ним коршунами». Ей припомнилась эта фраза из дневника Владика. Марго примеривала эту «мальчиковую» мысль к себе – она была ей впору. Чувство ревности подменяло её любовь, вступало в пугливый союз с местью. Это был волшебный пьянительной напиток…
Марго вспомнилось, что когда‑то в детстве она жила с мамой в комнате ожидания на железнодорожном вокзале в течение трёх дней. Папа не встречал. В управлении сказали, что на одной шахте случился взрыв, и ему пришлось уехать в командировку, соседей тоже дома не оказалось. Она улыбнулась той детской улыбкой пухленькой девочки с косичками, которые заплетала по утрам бабушка своими сухими, как пергамент, руками. Они были в гостях в другом городе, в Благовещенске. Когда приехали домой, то выяснилось, что забыли ключи на этажерке в прихожей. Дали телеграмму родственникам с просьбой передать ключи через знакомого проводника. В ожидании ключей они жили на вокзале. Это были самые замечательные дни. Гнусавый тявкающий голос из репродуктора объявлял поезда; станционные огни светили в большое окно комнаты матери и ребёнка; она засыпала под стук колёс, отправляясь с восьмого пути, или со второго, или с пятнадцатого в неведомые города, так похожие на её грёзы.
Она поймала себя на мысли, что путешествие еще не закончилось, что она продолжает куда‑то плыть вместе с сорокой на столбе и двухэтажным гнездом, вместе с машиной, выезжающей из ворот тюрьмы и тюремными склянками в полдень.
Если бы она доверила свои печальные мысли дневнику, который неприхотливо вела на обратных страницах чужого дневника (Марго переводила его последние два года), то навряд ли какой‑нибудь читатель откликнулся бы сочувствием к её печали. Не потому, что она была поддельной, а скорее, наоборот: в мгновения подлинных чувств редко находятся истинные, единственные слова – вот почему страница, датированная сегодняшним числом, останется навсегда нетронутой, пустой.
Она переводила средневековые дневники японской придворной дамы, прислуживавшей в императорских покоях. Необычность дневника была в том, что дама писала от лица мужчины. В нём описывалась любовная история мальчика четырнадцати лет. «Во времена правления императрицы Кокэн жил один монах при храме Такамадэра, что находится в провинции Ямато. И вот однажды случилось несчастье: умер его самый любимый послушник. Монах был неутешен в горе, но прошли дни и месяцы, и он стал постепенно забывать о нем. Однажды весной в его сад прилетел соловей, сел на ветку сливы и запел словами. Священник удивился, но все‑таки записал слова. Перечитав их еще раз, он обнаружил, что слова слагались в стихотворение в китайском стиле: «Я прилетал сюда каждое утро ранней весной, но, не увидев тебя, я возвращался в свое гнездо». Священник, тронутый до слез, понял, что это был перевоплощённый в соловья его любимый послушник. Он вытер слезы и несколько раз прочитал молитву об успокоении души мальчика…»
Марго, стоя возле окна, сложила руки на груди. Наружные стекла были испещрены пыльными оспинками. «Никого не разжалобишь в этом мире, разве что Бога! Да и окна надо бы помыть…» Глаза её затуманились слезами. Дома накренились, воображаемый корабль накренился вправо, зачерпнув тёмно – синие воды Амурского залива; четкие очертания городского пейзажа стали расплываться, троллейбусы сталкивались с автомобилями, деревья валились наземь, прохожие передвигались с трудом, их зонты выворачивало наизнанку. Марго невольно схватилась руками за подоконник, чтобы удержаться в этой причудившейся качке, прислонилась головой к стеклу, словно золотая рыбка в аквариуме, мысль о которой вызвала внезапные слёзы. Они скатывались по щекам, прокладывая холодный след. Где‑то в груди застрял мучительный стон, затем он подкатил к гортани и вырвался глухонемым бессильным «О».
Этот воображаемый тайфун длился, пока варился кофе, пока она оплакивала свою жизнь, свою любовь. Кто‑то говорил ей: «Когда уходит любовь, что остаётся от сердца? Ведь каждый возлюбленный отламывает от него лакомый кусочек». Если бы она сейчас увидела себя в зеркале, то повторила бы с усмешкой своё излюбленное выражение: «Как я красива в печали!» Её печали, как стекающая вода в жёлобе, закручивались всё сильней и сильней. «А в будни я такая дурнушка. Почему я такая красивая сейчас? Именно сейчас, когда совсем недурна собой, меня покидают. Не прощу ему! Никогда не прощу! Я ведь знала, чем всё закончится! Ещё прибежит ко мне, как пёс бездомный, лизаться будет, извиняться… Прочь, слёзы! Прочь!»
Кого она гнала от себя? Она прогоняла память, она желала бы стереть её ластиком как что‑то постыдное или обидное.
Из‑за тучи вновь вынырнул солнечный луч. Цап – царап – и его поймал осколок бутылочного стекла, лежащий под откосом сопки. Марго зажмурила глаза, вытянув шею. Сквозь прищур она посмотрела вниз, словно с обрыва, припоминая с замиранием в сердце сегодняшний сон. Дужки её очков глухо звякнули о стекло окна.
В какую‑то долю секунды ночная картинка в смутных образах промчалась перед её глазами. Голова пошла кругом. Солнечный зайчик снова выскочил из жидких кустиков полыни. Луч метнулся вверх и коснулся ресниц Марго. Вдали, в заливе набухал под ветром фиолетовый парус белой яхты, уступая дорогу огромному океанскому лайнеру – полуострову с расположенным на нём городом.
Дома качнулись в другую сторону. Корабль неуклонно продолжал идти своим намеченным курсом. Волны беспомощно барахтались в море. Это напомнило Марго о белых хризантемах – излюбленной поэтической метафоре японцев, кстати, позаимствованной у китайцев. Она играла с солнечным лучом в жмурки, представляя, что это её золотая рыбка, колыхая плавниками, отсвечивает чешуёй под электролампой, когда долгими зимними вечерами она будет сидеть за каким‑нибудь вязанием или распускать старую кофточку. Нет, она распустит свитер, связанный когда‑то для Ореста, её инфантильного мучителя и негодяя!
Марго знала, как задобрить свою печаль. Она решила связать себе платье – длинное, до самых пят, «чтоб не задувал низовой ветер». Оно покроется цветами, как вишни на острове Рейнеке. Пусть одна веточка вытянется по диагонали через всё платье – точь – в-точь как узор в иностранном журнале по вязанию.
Она вспомнила разговор с мамой по телефону: «Я же говорила, что он тебя бросит. И бросил! С кем ты связалась…» Вместо сочувствия в голосе мамы слышалась горделивая правота. Скорее, это было злорадство, как показалось мнительной Марго. «Может быть, теперь ты будешь уделять мне больше внимания…» Эти слова больно задели её самолюбие явной несправедливостью, потому что Марго исправно звонила маме, раз в неделю заходила к ней домой проведать после работы. Однако её приход почти всегда заканчивался маленьким семейным скандалом, после чего она порой целую неделю не могла набрать номер маминого телефона. Это служило поводом для очередного упрёка, препирательства тянулись годами, они стали правилом их отношений, как застарелая болезнь. Их конфликты произрастали из скрытого женского соперничества, хотя делить им было некого и нечего.
Марго, будучи филологической дамой, занималась, по собственному саркастическому выражению, авторской наукой и, компилируя чужие труды, сочиняла свои книжки. Коллеги не шибко уважали её за эти праведные труды. Они занимались тихим семейным строительством, были далеки от писательства, тем более от научных интересов, и всё‑таки завидовали Марго. «Ну, конечно, ей можно заниматься наукой, она же без семьи!» – говаривала бывшая подружка Марго по аспирантуре. Всю московскую аспирантуру подружка пробегала в поисках суженого, никогда не терялась с мужчинами, а Марго просиживала свои лучшие годы в библиотеке иностранной литературы, занимаясь изысканиями. Вечера тоже проводила за книжкой, читая малодоступного, утомительного, как бабушкино веретено, Марселя Пруста, часто представляя себя то девушкой в цвету, то в образе Альбертины. Если б она знала тогда, что в этой героине, скрывающейся за портьерой, писатель изобразил личного шофёра, своего возлюбленного Альберта Агостинелли.
Мама её, Тамара Ефимовна, «уважала» выпить. Немного. Будучи слегка во хмелю, она часто поднимала болезненную тему женского одиночества:
– Вон Э. и сына родила, и замуж вышла, ну и что, что не закончила аспирантуру, что от этого, потеряла что‑то, нет же…
И так далее в том же духе. Если кто‑то появлялся на личном горизонте дочери, мать начинала ревностно расспрашивать, что да как, достоин ли он, исподволь подталкивая к мысли, что он не годится, и все заканчивалось пустыми хлопотами, как говорили карты, которым верила или не верила, но всегда гадала на червовую даму.
– Где же я буду искать, не на улице же? – отговаривалась Марго.
– А где находит Л. своих мужей? На улице, уже четвёртого! – не унималась мама.
– Она такая вертихвостка! Всегда в обнове, вся в золоте, на каждом пальце… Она так поправилась.
Раньше, сокрушалась Марго, на студенческую стипендию она могла купить себе золотое колечко, а теперь что? Даже на две зарплаты не купишь!
Как ни странно, сплетни о подругах примиряли мать и дочь.
– Невезучая ты у меня. В кого только? А род‑то вымирает ведь…
– Ведь! – с досадой повторила Марго.
Впрочем, однажды она заговорила на улице у киоска с незнакомым молодым человеком. Он выбирал перчатки на осень, весело разговаривая с продавщицей. Вот тут‑то она вставила слово (кто тянул её за язык?): мол, как эти бежевые перчатки идут к его плащу, а потом добавила – и к цвету глаз тоже. Молодой человек улыбнулся уютной, домашней улыбкой.
– Правда, идут? – спросил он. Потом представился: – Герман, а как зовут вас?
Она постояла рядом и, ничего не купив, пошла своей дорогой с односторонним движением. Когда обернулась на мужчину, их взгляды встретились. Он снова улыбнулся. Незнакомец уходил без покупки. Он не принял совета женщины. Дня через три она вспомнила с грустью эту улыбку, а однажды лицо этого мужчины снова мелькнуло в толпе. Как она тосковала по этой обыкновенной улыбке! «Почему я не могу так запросто, непринуждённо разговаривать с людьми на улице?» – спрашивала она себя.
Она не просто смущалась, а избегала мужчин. Душа её была похожа на раковину, которая сразу захлопывает створки, едва к ней прикоснешься. Видимо, из‑за этого судьба привела её к изучению средневековой литературы. Однако настоящее редко нуждается в прошлом, когда все озабочены повседневностью. Марго продолжала жить в отблеске чужих жизней, чужой культуры, давно умерших чувств, чужих утрат. Порой она оказывалась во власти ощущения, что время утрачивало линейное течение, замыкалось в самом себе. В сознании Марго эпохи существовали одновременно, наслаивались друг на друга по образу китайской пагоды. И вот, когда время – река переставала течь, и в неё можно было входить и дважды и трижды, с Марго происходили странные метаморфозы. Персонажи переводимых произведений как бы выходили из текста и становились её собеседниками, и Марго уже не различала, кто есть кто. Общаться с книгами великих мертвецов было безопасней, чем с людьми на улице, на кафедре или в магазине. Какое же разочарование внушило Марго эту мизантропию?
Как‑то перечитав дневник дочери Сугавара – но Такасуэ, она разрыдалась над горестями девушки, приняв их близко к сердцу, как свои собственные. И вправду это были печали Марго. «…В то время собою я не была хороша, но думала, что повзрослею и расцвету небывалою красотой, и у меня непременно будут длинные – длинные волосы…» Она пряла нить своих и чужих печалей. Реальным людям значительно сложней сочувствовать, чем литературным персонажам.
Марго хотела прожить свою жизнь без черновиков, набело, вот и не решилась замарать чистый лист бумаги. Она пошла в бабушку, которая приучала внучку к умным книжкам. Когда‑то до революции их семья была богатой; её отец, купец первой гильдии, торговал пушниной. Бабушка хотела учиться в Сорбонне.
– Катенька, зачем тебе учиться? У меня денег столько, что их хватит на тебя, на твоих детей и еще на внуков, – говорил отец, сдувая пылинки с воротничка.
Вот эту свою страсть к знаниям бабушка внушила Марго, которая сожалела, что дед отказался бежать из Владивостока вместе с белыми, когда бежали все, у кого имелся хоть какой‑то маломальский капитал. Приказчик звал деда в русский Харбин, а затем – куда Бог укажет: в Австралию, Европу или Америку… Он отказался из‑за болезни. Дедушка умер в начале тридцатых годов, когда разорившиеся крестьяне заполняли городские улицы.








