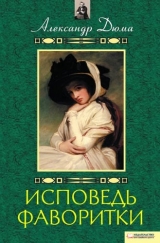
Текст книги "Воспоминания фаворитки [Исповедь фаворитки]"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 66 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
XLII
На следующий день, 30 апреля, мы получили от английского посольства билеты на открытие или, вернее, на торжественное вступление Генеральных штатов в Версаль. Наш отъезд был намечен на день, следующий за этой церемонией, то есть на 5 мая.
Если бы штаты снова не собрались, мы бы продолжили наше путешествие: сэр Уильям не рассчитывал продлевать долее свое пребывание во французской столице.
Вечером 3 мая мы отправились в Версаль, где решили провести ночь. Английский посол нанял там на полгода домик, предполагая, что пульс нации будет биться именно здесь, а не в столице, и выделил нам две комнаты во втором этаже, поскольку дом находился прямо на пути торжественной процессии.
Сначала мы выслушали мессу на сошествие Святого Духа, которую отслужили на открытом воздухе. Сомневаюсь, много ли присутствовавших вдумывались в слова Писания: «Ты сотворишь род людской, и обновится лицо земли». Чуть ранее окончания «Veni Creator» [28]28
«Приди, Дух животворящий» (лат.).
[Закрыть]мы возвратились к себе, чтобы занять места и понаблюдать за процессией.
Широкие улицы Версаля, окаймленные шеренгами французской гвардии и швейцарской гвардии, украшенные полотнищами с королевскими лилиями, не могли вместить толпу.
Весь Париж был в Версале. В дверях, окнах, на крышах и даже на деревьях были люди; затянутые расшитыми золотом тканями и драгоценными шалями балконы служили ложами женщинам, чьи уборы поражали обилием перьев и цветов. Можно было бы сказать, что в преддверии гражданской войны женщины, над головами которых уже нависли законы против роскоши, продиктованные заботой о всеобщем равенстве, воспользовались случаем еще раз показаться во всем блеске своих нарядов.
Все понимали: начиналось что-то грандиозное. Но что из всего этого выйдет, никто пока не мог и предположить.
Прежде всего в начале улицы возникла какая-то черная масса: то шли представители третьего сословия. За ними – пятьсот пятьдесят депутатов; среди них три сотни законоведов, адвокатов, магистратов – почти сплошь незнакомые имена, кроме одного, известного своими скандалами. Надо ли кривить душой? Именно из-за него я и приехала в Версаль: ради Оноре Рикети де Мирабо.
Во Франции и за рубежом громко звучало его имя; его любовные похождения, похищения, адюльтеры, тюремные заключения – все составляло страницы увлекательного романа, более насыщенного приключениями и зловещего, нежели романы, созданные воображением поэтов.
Я только и спрашивала: «Где же Мирабо? Где же Мирабо?»
И мне его показали.
Уже издалека я увидела гордо посаженную повелительно-невозмутимую голову, лицо, отмеченное мощью и уродством, надменно откинутую со лба гриву, целый лес волос. Все общество той эпохи воплотилось в одном-единственном человеке. Я говорю «единственном», поскольку рядом с ним остальные выглядели бесплотными тенями.
Я провожала его глазами, пока могла его различить.
Его появление, вернее, шествие третьего сословия, было встречено целой бурей рукоплесканий и криков «браво», тотчас смолкнувших, лишь только появилось дворянство.
В полной противоположности с простотой и одинаковостью нарядов третьего сословия, дворянство, все в бархате и шелках, ослепляло яркостью красок и блеском золотого шитья.
Я стала спрашивать имена двух десятков самых заметных смельчаков: ни одно из них не было мне известно. Мне показали Лафайета, героя Америки; я приготовилась увидать некоего колосса телом и духом, самим Провидением созданного для того, чтобы голосом, пером и шпагой отстаивать великие принципы. Увидела же я хрупкого юнца, с бледным, вернее, с нежно-розовым лицом, обрамленным белокурыми локонами; в нем ничто не свидетельствовало о той роли, какая ему уже выпала и, главное, какую ему еще предстояло сыграть в будущем.
Дворянство прошло, но хлопали только герцогу Орлеанскому, причем с остервенением: было известно, что это причинит боль королеве, и все горели мстительным злорадством.
Уже довольно давно между Филиппом Орлеанским и Марией Антуанеттой шла настоящая война; возникшей между ними антипатии давали самые причудливые истолкования: она уже длилась более восьми лет и угаснуть ей суждено было только на эшафоте, куда они поднялись почти одновременно – с разницей всего в двадцать два дня.
Вслед за дворянством показались священнослужители. Они также прошли в тишине. В их рядах, казалось, объединились оба сословия, до того продефилировавшие перед нами по отдельности: дворянство и третье сословие.
Действительно, впереди шествовало человек тридцать прелатов в стихарях и фиолетовых мантиях, за ними – хор музыкантов и, наконец, – примерно две сотни кюре в своих черных сутанах.
Этим последним горожане не рукоплескали, но как бы по внутреннему повелению души придвинулись к ним поближе. Ведь перед ними были люди Церкви, те, кто в первые века христианства не только представляли весь народ, но и защищали его свободу.
Конечно, впоследствии эти люди несколько отстранились от предначертанной миссии, однако им готовы были простить ошибки, если они снова вступили бы на верную дорогу.
Когда показался король, это тоже вызвало несколько хлопков, но радовались ему гораздо меньше, чем появлению Мирабо или герцога Орлеанского.
Затем показалась королева. Между моим первым и вторым приездом в Париж она страшно переменилась: прелестной мягкости лица не осталось и в помине, на ее смену пришла какая-то сухость, блеклость и раздражительность.
Ей принялись кричать почти что в самые уши: «Да здравствует герцог Орлеанский!», и среди яростных воплей послышался громкий свист. Она побледнела и готова была лишиться чувств.
Но, видимо, призвав на помощь все свое мужество, она совладала с собой, подняла голову, окинула собравшихся вызывающим взглядом, полным ненависти и гнева, а затем к ней вернулось обычное ее выражение презрительной черствости.
Как только королева миновала наши окна, я отошла в глубь комнаты и села. У меня было такое ощущение, будто мне в сердце вонзили острую льдинку, и, если бы мне сказали: «Эта железная тростинка не даст себя согнуть и будет сломлена» – я бы нисколько не удивилась.
Мы немного отдохнули и, поскольку уже увидели все, что нам хотелось, решили возвратиться в Париж.
На обратном пути сэр Уильям разъяснил мне то, что я сейчас только видела: оказывается, разгоралась настоящая баталия – низшее духовенство и третье сословие не на шутку настроились против высших прелатов и дворянства, поддерживаемых королем.
Однако все эти соображения были слишком серьезны, чтобы надолго удержаться у меня в голове. Выпавший мне недобрый жребий осудил меня окунуться в политику совсем другого государства, однако там меня подталкивало двойное чувство глубокого дружеского участия к королеве Каролине и неодолимой любви к Нельсону. Знаю, придет такой миг, когда ни то ни другое уже не послужит мне к оправданию, однако же, если мне все равно неминуемо придется платить по столь ужасному счету, я бы хотела делать это во имя любви и признательности, а не во имя корыстного интереса.
Мы покинули Париж на следующий день, 5 мая 1789 года. Назад мы отправились через Бельгию и Швейцарию, вновь переправились через Сен-Готард, спустились к Лаго Маджоре, а затем добрались до Ливорно, там пересели из экипажа на фелуку и уже 20 мая ступили на берег у Иммаколателлы.
По возвращении в посольство сэр Уильям нашел записку от короля, составленную в следующих выражениях:
«Мой дорогой сэр Уильям, на следующий же день после Вашего приезда я ожидаю Вас на обед к нам в Казерту, однако королева, желая сначала поближе познакомиться с Вашей очаровательной супругой, что невозможно во время официального представления, будет ожидать ее между одиннадцатью часами и полуднем.
Посему Вы вольны заниматься вашими делами до четырех часов, но пришлите, как голубку ковчега, леди Гамильтон, чтобы она возвестила Ваш приезд.
Дружески Ваш Фердинанд Б.»
Мой супруг тотчас ответил:
«Государь,
голубка прилетит к Вам в назначенный час, но не уповайте на оливковую ветвь: опасаюсь, что еще долго эти деревья не будут разводить во Франции.
Сам я не премину в указанный мне час отблагодарить Ваше Величество за его знаки благоволения к моей особе.
С уважением имею честь быть покорнейшим и преданнейшим слугой Вашего Величества
У. Гамильтон».
Как видно, мой триумф оказался полным.
XLIII
Из Франции я привезла множество нарядов и некоторое время колебалась, какой из них выбрать при представлении королеве. Остановилась на самом скромном.
Платье белого атласа, белое перо в волосах, голубая кашемировая шаль на плечах – вот все роскошества, какие я себе позволила.
В десять часов я отправилась в Казерту и уже в одиннадцать поднималась по большой парадной лестнице дворца. Меня провели во второй этаж и распахнули двери в коридор – королева уже ожидала в своих малых апартаментах.
Не могу передать, как у меня билось сердце, я была бледна, вся кровь прилила к груди… Наконец после трех или четырех раскрытых передо мной и затворившихся за моей спиной дверей была распахнута последняя – в глазах у меня померкло, как от вспышки яркого света, и я услышала, как лакей, приведший меня, произнес:
– Леди Гамильтон!
Я вошла, ничего не видя перед собой, на глаза пала пелена, я попробовала сделать реверанс, но пошатнулась и принуждена была опереться на кресло.
Тут я почувствовала, что меня поддерживают за талию.
– Что с вами, миледи? – произнес благожелательный голос.
– Прошу прощения, государыня, – пролепетала я. – Волнение от столь желанной и давно ожидаемой чести увидеть ваше величество…
– Ох! Бог ты мой! Неужели я внушаю такое почтение?
– Но, государыня, вы королева.
– А вот здесь вы заблуждаетесь: я прежде всего женщина, притом нуждающаяся в подруге. Если вы принесли мне свою дружбу, то это такой дар, что мне никогда не отплатить вам. Однако довольно об этом, присаживайтесь рядом и дайте мне хорошенько вас разглядеть.
Невольным движением я попыталась укрыть лицо ладонями.
– Ну-ну, позвольте же мне как следует рассмотреть ваше прелестное личико, на которое мне раньше приходилось взглядывать лишь украдкой и искоса!
У меня вырвалось несколько непроизвольных стонов, и я разразилась рыданиями.
– Ох, это еще зачем! – вскричала королева. – Я не могла и предположить, что вы до такой степени не владеете собой! Послушайте, мне ведь, наверное, надо бы принести вам свои извинения?
– Что вы, государыня! – только и прошептала я.
– Да она кокетка! – воскликнула королева. – Обычно женщин уродуют слезы, а она знает, что ее они красят еще больше. Ну, полно. Перед вами женщина, и только. Бесполезно делать la civetta [29]29
Глазки (ит.).
[Закрыть]. Позвольте мне осушить ваши слезы – и поболтаем.
Действительно, королева попыталась утереть мне глаза, но я бросилась на колени и стала целовать ей руки.
– Ну, так вот лучше! – сказала она. – А когда я вас расцелую в обе щечки, мы будем квиты.
И королева поцеловала меня.
– Вот! – промолвила она. – Теперь, надо полагать, со всем этим ребячеством покончено? Садитесь подле меня, и давайте подружимся… Разве что вы сами не захотите, но тогда уже моей вины в том не будет.
Не находя слов, я только улыбнулась ей самой благодарной из улыбок.
– Так в добрый час! – облегченно вздохнула она, играя моими локонами. – Терпеть не могу, когда утро начинается с дождя.
– Ах, государыня, – пробормотала я, – кто бы сказал, что великая королева, августейшая дочь Марии Терезии…
– Полно, полно!.. А впрочем, к слову сказать, я знаю, что вы видели в Версале мою сестру; в своем последнем послании она пишет, что во Франции все складывается как нельзя хуже, что она очень страдает и стареет на глазах. Что во всем этом правда?
– Увы! Ваше величество, я не видела королеву Франции целых восемь лет и должна признать, что за это время она распрощалась со всем, что есть в жизни прекрасного и дающего радость.
– Ну, а я не видела ее уже целых девятнадцать лет, что же представится мне, когда мы снова увидимся? Бедная Антуанетта!
– При всем том ей только тридцать три, – возразила я. – А в тридцать три женщина еще молода.
– Но не тогда, когда она на троне, – внезапно нахмурив брови, заметила Каролина. – Впрочем, если тучи будут и далее сгущаться, нам самим придется принимать меры. А теперь позвольте рассмотреть ваш туалет. Не знаю, вы ли так подходите к вашему платью, или оно божественно идет вам, однако несомненно, что вкус у вас отменный. Я сделаю себе точно такое же. К тому же у меня есть кашемировая шаль, похожая на вашу, и мы будем выглядеть как две сестры.
– О, государыня!..
– Разумеется, вы будете младшей. Сколько вам лет? Двадцать три?
– Чуть больше двадцати шести, ваше величество.
– У вашего лица есть один неоценимый изъян, моя дорогая: оно лжет в вашу пользу. Со мной все наоборот: я всегда казалась старше своих лет. Надеюсь, вы не будете досаждать мне комплиментами?.. Так договорились, вы завтра пришлете сюда ваше платье, и я сделаю себе такое же… Хорошо! Кто там нас собирается побеспокоить? А-а, это король! Узнаю его походку.
– Король, государыня? – встревожилась я и вскочила. – Я, как вы имели случай убедиться, малосведуща в том, что касается этикета – так что мне сейчас делать?
– Как что? Конечно, остаться. К тому же его величество никогда не приходит надолго; наши сцепляющиеся атомы, как говорил покойный Декарт, все никак еще не сцепятся.
В тот же миг дверь открылась и, шумно топая, вошел король.
Впрочем, это только так говорилось: «король», и мне чрезвычайно повезло, что ее величество предупредила меня, сказав, что узнала походку короля, ибо в том похожем на крестьянина человеке, который вторгся в покои Марии Каролины, я никогда не угадала бы монарха.
Представьте себе еще молодого высокого мужчину, довольно хорошо сложенного, несмотря на слишком крупные руки и слишком большие ноги, обутого в охотничьи сапоги с кожаными гетрами; он был облачен в замшевый жилет, бархатные кюлоты и куртку; его загорелое лицо с покатым лбом, безвольным подбородком и огромным носом, придававшим ему сходство не столько с орлом, сколько с попугаем, было увенчано прической на манер собачьих ушей, с косицей, похожей на корень козлобородника; в руках он сжимал лапки трех отчаянно клохтавших индеек, бивших крыльями, а если ко всему прибавить жесты простолюдина, грубоватую речь – портрет короля Фердинанда IV будет завершен.
– О Господи! – вздохнула королева. – Что это вам взбрело в голову, сударь? Я уже привыкла наблюдать, как вы возвращаетесь в комнаты прямо с охоты, однако, сегодня, по-моему, вы придумали кое-что получше и явились прямо из птичника?
– Ах, моя дражайшая наставница, – воскликнул Фердинанд, обращаясь к ней так, как привык именовать ее в часы хорошего настроения (ведь именно она почти в буквальном смысле научила его читать и писать), – не вы ли говорили мне частенько, что, не будь я королем, я не смог бы заработать себе на хлеб насущный? Вот я и решился доказать вам обратное. Вы только посмотрите на этих прекрасных индеек.
– Смотрю.
– Окажите мне удовольствие, пощупайте их.
– Извольте, сударь.
– А теперь ваша очередь, миледи.
И он сунул их мне под нос. Я не знала, как поступить, и замешкалась.
– Пощупайте, пощупайте! – добродушно настаивал он. – Поскольку вам предстоит отведать их за обедом, нет ничего дурного в том, чтобы заранее убедиться, что они достаточно жирны. Надеюсь, сэр Уильям будет у нас к обеду?
– Он будет иметь честь прибыть по приглашению вашего величества.
– И не прогадает! Ведь ему подадут индеек, которых я добыл.
– Однако же, сударь, – с видимым нетерпением вскричала королева, – закончите, наконец, историю этих несчастных птиц!
– Вы можете сказать и мою историю, наши пути так сплелись, что их не различить. Представьте себе: прогуливаюсь я накануне вечером в саду и встречается мне бедная женщина; она останавливает меня и говорит:
«Сударь, мне сказывали, что если я стану здесь, то попадусь на глаза королю, когда он будет прогуливаться. Не знаете, скоро ли он покажется?»
А я ей и отвечаю: «Весьма вероятно, что скоро, добрая женщина».
Она же не отстает от меня и все допытывается: «А как он будет одет, чтобы мне его признать?»
Сначала я подумал, не описать ли мне внешность какого-нибудь Сан Марко или Асколи, но мне вздумалось идти до конца.
«Послушайте, – сказал я ей. – Поскольку король далеко не каждый день прогуливается здесь, а значит, вы можете без толку прождать его до самой темноты, поступим иначе: если у вас есть к нему какая-нибудь просьба, изложите ее мне, а я обязуюсь передать ему».
«Я была бы вам премного благодарна, – говорит тут эта женщина. – Я всего лишь бедная вдова, и у меня ничего нет, кроме трех индеек, однако если вы сдержите слово, я отдам их вам».
«А они жирные?» – осведомляюсь я, ибо, как вы сами понимаете, мне было бы нежелательно покупать кота в мешке.
«Жирные, как гуси, сударь мой!» – заверяет она.
«Тогда по рукам. Приходите завтра с вашими тремя индейками. Прошение у вас с собой?»
«Да!»
«Так дайте его мне… Завтра я принесу его вам с королевской подписью. Я вручу вам вашу бумагу, вы мне дадите индеек – и мы будем в расчете».
«Значит, ты мне, я тебе?»
«Именно так: ты мне, я тебе!» – говорю я.
Как вы понимаете, я решил не уклоняться от повторной встречи: поставил там своего человека поджидать старушку, и на следующий день он мне докладывает: «Там пришла крестьянка с тремя индейками». Я спускаюсь к ней, вручаю ей заблаговременно подписанное мною прошение, а она мне – три индейки. Бедняжка, боюсь, что напрасно она пустила на ветер все свое достояние.
– Это почему?
– Потому что судьи навряд ли примут во внимание мои пожелания. Но на сей раз я исполнен решимости пойти на все – вплоть до государственного переворота, – чтобы к бедной вдове отнеслись со всей справедливостью… разумеется, если индейки придутся нам по вкусу!
И король, хохоча, вышел вон, держа в руках трех индеек, с намерением собственноручно отнести их повару.
Королева проводила его взглядом, исполненным, как мне показалось, едва прикрытого презрения, а затем вновь обратилась ко мне:
– Вы все видели сами, – сказала она. – Мне тут нечего прибавить.
Невольно я пригляделась к ней попристальнее.
Она действительно выглядела на свои тридцать семь лет, так что в ее облике красота зрелой матроны уже занимала место красоты молодой женщины; как и большинство северянок, она была светлокожей, с чудесными белокурыми волосами и голубыми глазами, способными передавать все оттенки чувств – от нежнейшей любви до жесточайшей ненависти (в последнем случае ее лицо начинало дышать такой суровой непреклонностью, какой никто не мог бы от него ожидать). Ее нос был прям и изящен, однако рот, хотя и прелестный, несколько портила выдающаяся вперед нижняя губа, свойственная всем принцессам австрийского правящего дома. Зато плечи, руки, пальцы были великолепны, однако привычка держать себя с царственным величием сковывала каждое движение королевы и похищала у нее немалую долю ее женского очарования. Итальянцы, как я уже упоминала, изобрели особое слово для определения такого рода пленительной непосредственности, какой не хватает коренным обитательницам полуострова: morbidezza; достаточно поглядеть на грациозно-беспечных креолок, чтобы лучше понять, что, собственно, они называют этим словом. Пока я ее разглядывала, королева со своей стороны изучала меня не менее пристально. Одна и та же мысль одновременно пришла нам в голову, и мы обе прыснули со смеху; ее рука обняла мою талию, она прижала меня к себе и поцеловала так страстно, как это более пристало бы возлюбленному, нежели подруге.
Я вздрогнула. Ее обращение со мной вдруг напомнило мне повадки мисс Арабеллы.
На обед мы отведали индеек, из которых приготовили жаркое и паштет. Птицы были жирны, но жестки – это объяснялось тем, что король не пожелал подождать несколько дней, чтобы птица достигла надлежащего состояния.
Вот каково было окончание этой истории с индейками. Как и предполагал Фердинанд, его подпись не оказала никакого воздействия: судейский прочитал его рекомендацию, но, сочтя, что монаршее предписание принадлежит к того рода услугам, какие нерадивые подчиненные вырывают у повелителя, воспользовавшись его невнимательностью или с помощью назойливости, только пожал плечами и отложил просьбу в сторону.
В итоге через две недели вдова снова оказалась у короля на дороге. Она устроила ему сцену и обвинила в том, что он воспользовался ее неискушенностью, заставив поверить в свое знакомство с самим королем.
– Послушайте, – предложил ей Фердинанд, – возвращайтесь-ка недели через две, и если дело не решат в вашу пользу, я обязуюсь заплатить по сотне дукатов за каждую вашу индейку.
Старушка только покачала головой, всем своим видом показывая, что не верит ни в победное завершение процесса, ни в возмещение убытков. Она удалилась, бурча сквозь зубы, что всегда выискиваются интриганы, которые много обещают, требуют платы вперед, а обещаний не держат.
Король же навел справки об имени судейского докладчика и повелел казначею судейской коллегии задержать его месячное жалование (его как раз надлежало ему выплатить через два дня), а если тот потребует объяснений, передать, что ему заплатят не ранее чем он покончит с процессом, в котором лично заинтересован его величество.
А уже через две недели монарх смог вручить вдове повеление суда, решившего дело в ее пользу, и, объяснив ей, кому она доверилась, присовокупить и три сотни дукатов, обещанных за тех самых индеек.








