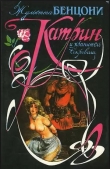Текст книги "Графиня Де Шарни"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 103 страниц) [доступный отрывок для чтения: 37 страниц]
– Да, разумеется! – воскликнул Жильбер. – Прошу прощения!
И он переступил через порог, чувствуя огромную тяжесть и пошатываясь, как пьяный.
Глава 28.
И СНОВА ОСОБНЯК НА УЛИЦЕ СЕН-КЛОД
Читатели знают, что Жильбер прекрасно умел владеть собой. Проходя через большой пустынный двор, он пришел в себя и поднялся по ступенькам крыльца столь же твердым шагом, сколь неуверенно он переступал через порог.
Здесь уместно заметить, что он уже знал дом, куда он входил, потому что бывал там в ту пору своей жизни, о которой сохранил в сердце волнующие воспоминания.
В передней он встретил того самого немца-лакея, которого видел здесь шестнадцать лет тому назад; он стоял на прежнем месте и был одет в похожую ливрею; но так же, как Жильбер, как граф, как сама передняя, он постарел на шестнадцать лет.
Фриц – читатели помнят, что именно так звали верного слугу, – с первого взгляда определил, куда хозяин хотел бы проводить Жильбера, и, торопливо распахнув две двери, он замер на пороге третьей, желая убедиться в том, не будет ли от Калиостро каких-нибудь дополнительных приказаний.
Третья дверь вела в гостиную.
Калиостро взмахнул рукой, давая Жильберу понять, что он может войти в гостиную, и кивком головы отпустил Фрица.
Он только прибавил по-немецки:
– Меня ни для кого нет дома до нового приказания. Он повернулся к Жильберу и продолжал:
– Я говорю так с лакеем не для того, чтобы вы не поняли, я знаю, что вы говорите по-немецки; а вот Фриц – тиролец, он понимает немецкую речь лучше, чем французскую. Ну, а теперь прошу вас садиться, я весь к вашим услугам, дорогой доктор.
Жильбер не удержался и с любопытством огляделся, поочередно останавливаясь взглядом на том или ином предмете или картине, служивших украшением гостиной, он словно вспоминал окружавшие его вещи.
Гостиная была в точности такой же, как раньше: восемь картин старых мастеров были развешаны по стенам; кресла, обтянутые вишневым камчатным шелком, поблескивали, как прежде, золотым шитьем в полумраке, царившем в комнате благодаря плотным занавескам; большой стол работы Буля стоял на прежнем месте, а круглые столики с севрским фарфором были все так же расставлены между окнами.
Жильбер вздохнул и уронил голову на руку. Любопытство к настоящему было на некоторое время вытеснено воспоминаниями прошлых лет.
Калиостро смотрел на Жильбера, как, должно быть, Мефистофель взирал на Фауста в ту минуту, когда немецкий философ имел неосторожность предаться в его присутствии своим мечтам.
Неожиданно раздался его пронзительный голос:
– Вы как будто узнаете эту гостиную, дорогой доктор?
– Да, – отвечал Жильбер, – я вспоминаю о своих обязательствах, данных вам в этой самой комнате.
– Да что вы, это все пустое!
– Признаться, странный вы человек, – продолжал Жильбер, не столько обращаясь к Калиостро, сколько говоря сам с собою, – и если бы всемогущий разум позволил мне поверить в чудеса, о которых нам поведали поэты и авторы средневековых хроник, я мог бы подумать, что вы такой же волшебник, как Мерлин, или изготовитель золота вроде Никола Фламеля.
– Да, для всего мира я являюсь магом, а для вас, Жильбер, – нет. Я никогда не пытался поразить вас своими фокусами. Как вы знаете, я всегда старался вам помочь докопаться до сути вещей, и если вам случалось увидеть, как на мой зов Истина из своих глубин показывается несколько приукрашенной и не такой голой, как обычно, то это лишь оттого, что, как истинный сицилиец, я люблю мишуру.
– Вы помните, граф, что именно здесь вы вручили сто тысяч экю несчастному оборванцу так же легко, как я подал бы нищему грош.
– Вы забываете нечто более невероятное, Жильбер, – с важным видом проговорил Калиостро, – этот оборванец вернул мне деньги за вычетом двух луидоров, которые он истратил на одежду.
– Юноша был честен, только и всего, а вот вы были тогда просто великолепны!
– Жильбер! Разве быть щедрым не легче, нежели честным; дать сто тысяч экю, имея миллионы, чем вернуть эти сто тысяч, не имея за душой ни гроша?
– Возможно, вы правы, – отвечал Жильбер.
– Кстати сказать, все зависит от расположения духа, в котором человек находится в ту или иную минуту. Тогда я только что пережил самое большое горе всей моей жизни, Жильбер; я ничем не дорожил, и если бы вы в тот момент попросили у меня мою жизнь, я думаю, – да простит мне Господь! – что я отдал бы ее вам так же легко, как те сто тысяч.
– Неужто вы можете быть несчастливы так же, как прочие люди? – спросил Жильбер, с изумлением взглянув на Калиостро.
Калиостро вздохнул.
– Вы говорите о воспоминаниях, навеянных на вас этой гостиной. Если бы я вам сказал, что эта комната напоминает мне.., но нет! Раньше, чем я закончил бы свой рассказ, я поседел бы от ужаса! Поговорим о чем-нибудь другом. Пусть минувшие события спокойно спят в своих саванах, а забвение – в его могиле, то есть в прошлом. Поговорим о настоящем, даже о будущем, если угодно.
– Граф! Вы только что сами призывали меня к действительности, вы порвали ради меня, как вы сказали, с шарлатанством, а теперь снова возвращаетесь к этому громкому слову: будущее! Будто это будущее в ваших руках, и вы умеете читать его загадочные иероглифы!
– Вы забываете, что, располагая большими средствами, чем другие люди, я вижу лучше и дальше, чем они – это неудивительно!
– Это все слова, граф!
– Вы забывчивы, доктор.
– Что же вы хотите, ежели мой разум отказывается верить!
– Вы помните философа, отрицавшего движение?
– Да.
– Как поступил его противник?
– Пошел впереди него… Ну что же, ступайте! Я смотрю на вас. Точнее сказать, говорите: я слушаю.
– Да мы, собственно, для этого сюда и пришли, а теряем время на другое. Итак, доктор, как обстоят дела с нашим объединенным кабинетом министров?
– С каким кабинетом министров?
– С кабинетом Мирабо – Лафайета!
– Да вы просто слышали пустые сплетни и повторяете их в надежде вытянуть из меня своими вопросами правду.
– Доктор! Вы – воплощенное сомнение, но ужасно то, что вы сомневаетесь не из-за самого неверия, а из-за нежелания поверить. Неужели мне необходимо повторить сначала то, что вы и так знаете? Ну хорошо… Потом я вам расскажу нечто такое, о чем я осведомлен лучше, чем вы.
– Я вас слушаю, граф.
– Две недели тому назад вы говорили с королем о Мирабо как о единственном человеке, способном спасти монархию. В тот день вы вышли от короля в ту самую минуту, как к нему заходил маркиз де Фавра, помните?
– Это доказывает, граф, что в то время он еще не был повешен, – со смехом отвечал Жильбер.
– Не торопитесь, доктор! Я и не знал, что вы можете быть так жестоки, дайте же бедняге еще несколько дней: я предсказал вам его смерть шестого октября, а сегодня – шестое ноября; итак, прошел всего месяц. Предоставьте его душе столько же времени побыть в теле, сколько дают жильцу на то, чтобы он очистил помещение: три месяца. Однако должен вам заметить, доктор, что вы сбиваете меня с пути.
– Возвращайтесь, граф, я с удовольствием готов следовать за вами и дальше.
– Итак, вы говорили с королем о Мирабо как о единственном человеке, способном спасти монархию.
– Таково мое мнение, граф, потому я и высказался за эту комбинацию.
– Я тоже придерживаюсь этой точки зрения, доктор! Вот почему представленная вами комбинация провалится.
– Провалится?
– Несомненно… Вы же знаете, что я не хочу, чтобы монархия была спасена!
– Продолжайте!
– Король, потрясенный тем, что вы ему сказали… – Простите, но я вынужден рассказывать издалека, чтобы доказать вам, что мне известны все стадии ваших переговоров, – король, как я сказал, потрясенный вашими словами, передал их королеве и, – к величайшему изумлению доверчивых людей, которые узнают вскоре от всем известной болтушки, именуемой историей, о том, что мы с вами обсуждаем сейчас вполголоса, – королева не так яростно высказалась против вашего проекта, как король. Она послала за вами, вы обсудили все за и против, после чего она вам поручила переговорить с господином де Мирабо. Все верно, доктор? – спросил Калиостро, глядя на Жильбера в упор.
– Должен признаться, граф, что до сих пор вы ни на йоту не отклонились от правильного пути.
– После чего, господин гордец, вы в восторге удалились, пребывая в глубочайшем убеждении, что королева переменила свое мнение благодаря вашей неоспоримой логике и вашим неопровержимым доводам.
В ответ на насмешливый тон графа Жильбер закусил от досады губы.
– Чем же в таком случае вы объясните, что королева переменила мнение, если не моей логикой и не моими доводами? Скажите, граф; знание сердечных тайн мне столь же дорого, как и изучение физического состояния; вы изобрели инструмент, при помощи которого вы умеете читать в сердце короля; дайте мне взглянуть в ваш чудесный телескоп, граф, было бы бесчеловечно пользоваться им в одиночку.
– Я же вам сказал, доктор, что у меня от вас секретов нет. Идя навстречу вашим пожеланиям, я готов вручить вам свой телескоп; вы можете по своему усмотрению заглянуть в него и с той стороны, где он уменьшает, и с той, где он увеличивает предметы. Итак, королева уступила по двум причинам: во-первых, накануне она перенесла душевное потрясение, и новая интрига для нее – это возможность отвлечься; во-вторых, королева – женщина; когда ей сказали, что господин де Мирабо – лев, тигр, медведь, она, как всякая женщина, не смогла устоять перед соблазном его приручить. Она подумала: «Было бы забавно, если бы мне удалось поставить на колени человека, который меня ненавидит; я заставлю публично покаяться оскорбившего меня трибуна Когда он будет у моих ног, я буду отмщена, а если от этого будет еще и польза для Франции и королевской власти – тем лучше!» Но вы понимаете, что эта последняя мысль проходила как бы между прочим.
– Вы основываетесь на предположениях, граф, а обещали представить факты.
– Раз вы отказываетесь воспользоваться моим телескопом, не будем больше об этом говорить и вернемся к вопросам материальным, тем, которые можно увидеть невооруженным глазом, например, долги господина де Мирабо. Да, чтобы их рассмотреть, телескоп не понадобится!
– Вот, граф, прекрасный случай, чтобы проявить вашу щедрость!
– Мне заплатить долги господина де Мирабо?
– А почему бы нет? Заплатили же вы однажды за кардинала де Роана?
– Не попрекайте меня этой сделкой, ведь она оказалась на редкость удачной!
– Какую же выгоду вам принесла эта сделка?
– Дело с ожерельем.., ах, как это было замечательно! За такую цену я, пожалуй, заплатил бы долги господина де Мирабо. Однако вы и сами знаете, что в настоящую минуту он рассчитывает не на меня; он делает ставку на будущего генералиссимуса Лафайета, а тот заставляет его ходить на задних лапках из-за ничтожных пятидесяти тысяч франков, как собачку за макаронами, но так никогда и не даст ему этих денег.
– Граф!..
– Бедный Мирабо! Да, все эти дураки и фаты, с которыми ты имеешь дело, заставляют твой гений расплачиваться за безумства юности! Такова уж твоя судьба, Господь вынужден прибегать к посредничеству ограниченных людей! «Безнравственный Мирабо!» – говорит его высочество, потому что сам он бессилен на ложе; «Мирабо – мот!» – говорит граф д'Артуа, за которого брат трижды заплатил долги. – Бедный гений! Да, возможно, тебе и удалось бы спасти монархию, но монархия не должна быть спасена, и потому: «Мирабо – ужасный болтун!» – говорит Ривароль. «Мирабо – прощелыга!» – говорит Мабли. «Мирабо – большой оригинал!» – говорит Пуль «Мирабо – негодяй!» – говорит Гилерми. «Мирабо – убийца!» – говорит аббат Маури. «Мирабо – мертвец!» – говорит Тарже. «Мирабо – погребен!» – говорит Дюпорт. «Мирабо – это оратор, которого чаще освистывали, нежели встречали овациями!» – говорит Пелетье. «У Мирабо вся душа изрыта оспой!» – говорит Шансене. «Мирабо надо сослать на галеры!» – говорит Ламбек. «Мирабо нужно повесить!» – говорит Марат. А умри завтра Мирабо, и народ устроит ему чествование, и все эти карлики, едва достающие ему до пояса и на которых он давит, пока жив, последуют за его гробом, распевая или выкрикивая: «Горе Франции, потерявшей своего трибуна! Горе королевской власти, лишившейся поддержки!» – Уж не предсказываете ли вы мне смерть Мирабо?! – в ужасе вскричал Жильбер.
– Давайте взглянем на вещи трезво, доктор! Неужели вы верите в то, что может жить долго этот человек, если в нем закипает кровь, если его сердцу тесно в груди, если его гложет собственный гений? Ужели вы полагаете, что силы, какими бы неисчерпаемыми они ни казались, могут противостоять напору посредственности? Ведь Мирабо взялся за Сизифов камень! Вот уже на протяжении двух лет его изводят словом «безнравственность». Всякий раз как после неслыханных усилий ему кажется, что он вкатил камень на самую вершину, это слово обрушивается ему на голову еще неожиданнее, чем раньше. Что сказали королю, когда он уже был готов согласиться с королевой и назначить Мирабо премьер-министром? «Государь! Весь Париж, вся Франция, вся Европа будут кричать о безнравственности!» Можно подумать, что Бог создавал великих людей из другого теста, нежели простых смертных, и если великим людям свойственны необыкновенные добродетели, то у них не может быть больших пороков! Жильбер, вы и еще несколько умных людей напрасно теряете время, пытаясь сделать Мирабо министром, то есть тем же самым, чем были дурак Тюрбо, педант Неккер, фат Калон, безбожник Бриен. И Мирабо не будет министром, потому что у него сто тысяч долгу, которые были бы оплачены, если бы он был сыном простого откупщика, а также потому, что он был приговорен к смертной казни: он украл жену у выжившего из ума старика, а она взяла да и удавилась из-за красавца-капитана! До чего все-таки комична человеческая комедия! И сколько слез пролил бы я над нею, если бы заранее не решил посмеяться!
– Однако что же вы все-таки ему предсказываете? – спросил Жильбер; он ничего не имел против экскурса, совершенного графом в область воображаемого, но испытывал некоторое беспокойство в ожидании его заключения.
– Говорю вам, – молвил Калиостро пророческим, одному ему присущим и не допускавшим возражений тоном, – говорю вам, что Мирабо, гениальный человек, государственный муж, великий оратор, попусту истратит свои дни и сойдет в могилу, так и не став тем, чем были все: министром. Да, дорогой Жильбер! Посредственность – прекрасная поддержка!
– Значит, король все-таки будет против?
– Дьявольщина! Да он поостережется возражать, ведь пришлось бы спорить с королевой, а он почти дал ей слово. Вы же знаете, что политика, проводимая королем, заключается в слове «почти»: он почти конституционный монарх, почти философ, почти популярен и даже почти хитер, когда ему начинает давать советы его высочество. Подите завтра в Национальное собрание, дорогой доктор, и вы увидите, что там произойдет.
– А почему вы не хотите сообщить мне об этом заранее?
– Я не хотел бы лишать вас приятной неожиданности.
– До завтра слишком долго ждать!
– В таком случае не ждите. Сейчас пять часов. Через час откроется Клуб якобинцев… Знаете, господа якобинцы – ночные пташки. Вы являетесь членом общества?
– Нет, Камилл Демулен и Дантон брали меня с собой к францисканцам.
– Итак, как я вам уже сказал. Клуб якобинцев откроется через час. Это избранное общество, в котором вы не будете чувствовать никакой неловкости, можете быть совершенно спокойны. Мы вместе поужинаем, возьмем фиакр, отправимся на улицу Сент-Оноре, и, выйдя из стен старого монастыря, вы почувствуете себя обновленным.
Кстати сказать, будучи предупреждены за двенадцать часов до некоего события, вы, возможно, успеете отразить удар.
– То есть как, ужин в пять часов? – спросил Жильбер.
– Ровно в пять. Я во всем опережаю других. Через десять лет во Франции будут есть только два раза в день: завтракать в десять утра и ужинать в шесть вечера.
– Что же заставит французов изменить свои привычки?
– Голод, мой дорогой!
– Вы и в самом деле вестник несчастья!
– Нет, ибо я вам предсказываю прекрасный ужин.
– Так у вас будут гости?
– Нет, я в полном одиночестве. Однако вы же помните, как говорил один античный любитель хорошо поесть:
«Лукулл обедает у Лукулла».
– Кушать подано, – объявил лакей, распахнув настежь двери, выходившие в ярко освещенную и пышно обставленную столовую.
– Прошу вас, господин Пифагореец, – молвил Калиостро, взяв Жильбера под руку. – Ах, оставьте; один раз не в счет.
Жильбер последовал за волшебником, очарованный его словами, а также, возможно, надеясь на то, что из беседы с ним он узнает нечто такое, что поможет ему избрать правильный путь.
Глава 29.
КЛУБ ЯКОБИНЦЕВ
Два часа спустя после описанного нами разговора какой-то экипаж без гербов остановился у паперти церкви Сен-Рок, фасад которой еще не был в то время изуродован картечью 13 вандемьера.
Из экипажа вышли два одетых в черное господина, что в те времена свидетельствовало о принадлежности к третьему сословию. В желтом свете фонарей, пронизывавших мглу, царившую на улице Сент-Оноре, два господина влились в людской поток и дошли по правой стороне улицы до небольшой двери монастыря якобинцев.
Как, очевидно, уже догадались наши читатели, это были доктор Жильбер и граф Калиостро или банкир Дзаноне, как его звали в то время; нам нет нужды объяснять, почему они остановились около этой двери: она-то и была целью их поездки.
Как мы уже сказали, новоприбывшие лишь последовали за толпой, потому что народу на улице было очень много.
– Угодно ли вам пройти в неф или вы готовы довольствоваться местом на трибунах? – обратился Калиостро к Жильберу.
– Я полагал, что в нефе могут находиться только члены общества, – отвечал Жильбер.
– Это так. Однако разве я не являюсь членом сразу всех обществ? – со смехом возразил Калиостро. – А раз я вхожу в общество, значит, и мои друзья – вместе со мной, не правда ли? Вот вам приглашение, если хотите; я же и так пройду, стоит мне только шепнуть словечко.
– В нас признают чужаков и выставят вон, – заметил Жильбер.
– Насколько я могу судить, дорогой доктор, вам не известно следующее: общество якобинцев, основанное всего три месяца тому назад, насчитывает уже около шестидесяти тысяч членов в одной Франции, а меньше чем через год в ее рядах будет четыреста тысяч человек. Кроме того, мой милый, именно здесь – настоящий Великий Восток, центр всех тайных обществ, – с улыбкой прибавил Калиостро, – а вовсе не у этого глупца Фоше, как полагают некоторые. И если вы не имеете права войти сюда как якобинец, то можете занять место под сводами в качестве тайного члена.
– Пусть так, – отвечал Жильбер, – я предпочитаю трибуны. С высоты трибуны мы сможем обозревать все собрание, и если там будет какая-нибудь настоящая или не известная мне пока будущая знаменитость, вы обратите на нее мое внимание.
– Ну что же, на трибуны так на трибуны, – согласился Калиостро.
Он свернул вправо и стал подниматься по дощатой лестнице, ведущей на импровизированные трибуны.
Там было полным-полно народу, но едва Калиостро остановился, подал кому-то условный знак и шепнул одно слово, как два сидевших в первом ряду человека поднялись и сейчас же удалились, словно ждали его появления и пришли сюда только затем, чтобы занять им с доктором Жильбером места.
Вновь прибывшие зрители сели.
Заседание еще не начиналось: члены собрания разбрелись по темному нефу; одни группами беседовали; другие прогуливались в небольшом пространстве, которое им оставили коллеги; третьи в задумчивости сидели где-нибудь в темном уголке или стояли, привалившись к мощной колонне.
Редкие огни проливали слабый свет на собравшихся, время от времени выхватывая из толпы то или иное лицо, случайно оказавшееся в неясном свете.
Но несмотря на сумерки, нетрудно было заметить, что это было аристократическое общество. Расшитые камзолы, мундиры сухопутных и морских офицеров то и дело мелькали внизу, сверкая золотом и серебром.
И действительно, в то время ни один мастеровой, ни один простолюдин и даже ни один буржуа не был вхож в это изысканное общество.
Для простых людей существовал другой зал, он находился как раз под тем, в котором собиралась знать. Заседания там начинались в другое время, чтобы чернь и аристократия не соприкасались друг с другом. Для образования народа и создали то братство.
А члены этого общества ставили перед собой задачу растолковывать членам братства Конституцию и доступно объяснять права человека.
Что же до якобинцев, то, как мы уже сказали, это было в те времена общество военных, аристократов, мыслителей и в особенности литераторов и людей искусства.
Этих последних и в самом деле большинство.
Среди литераторов в общество входят: Лагарп, автор «Мелани»; Шенье, автор «Карла IX»; Андрие, автор «Вертопрахов», который подает уже в тридцатилетнем возрасте такие же надежды, как в семьдесят лет, и умрет с обещаниями, которых так и не сдержит; Седен, бывший каменотес, которому покровительствует сама королева, – он в душе роялист, как и большинство находящихся в зале людей; Шамфор, поэт-лауреат, бывший секретарь принца Конде, чтец ее высочества Елизаветы; Лакло, преданный герцогу Орлеанскому, автор «Опасных связей», занимающий место своего покровителя и, если того требуют обстоятельства, напоминает о нем друзьям герцога или помогает забыть о нем его недругам.
Из людей искусства членами общества состоят: Тальма, итальянец, которому суждено исполнением роли Тита произвести настоящую революцию; благодаря ему будут обрезать волосы в ожидании того времени, когда под влиянием его собрата Колло д'Эрбуа начнут рубить и головы; Давид, вынашивающий в мечтах «Леонида» и «Сабинянок», тот самый Давид, который делает наброски к огромному полотну «Клятва в Зале для игры в мяч» и который, может быть, только что купил кисть, коей ему предстоит написать самую отвратительную картину: «Смерть Марата в ванне»; здесь же – Верне, избранный в Академию два года тому назад за картину «Триумф Поля-Эмиля»; он любит рисовать лошадей и даже и не подозревает, что всего в нескольких шагах от него, стоя под руку с Тальма, на этом же собрании находится юный корсиканский лейтенант, с гладко зачесанными ненапудренными волосами, который, сам того еще не зная, послужит прообразом для пяти его лучших полотен: «Бонапарт на перевале Сен-Бернар», «Сражение под Риволи», «Маренго», «Аустерлицем», «Ваграмом»; Ларив, последователь декламационной школы, еще не замечающий в Тальма будущего соперника, отдающий предпочтение Вольтеру перед Корнелем, а Дю Белле – перед Расином; Лаис, певец, услаждающий своим пением посетителей Оперы в ролях Торговца из «Каравана», Консула из «Траяна» и Цинны из «Весталки»; а также Лафайет, Ламетт, Дюпор, Сиейес, Type, Шапелье, Рабо-Сент-Этьен, Ланжюине, Монлозье, и среди них всех – депутат из Гренобля Барнав, похожий на провокатора, вынюхивающий и высматривающий; люди ограниченные считают его соперником Мирабо, а Мирабо смешивает его с грязью всякий раз, как до него снисходит.
Жильбер долго изучал блестящее собрание, узнал всех присутствовавших, взвешивая про себя, на что способны эти люди, каждый в отдельности, и остался своим исследованием не удовлетворен.
Однако видя всех роялистов вместе, он немного приободрился.
– Кого из этих людей вы считаете наиболее враждебно настроенным по отношению к монархии? – задал он Калиостро неожиданный вопрос.
– Следует ли мне взглянуть на это с общечеловеческой точки зрения, с вашей, с точки зрения господина Неккера, аббата Маури или с моей?
– Меня интересует ваше мнение, – отвечал Жильбер, – давайте условимся, что вы взглянете на это, как колдун.
– Ну что же, в этом случае таких людей – двое.
– Немного для четырехсот собравшихся!
– Вполне довольно, если принять во внимание, что один из них должен стать убийцей Людовика Шестнадцатого, а другой – его наследником!
Жильбер вздрогнул.
– Ого! – прошептал он. – Неужели среди нас здесь есть будущий Брут и будущий Цезарь?
– Ни больше ни меньше, дорогой доктор.
– Вы мне их покажете, граф? – спросил Жильбер с улыбкой сомнения на губах.
– О апостол с глазами, закрытыми чешуей! – пробормотал Калиостро. – Да я еще не то готов сделать! Если хочешь, я даже могу устроить так, что ты их потрогаешь собственными руками. С кого начнем?
– Думаю, с того, кто будет ниспровергать. Я питаю уважение к хронологии. Начнем с Брута!
– Как ты знаешь, – начал Калиостро, словно охваченный вдохновением, – люди никогда не используют одни и те же способы для свершения подобных дел! Наш Брут ни в чем не будет похож на Брута античного.
– Тем любопытнее было бы на него взглянуть.
– Ну что же, смотри: вот он!
Он указал рукой на человека, привалившегося к кафедре; в ту минуту была освещена только его голова, а все остальное тонуло в полумраке.
У него было мертвенно-бледное лицо – головы с такими лицами в дни античных проскрипций отрубали и прибивали к трибуне во время торжественных речей в Афинах.
Живыми казались только глаза, выражавшие жгучую ненависть; человек был похож на гадюку, которая знает, что в зубах у нее смертельный яд; постоянно меняя свое выражение, глаза неотступно следили за шумным и многословным Барнавом.
Жильбер почувствовал, как все его тело охватила дрожь.
– Вы были правы, когда предупреждали меня, – молвил он, – этот человек не похож ни на Брута, ни даже на Кромвеля.
– Нет, – отвечал Калиостро, – однако эта голова принадлежит, возможно, Кассию. Вы, конечно, помните, дорогой мой, что говорил Цезарь: «Я не боюсь всех этих тучных людей, проводящих дни за столом, а ночи – в оргиях; нет, я боюсь худых бледнолицых мечтателей».
– Тот, кого вы мне показали, вполне отвечает описанию Цезаря.
– Вы его не знаете? – спросил Калиостро.
– Отчего же нет! – проговорил Жильбер, пристально всматриваясь. – Я его знаю, вернее, узнаю в нем члена Национального собрания.
– Совершенно верно!
– Это один из самых косноязычных ораторов левого крыла.
– Именно так!
– Когда он берет слово, его никто не слушает.
– И это верно!
– Это адвокатишка из Арраса, не правда ли? Его зовут Максимилиан Робеспьер.
– Абсолютно точно! Ну что же, внимательно вглядитесь в это лицо.
– Я и так не свожу с него глаз.
– Что вы видите?
– Граф! Я же не Лафатер.
– Нет, но вы – его ученик.
– Я угадываю в нем ненависть посредственности перед лицом гения.
– Значит, вы тоже судите его, как все… Да, верно, у него слабый, несколько резкий голос; у него худое, печальное, будто пергаментное лицо; в его остекленевших глазах загорается иногда зеленоватый огонек, который почти тотчас же гаснет; в его теле, как и в его голосе, чувствуется постоянное напряжение; его тяжелое лицо утомляет своей неподвижностью; этот неизменный оливковый сюртук, по-видимому, единственный, всегда тщательно вычищен; да, все это, как я понимаю, не может произвести впечатления в собрании, которое изобилует прекрасными ораторами и имеет право быть придирчивым, потому что уже привыкло к внушительной внешности Мирабо, к самонадеянной напористости Барнава, к едким репликам аббата Маури, к пылким речам Казалеса и к логике Сиейеса. Однако его не будут упрекать, как Мирабо, в безнравственности, ведь он – человек порядочный; он не изменяет своим принципам и если когда-нибудь и выйдет из рамок законности, то только для того, чтобы покончить со старой конституцией и учредить новый закон!
– Что же все-таки за человек этот Робеспьер?
– Ты спрашиваешь, как аристократ прошлого века! «Что за человек этот Кромвель? – вопрошал граф Стрэффорд, которому протектор должен был отрубить голову. – Продавец пива, кажется?» – Уж не хотите ли вы сказать, что моей голове грозит то же, что голове сэра Томаса Уэнтуорта? – спросил Жильбер, безуспешно пытаясь улыбнуться.
– Как знать! – отвечал Калиостро.
– Это лишний раз доказывает, что мне необходимо навести справки, – заметил доктор.
– Что за человек этот Робеспьер? – переспросил граф. – Ну что ж, во Франции его, пожалуй, кроме меня не знает никто. Хотел бы я знать, откуда берутся избранники рока. Это помогло бы мне понять, куда они идут. Род Робеспьеров происходит из Ирландии. Возможно, их предки входили в ирландские колонии, которые в шестнадцатом веке стали заселять наши семинарии и монастыри на северном побережье Франции. Там они, по-видимому, унаследовали от иезуитов умение вести споры, которому преподобные отцы учили своих учеников; от отца к сыну передавалось место нотариуса. Представители этой ветви, к которой принадлежит наш Робеспьер, обосновались в Аррасе. В городе было два сеньора, вернее, два короля: один – аббат из Сен-Вааса, другой – епископ Аррасский, у него такой огромный дворец, что загораживает собой полгорода. В этом городе и родился в тысяча семьсот пятьдесят восьмом году тот, кого вы сейчас видите. Что он делал ребенком, чем занимался в юности, что делает сейчас – об этом я вам расскажу в двух словах. А кем он станет – об этом я вам уже сказал. В семье было четверо детей. Глава семьи овдовел; он был адвокатом в совете провинции Артуа; он впал в уныние, оставил адвокатуру, отправился рассеяться в путешествие и не вернулся. В одиннадцать лет старший ребенок – вот этот самый – оказался главой семейства, опекуном брата и двух сестер. Уже в этом возрасте – странная вещь! – мальчик осознает свою ответственность и быстро взрослеет. В двадцать четыре часа он стал тем, что он представляет собой и по сей день: улыбка очень редко освещает его лицо и никогда – сердце! Он был лучшим учеником в коллеже. Ему выхлопотали от аббатства Сен-Ваас одну из стипендий, которые имел в своем распоряжении прелат в коллеже Людовика Великого. Он приехал в Париж один, имея при себе рекомендацию к канонику Собора Парижской Богоматери; год спустя каноник умер. Почти в то же время в Аррасе умерла младшая, самая любимая, сестра Робеспьера. Тень иезуитов, только что изгнанных из Франции, еще была жива в стенах коллежа Людовика Великого. Вам знакомо это здание, там сейчас воспитывается ваш сын Себастьен, его дворы мрачны и глубоки, как в Бастилии, они способны согнать румянец с самого свежего лица; юный Робеспьер был и так от природы бледен, а в коллеже его лицо покрылось смертельной бледностью. Другие дети хоть изредка выходили за стены коллежа; для них существовали воскресные и праздничные дни; для сироты, жившего на стипендию и не имевшего покровителей, все дни были одинаковы. Пока другие дети наслаждались семейным уютом, он проводил время в одиночестве, тоске и скуке, отчего в сердце просыпаются зависть и злоба, которые убивают душу в самом ее расцвете. Под их воздействием мальчик стал хилым, и из него получился бесцветный юноша. Наступит такой день, когда вряд ли кто-нибудь поверит в то, что существует портрет двадцатичетырехлетнего Робеспьера, на котором в одной руке он Держит розу, другую прижимает к груди, а подпись гласит: «Все для милой!» Жильбер печально улыбнулся, взглянув на Робеспьера. – Правда, он полюбил этот девиз и заказал этот портрет в то время, когда одна девица поклялась ему, что ничто на свете не разлучит их; он тоже принес ей клятву и был готов ее исполнить. Он уехал на три месяца, а когда вернулся – узнал, что она вышла замуж! Впрочем, аббат из Сен-Вааса по-прежнему ему покровительствовал, он выхлопотал для его брата стипендию коллежа Людовика Великого, а ему самому – место судьи в трибунале по уголовным делам. И вот наступил день его первого процесса, надо было назначить наказание убийце; Робеспьер, полный угрызений совести оттого, что он осмелился распорядиться человеческой жизнью, хотя бы он и был признан виновным, подал в отставку. Он стал адвокатом, потому что ему надо было на что-нибудь жить и кормить сестру – брата хоть и плохо, но все-таки кормили в коллеже Людовика Великого. Едва он вступил в должность, как крестьяне стали его просить защитить их от епископа Аррасского. Робеспьер тщательно изучил документы, выиграл дело крестьян и, еще не остыв после своего успеха, был избран в Национальное собрание. В Национальном собрании Робеспьера одни ненавидят, другие презирают: духовенство выказывает ненависть адвокату, осмелившемуся выступать на суде против епископа Аррасского, а знать провинции Артуа питает презрение к «судейскому крючку», получившему образование из милости.