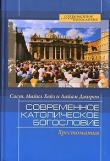Текст книги "Исторический путь православия"
Автор книги: Александр Протоиерей (Шмеман)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Немного позднее, в начале третьего века, возникло, опять на западе, так называемое «монархианство», то есть такое учение о Троице, в котором защищается «монархия» Отца. Это была боязнь отступить от исконного монотеизма, соблазн о церковной вере, как о вере в трех Богов. Монархиане учили, что один только Отец – Бог; в учении же об Иисусе Христе и Св. Духе они делились на два направления: одни учили, что Христос – человек, на которого сошла Божественная Сила, сделавшая Его Сыном Божиим и совсем особым образом соединившая Его с Отцом. Другие же, что Отец, Сын и Дух – это три разных «модуса» явления Единого и Того же Бога в мире. Сначала Он открывается как Отец, затем как Сын и, наконец, как Св. Дух. Это учение было названо «модализмом» и главный его представитель – ученый римский пресвитер Савеллий был отлучек от Церкви при папе Каллисте (217-222). В борьбе с этими ересями и возникают первые попытки дать православное «описание» тайны Троицы, выразить ее в человеческих словах. На западе это богословие Тертуллиана (до его ухода в монтанизм), на востоке – Оригена. При всем различии обе они грешат одним недостатком: обе принимают то самое отожествление Бога с одним Отцом, которое привело к «монархианству». Троица «возникает», «становится» если не во времени, то иерархически – как «раскрытие» Бога Отца, тогда как в опыте Церкви Троичность Бога и есть Его совершенство, тайна Трех, имеющих в совершенной Любви одну Жизнь… Мысль еще не поспевала за верой, слова оказывались беспомощными выразить опыт.
Таково положение в начале четвертого века в момент возникновения Арианства. Из-за недостаточности слов мысль срывается и увлекает веру за собой, искажая самые основоположные и жизненные истины новозаветного Откровения. В этом смысле Арианство означает и конец всех этих смут: именно оно даст Церкви возможность выразить, наконец, свою веру в Троицу в «богоприличных» словах.
Арий ошибся, потому что к разрешению богословского вопроса о Троице подходил исключительно как философ, и весь вопрос мерил логикой. Две краеугольных и именно жизненных истины христианства: об Едином Боге и о спасении мира Сыном Божиим он воспринимал как абстрактные положения. Он был убежденным монотеистом, но не в духе Ветхого Завета, а в духе того философского монотеизма, который в эту эпоху торжествовал в эллинистическом мире. Это признание некоего абстрактного Одного или Единого, лежащего в основе всего сущего, как его начало и как объединяющий принцип всего «множественного». Бог Един и в Нем не может быть никакой множественности, если же у Него есть Сын, то Сын уже отличен от Него, не Он и не Бог. Сын рождается, но рождение есть возникновение того, кого не было раньше. Сын рождается для творения, для спасения, но Он не Бог в том единственном, абсолютном смысле, в котором называем мы Богом Отца… Арианство есть «рационализация» христианства; в нем уже не живой, религиозный опыт оплодотворяет мысль, заставляет ее видеть и понимать то, чего она раньше не понимала, а, напротив, вера иссушается логическим анализом и превращается в абстрактное построение. Но арианство было «созвучно» эпохе: строгим монотеизмом, и вместе с тем отсечением всего «иррационального», непонятного. Оно было доступнее среднему уму, искавшему «разумной» веры, чем предание Церкви с его библейскими, реалистическими образами и выражениями. Как правильно заметил один историк, арианство лишало христианство его живого религиозного содержания, превращало его в «теизм»: в космологию и мораль.
Первой реакцией на Арианство и была реакция живой веры, содрогнувшейся от этого извращения самой святыни Церкви. Ария осудил его собственный епископ – Александр Александрийский. Но это было осуждение, не ответ. В ответе Александр сам сбивался, не находя правильных слов. Арий обратился за поддержкой к своим бывшим друзьям по школе известного антиохийского богослова Лукиана. Как образованные богословы, многие из них занимали епископские кафедры. Нужно особо отметить двух Евсевиев: Кесарийского, первого церковного историка (его «Церковная история» есть один из главных источников наших знаний о ранней Церкви) и Никомидийского – крестившего позже Императора Константина. Эти друзья поддержали Ария, и не только по личным причинам. В эти годы в Церкви нарождалась «интеллигенция», жаждавшая «разумного» объяснения веры, начинавшая как бы стесняться недостаточно философского характера церковного учения. Ересь Ария казалась им вполне подходящим – «современным» истолкованием этого учения, приемлемым для широких кругов образованных людей. Так местный александрийский спор распространился постепенно по всему востоку.
В этот момент и вступает в него император Константин. Надо представить себе, что означало для Церкви после трех веков гонения – обращение самого Императора, чтобы понять, почему двор Константина сразу же стал притягивающим центром – и не для одних оппортунистов и карьеристов, но и для тех, кто, окрыленные победой Христа, мечтали о распространении этой победы по всему миру. Император и Империя становились провиденциальными орудиями Царства Христова!.. И вокруг Константина сразу создается круг христианских советников, некий неофициальный «штаб», а в нем видное место занимает очень рано – с самого появления Константина на востоке – Евсевий Никомидийский, первый из печальной серии придворных епископов. Сам Константин не мог, конечно, разобраться в богословском споре по существу. Но он потрясен был этой новой смутой в Церкви. То были годы его торжества. Победа над Ликинием в 323 г. окончательно утвердила его единодержавие и ему рисовался образ единой Империи, изнутри духовно обновленной единой Церковью… И вдруг, вместо мечты, печальная действительность: новые споры, новые разделения… По всей вероятности, его христианские советники и дали ему мысль собрать собор епископов – привычный для Церкви способ решения споров. Но Константин захотел сделать из Собора символ и увенчание и своей победы и нового положения Церкви в Империи. Так созван был первый Вселенский Собор, весною 325 г. в Никее. Вселенским был он не по числу епископов (предание определяет его как Собор 318 Отцов) но по замыслу и значению. Действительно, впервые после столетий полуподпольного существования собрались епископы из всех частей Церкви, многие еще со следами ран и увечий, полученных при Диоклетиане. Какой ощутимый опыт торжества и победы! А роскошь приема, небывалая торжественность встречи, ласка и доброта Императора усиливали радостную уверенность в начале новой эпохи, в действительной победе Христа над миром. Так воспринимал собор, прежде всего, сам Константин. Он приурочил его к двадцатилетию своего царствования, он хотел парада и радости и не хотел ненавистных ему споров. В своей речи епископам в день открытия он говорил, что эти споры «более опасны чем войны и прочие конфликты… Мне они доставляют больше горя, чем все остальное».
Но значение Никейского Собора прежде всего, конечно, в одержанной на нем величайшей победе Истины. От него не осталось, как от других Вселенских Соборов никаких протоколов или «деяний». Известно только, что собор осудил арианство, а в традиционное содержание крещального символа веры ввел новое уточнение об отношении Сына к Отцу, назвав Сына единосущным Отцу, то есть имеющим ту же сущность, что Отец, и, следовательно, равным Ему по Божеству. Слово это, по замечанию В. В. Болотова, было настолько точным, что «исключало какую бы то ни было возможность перетолкования»: арианство им осуждалось безоговорочно. Но именно это слово и оказалось на долгие годы камнем преткновения и соблазна, ввергло Церковь в длительную смуту.
Эта смута заполняет собою пятьдесят шесть лет, отделяющие первый вселенский собор от второго – Константинопольского в 381 году. В ней нужно различать разные темы, но нужно видеть также и связанность их между собою: они почти в равной мере определяют собою дальнейшую историю Церкви, в которой вряд ли другие пятьдесят лет имели равное значение.
Внешне причиной смуты было то, что осужденные ариане не только не «сдались», но при помощи очень сложных интриг сумели привлечь на свою сторону государственную власть: так поставлена была первая тема – участие Императора в жизни Церкви. Скажем заранее, что итоги четвертого века с этой точки зрения более чем отрицательны, они поистине трагичны. Но тут же необходимо сразу определить и вторую тему арианской смуты. Торжество ариан было бы невозможно даже и при помощи Императора, если бы Церковь, осудившая почти единогласно Ария, оказалась единой в этом осуждении и, главное, в принятии положительного Никейского учения. Но этого как раз не случилось: Никея внесла смущение и сомнения в умы, но тогда нужно поставить вопрос о богословском содержании после-никейской смуты. А в этом разрезе четвертый век, напротив, имеет положительное значение, показывая воочию конечную силу Истины в церковной жизни даже в безнадежных обстоятельствах.
Большинство участников собора легко приняло осуждение арианства: слишком очевидно искажал он исконное церковное предание. Но совсем иначе обстояло дело с положительным учением о Троице, заключенном в слове «единосущный». Это слово выдвинула и его фактически навязала Константину, а через него собору, маленькая группа дальновидных и смелых богословов, понимавшая недостаточность одного осуждения Ария, необходимость «отчеканить» Предание Церкви в ясном понятии. Но для большинства епископов это слово было чуждо и непонятно: в нем впервые в вероучительные определения вводился философский термин, чуждый Писанию; притом термин даже подозрительный: это «единосущие», не возвращало ли оно в Церковь совсем недавно преодоленный соблазн савеллианства, не «сливало» ли снова Отца и Сына в «одну сущность»? И все же Собор, по просьбе Константина, принял это слово в Символ Веры, не очень вникая в его смысл: епископам казалось, что главное – осуждение ереси, что же касается Символа Веры, то на деле каждая Церковь имела свой, согласный со всеми другими по существу, но не обязательно по букве. Таким образом, внешне собор кончился благополучно, если не считать повторной – после донатизма – ошибки Константина, сославшего Ария и его единомышленников и тем снова смешавшего суд Церкви с судом Кесаря.
Вот тут-то и сказался вес той «придворной группы» епископов, о которой мы говорили выше. Она состояла почти целиком из друзей Ария, во главе с Евсевием Никомидийским. Они приняли осуждение Ария, потому что на соборе вскрылось единодушие против него почти всех епископов. Но приняли его скрепя сердце и с мечтой о «реванше». Выступать открыто против собора было невозможно и друзья Ария прибегли к интриге. Пользуясь равнодушием епископов к положительному никейскому определению, они попросту стали замалчивать его, все же свои силы направили против той кучки богословов, которые одни понимали все значение «единосущия». Здесь были пущены в ход доносы и обвинения, не имевшие ничего общего с богословием. Первой жертвой стал Евстафий Антиохийский, которого удалось очернить в глазах Императора и сослать в ссылку. Затем, и уже на многие годы, главным объектом интриги стал молодой, только что избранный александрийский епископ Афанасий, главный, по всей вероятности вдохновитель «единосущия». Опять-таки, не вступая с ним ни в какой богословский спор, его враги добились осуждения его за якобы канонические преступления сначала епископским собором в Тире (331), а затем, ссылки Императором в Трир на Рейне: Константин не выносил смутьянов, а именно таковым удалось врагам Афанасия представить его Императору. После этого уже было нетрудно вернуть и самого Ария: он подписал какое-то неясное покаяние и был принят в общение. Константину, так никогда и не понявшему о чем велся спор, показалось, что все в порядке: ведь Церковь вернула себе мир и только враги мира могут еще и после этого вспоминать прошлое… «Оппортунисты» торжествовали по всей линии, при явном непонимании и молчании всей Церкви.
Но дни Константина приближались уже к концу. В том же 336 г., когда был сослан Афанасий, празднует он последний – тридцатилетний юбилей своего царствования. Но это уже другой Константин. С годами росла та мистическая настроенность, которая жила в нем с детства, так что под конец даже интересы государства отступили на второй план. Речи и торжества его предсмертного юбилея озарены тем светом, который все сильнее разгорался в его душе; незадолго до смерти на него возложили руки, он стал – теперь только! – оглашенным, и уже не надевал больше царской одежды. Его мечтой было принять крещение в Иордане, но ей не суждено было осуществиться. Его крестил Евсевий Никомидийский и больше уже не оставляла его радостная уверенность в близости Христа и Его вечного света… Он умер в солнечный полдень Пятидесятницы… Сколько бы ни было ошибок, может быть, даже преступлений (убийство сына Криспа – темная семейная драма, до конца никогда не разгаданная…) в его жизни, трудно сомневаться в том, что человек этот неизменно стремился к Богу, жил жаждой абсолютного, отблеск небесной правды и красоты хотел утвердить на земле. С его именем связаны были самые большие земные надежды Церкви, мечта о торжестве Христа в мире. И вот, любовь и благодарность Церкви сильнее безжалостного, но непостоянного и часто поверхностного суда историков…
Только со смертью Константина арианская смута начинает развертываться во всем своем значении. Константину наследовали его сыновья – Константин II на Западе, Констанций на Востоке. Этот последний сыграл в жизни Церкви роковую роль. Если Константин свое положение «внешнего епископа Церкви» связывал с обращением, с непосредственным избранием его Христом, то Констанций уже, как нечто самоочевидное, воспринял свою власть над Церковью. Двусмысленность «константиновского мира» начинала давать свои первые, отравленные плоды. Кроме того, Константин мог ошибаться и часто ошибался, но он был большим человеком и по существу хотел быть справедливым. Констанций же, несмотря на свою приверженность к христианству, был человеком мелким и сразу же оперся на группу бесстыдных льстецов и оппортунистов, облепивших его.
Сначала, правда, «евсевиане» должны были уступить. Старший брат Констанция Константин потребовал возвращения всех ссыльных епископов на свои кафедры. В Александрии народ с любовью встретил Афанасия, который никогда не признавал своего низложения и был поддержан западными церквами. Но у «евсевиан» было против него сильное оружие: его низложил собор епископов, только собор должен его восстановить. Повторяем, подавляющее большинство епископов абсолютно не подозревало «идеологической» подкладки всей этой борьбы против александрийского «папы», который казался им беспокойным человеком, к тому же канонически низложенным. Зимой 337—338 года в Антиохии, центре «евсевианских» интриг, было составлено послание к Императорам и ко всем епископам кафолической Церкви, в котором Афанасий обвинялся в незаконном возвращении на кафедру. Афанасий ответил на это собором 62 египетских епископов и также обратился к суду всей Церкви. Послание египетского собора, доказав невиновность Афанасия в абсурдных обвинениях, возводившихся против него, прямо указало на настоящий смысл всего дела – на желание врагов Афанасия «уничтожить православных и упразднить осуждение Ариан на истинном и великом соборе». Тут же в первый раз чувствуется тревога о вмешательстве в дела Церкви Императора: «По какому праву, епископы, судившие Афанасия, были собраны приказом Императора?». Но египетские епископы поздно спохватились о том, что «внешняя власть» не имеет никаких прав внутри Церкви. А Никея?..
Так или иначе, но вопрос переносился теперь на настоящую – богословскую почву, в него втягивался молчавший доселе в неведении о восточных делах Запад, медлить было невозможно, евсевианам необходимо было ликвидировать Афанасия немедленно, и в дело было пущено всё их влияние на Констанция. Они избрали своего александрийского епископа – некоего Григория Каппадокийца и потребовали от Императора, чтобы тот помог ему отнять Александрийскую Церковь от низложенного и осужденного Афанасия. С этого момента союз Констанция с «евсевианами» становится открытым. Префекту Египта Филагрию, другу Ария, приказано было оказать Григорию всяческую помощь. При известии о приближении его к городу – народ бросился в церкви, защищая их от еретика. В дело вмешалась полиция, начались безобразные сцены, эвакуация церквей военной силой. Полиция искала Афанасия, но ему удалось скрыться – и 22 марта 339 г. Григорий торжественно вступил в Александрию, где началось форменное гонение на сторонников Афанасия. Евсевиане еще раз торжествовали.
Но не такой был человек Афанасий, чтобы уступить силе. Это был человек с железной энергией, абсолютной верой в правоту своего дела, и испытания, в которых прошел весь жизненный путь великого александрийского Отца и Учителя, казалось, только укрепляли его. Началась поистине эпическая борьба этого великана со всеми стихиями, соединившимися против него. Скрывшись где-то поблизости от Александрии, он разразился своим знаменитым «Окружным Посланием», которое современный историк назвал «одной из самых патетических страниц церковной письменности» (Батиффоль). Это был крик о помощи: «То, что произошло у нас, превосходит по горечи все гонения… Вся Церковь изнасилована, священство поругано, и еще хуже, благочестие преследуется нечестием… Пусть каждый поможет нам, как если бы каждый был затронут из опасности увидеть попранными церковные каноны и веру Церкви»…
Очень скоро мы видим Афанасия в Риме, куда постепенно стекаются и другие жертвы евсевианского террора. До этого времени Запад не принимал никакого участия в после-никейской смуте. «Единосущие» было принято им без споров и сомнений и только теперь, через Афанасия и его друзей, узнают там о положении дел на Востоке. В восточную трагедию вступает новый – римский – мотив.
Казалось бы, дальнейшее развитие событий можно выразить в простой схеме: православный, никейский Рим, защищающий Афанасия против «еретического» Востока, стремящийся его самого вернуть к Истине. На деле же положение неизмеримо сложнее и трагичнее. Трагедия же его в том, что свою защиту Никеи и Афанасия папа Юлий облекает в такие римские тона, которые сделают сопротивление ей Востока, объединение его против Рима неизбежными. Восток же, отвергая Афанасия и никейскую веру, одновременно защищает то исконное понимание Церкви, от которого он не откажется даже и вернувшись в конце концов и к Никее и к Афанасию.
Уже с конца второго века видим мы постепенное зарождение и развитие на Западе «римского самосознания». Римская Церковь была там древнейшей Церковью, единственной апостольской кафедрой, освященной именами и кровью апостолов Петра и Павла. Христианство на Западе развивалось из Рима, так что большинство западных церквей видели в Римской Церкви Церковь-мать, от которой получили они предание веры и апостольское преемство. Но если положение Рима на Западе было исключительным, то и на Востоке Церковь ап. Петра пользовалась особым уважением, так, что уже Игнатий Антиохийский называл ее «председательствующей в любви». После заката Иерусалимской апостольской общины, Рим, несомненно, стал первой Церковью, центром того вселенского единства и согласия, которое противополагал Ириней Лионский дроблению гностических сект. Но вот очень рано появляются первые тревожные признаки: свое, никем не оспариваемое «первенство» Римские епископы все более и более склонны рассматривать, как особую власть, «председательство в любви» – как «председательство во власти и авторитете». Так в 190—192 гг. папа Виктор в ультимативной форме требует от восточных церквей, чтобы те приняли римскую практику празднования Пасхи: Рим совершал это празднование в первое воскресение после еврейской Пасхи, тогда как на востоке оно совпадало с еврейским праздником. Свое требование Виктор основывает на авторитете апостолов Петра и Павла. Ему отвечает один из старейших епископов Востока Поликрат Ефесский. Он в свою очередь ссылается на Предание, дошедшее до него непосредственно от Апостолов, то есть попросту отвергает претензию Рима навязывать свою практику другим Церквам: … «Я шестьдесят пять лет живу в Господе, я прочитал все Св. Писание и я ничего не боюсь, сколько бы мне ни угрожали. Более великие, чем Виктор, говорили: лучше слушать Бога, чем человеков»… На это, в окружном послании, Виктор просто отлучает малоазиатские Церкви от общения с Римом и эта решительная мера вызывает протесты даже там, где держатся римской, а не восточной, практики. Позднее – в середине третьего века – в вопросе о крещении еретиков возникает спор между Римом и Африкой. Папа Стефан тоже требует безоговорочного подчинения римскому решению. Африканские епископы устами Киприана Карфагенского отвечают: «Никто из нас не выдает себя за епископа епископов и не прибегает к тирании, чтобы получить согласие своих собратий. Каждый епископ в полноте своей свободы и своего авторитета сохраняет право думать за себя: он не подсуден другому и не судит других». Еще резче отвечает Стефану Фирмилиан Кесарии Каппадокийской, один из «столпов» Восточной Церкви: …«много различий в церкви, но все дело в единстве духовном, в единстве веры и предания… Что за дерзость – претендовать быть судией всех. Стефан этим самым сам себя отлучает от вселенского единства епископата»…
Таким образом, очень рано мы видим одновременно и признание вселенского значения Рима, как первой Церкви, как выразительницы общего согласия, общего единства, но и реакцию на специфически римское истолкование этого значения. Но каждый раз это – реакция по конкретному поводу, вопрос о римских претензиях ни разу не ставится по существу, и это позволит им постепенно развиться в уже целое римское предание. Когда Восток (да и Запад) столкнется с ним, будет поздно: для самого Рима это предание будет освящено древностью, будет восприниматься как исконное… Непонимание перейдет в расхождение, чтобы завершиться, наконец, разделением.
В истории этого медленного расхождения Арианская смута – важный этап. Афанасий обращается в Рим, потому что на Востоке ему уже не к кому обратиться. Евсевиане пишут в Рим, чтобы свое осуждение Афанасия сделать вселенским осуждением. Оба обращения находятся в линии того понимания вселенского единства Церкви, которое мы уже наблюдали во втором и третьем веках: понимании его как вселенского общения, как единства жизни. Но папа Юлий воспринимает их уже по-своему, в свете исподволь развившегося специфически-римского предания. Свою роль он мыслит уже как роль арбитра восточных дел. Он пишет на восток, требуя решения всего дела на соборе в Риме, причем назначает и дату собора. Это почти ультиматум.
В Антиохии письмо папы вызвало возмущение. Не следует забывать, повторяем, что в этот момент для подавляющего большинства восточных епископов речь шла не о Никейской вере, а об Афанасии. Афанасий же в их глазах был низложен законным собором и пересмотр этого решения, не на востоке, а в Риме казался им неслыханным попранием всех канонических норм, издревле принятых Церковью. На этом возмущении и стали «играть» главари евсевианства. Только через год по получении папского послания, в январе 341 года пришел в Рим ответ, подписанный Евсевием Никомидийским (который к этому времени уже успел перебраться в новую восточную столицу – Константинополь) и двумя другими из старших восточных епископов. В ответе этом папу почтительно, но не без иронии, «ставили на место». Надо заметить, что Юлий обрекал себя на трудное положение еще и тем, что вместе с Афанасием принимал в общение Маркелла Анкирского, который никейское определение толковал действительно еретически, в явно савеллианских тонах, так что его осуждение на Востоке уже было несомненно правильным. В богословских тонкостях на Западе разбирались плохо и Никею приняли чисто формально, а потому и в Маркелле не видели ничего, кроме страдальца за истину… Но с Востока Юлию предлагали сделать выбор между двумя осужденными беглецами и всей Восточной Церковью, единодушной в их осуждении.
Получив такой ответ, Юлий немедленно собрал в Риме собор итальянских епископов, на котором торжественно провозгласил свое согласие с Афанасием и Маркеллом. В новом послании восточным епископам римская точка зрения выражена им уже без обиняков: …«разве вы не знаете, что обычай таков, чтобы нам писали сперва и чтобы здесь совершалось правосудие… То, что я пишу вам и что говорю, мы приняли от блаженного апостола Петра»… Юлий вполне искренен, морально он выше, чем евсевиане, и его посланием – возвышенным и достойным – по праву гордится католический запад. Но в том то и вся трагедия, что, защищая истину, он, действительно нарушал предание восточной Церкви, никогда не слыхавшей о таком обычае, почти заставлял ее объединиться против себя.
Восток и ответил большим собором, собравшимся летом 341 года в Антиохии для освящения «великой золотой церкви», которую Константин не успел достроить до своей смерти. На соборе присутствовало около ста епископов. И ничто не вскрывает лучше всей не сводимости церковной истории к прямолинейным схемам, чем тот факт, что собор этот, снова осудивший Афанасия, в предании Восточной Церкви остался, тем не менее, как один из авторитетных «поместных соборов», и принятые им каноны доселе входят в канонические сборники.
В Арианской смуте Антиохийский собор 341 оказался переломным моментом. Здесь впервые после Никеи Восточная Церковь снова вступила на богословскую почву. Евсевиане хотели не богословских споров, а простой ликвидации защитников «единосущия». Но теперь необходимо было ответить на западное обвинение в ереси; оно требовало именно богословского ответа. Вернувшись же к богословию, восточные епископы вступили на путь, который после десятилетий мучительных искажений приведет их к уже сознательному приятию Никеи.
В ответ на обвинение папы отцы собора торжественно подтвердили старый, до-никейский Символ веры, приписывавшийся Лукиану Антиохийскому, в котором вера в Иисуса Христа была выражена так: …«Бога от Бога, целого от целого, единого от единого, совершенного от совершенного, царя от царя… не отличный образ Божества Отца, как существа, так и силы, воли и славы Его»… Как замечает проф. А. В. Карташов, это была «устаревшая форма до-никейского учения о том же единосущии, но в старой словесной оболочке». Между тем именно согласия своего с «единосущием» и не видели антиохийские отцы, как не видели и того, что только никейское определение до конца и предельно точно выражает то, о чем говорят они в стольких образах: совершенное Божество Сына, совершенное единство Его с Отцом. Напротив, «единосущие» казалось им чуждым и опасным словом, и теперь подтверждение этого они находили в ереси Маркелла Анкирского, в возврате к савеллианскому смешению Сына с Отцом. А Рим принимал Маркелла… Невозможно таким образом говорить о борьбе православного Запада против еретического Востока. Для недоразумений и непонимания было слишком много причин с обеих сторон. Многое должно было перегореть в очищающем огне страданий и разделений.
Мы не можем, конечно, излагать здесь историю этого очищения сколько-нибудь подробно. Укажем только на самое основное. Антиохийский собор 341 года делал как будто возможным богословское соглашение с Западом. Но оставался вопрос о лицах – об Афанасии, прежде всего. Под давлением западного Императора Константина решено было рассмотреть его на вселенском соборе в Сердике (Софии). Но едва собравшись (343), собор сразу же разделился и снова из-за непонимания западными всей сложности положения. Восточные соглашались на общий пересмотр дела Афанасия, но до этого пересмотра считали его низложенным и настаивали на его отсутствии во время разбора. Но западные отказались исполнить это условие, ссылаясь на оправдание Афанасия Римом… Собор раскололся, начавшееся сближение было сорвано.
Между тем политическое давление Константина на брата продолжалось, а военное положение на востоке делало Констанция особенно чувствительным к нему. Дело дошло до того, что когда в 345 году умер Григорий Александрийский, Констанций, не прибегая ни к какому церковному обсуждению, просто позвал Афанасия занять свое прежнее место. Понимая чему он обязан этим вызовом, Афанасий потребовал письменного рескрипта и так как он никогда не признавал своего низложения, вернулся. Это возвращение было триумфом. Даже самые ярые враги смирились перед «совершившимся фактом».
Но очень скоро политический ветер снова переменился. В 353 г., после ряда междоусобных войн, Констанций оказался единодержавным хозяином всей Империи и сразу же показал, что его примиренческая линия объяснялась только политическим оппортунизмом. Ариане и полу-ариане оказывались неизмеримо послушнее государственной власти, чем никейцы: они и стали опорой Констанция. Началось повсюду изгнание никейцев. Но Афанасия пока не трогали: ведь Констанций вызвал его личным рескриптом… И Император и его советники понимали, что пока Афанасий опирается на Запад, его осуждение не может стать вселенским. Поэтому, прежде всего, нужно было сокрушить Запад, его ввести в повиновение государственной власти. В Риме в 352 г. умершего Юлия сменил папа Либерий. От него Император потребовал собора и осуждения Афанасия. Папа пробовал защищаться, но безуспешно. В 355 г. 300 западных епископов в Милане, где в то время находился двор, уступили грубой силе. «Моя воля – вот для вас канон», – сказал Констанций на просьбу епископов канонически исследовать вопрос и все, кроме нескольких твердых, подписали осуждение Афанасия. Твердых немедленно сослали. Сослали и Либерия, отказавшегося признать решение собора. А императорские чиновники обходили весь Запад, собирая подписи от епископов.
Через сорок лет после обращения Константина Церковь лежала, раздавленная, у ног его сына! Оставался один Афанасий, живой вызов насилию, свидетель независимости Церкви. И вот в ночь с 8 на 9 февраля 356 г., когда Афанасий возглавлял бдение, храм был оцеплен солдатами. По приказу епископа, народ запел «Хвалите имя Господне» и стал расходиться, а вместе с ним, незамеченный в темноте, вышел и Афанасий и – исчез на шесть лет. Напрасно раздраженный Констанций приказывал обыскивать все монастыри Египта, – пустыня и монахи скрыли своего епископа. И сразу же раздалось его громящее и обличающее слово: за годы подполья он написал свою уничтожающую для Императора «Апологию Констанцию» и «Историю ариан», где вскрывал всю богословскую диалектику после никейской смуты. В торжествующем насилии он один оставался непреклонным.