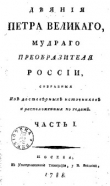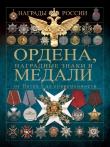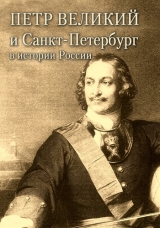
Текст книги "Петр Великий и Санкт-Петербург в истории России"
Автор книги: Александр Андреев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Родившийся в 1682 году шведский король Карл XII не был государственным деятелем, смыслом его деятельности была война для войны. Его генералы говорили и писали: “наш король ни о чем больше не думает, как о войне, он уже больше не слушает чужих советов; он принимает такой вид, что как будто Бог непосредственно внушает ему, что надо делать; если у него останется только 300 человек, то он и с ними вторгнется в Россию, не заботясь, чем будут питаться солдаты; если кого-нибудь из наших убивают, то это нисколько его не трогает”.
Своё личное мужество, более чем у Карла XII, Пётр I не стремился выставлять на показ. Снабжению армии от придавал важнейшее значение, военные советы проводились постоянно. Пётр был неутомим, но и вокруг него всё приходило в движение. Карл предпочитал наносить один короткий удар, Пётр кропотливо и тщательно готовил победу – и побеждал, громко и звонко.
В середине мая русские войска ушли из Украины. Конница А. Меншикова пошла добивать шведские отряды в Польше, Шереметев с остальными войсками отправился осаждать Ригу. Пётр лично выпустил первые три ядра по рижской крепости и писал А. Меншикову: “Благодарю Бога, что сему проклятому месту сподобил мне самому отмщения начало учинить”.
В течение лета 1710 года сдались Рига, Ревель, Пернов и Аренсбург – война в Лифляндии и Эстляндии была закончена. Летом 1710 года были взяты Выборг и Кексгольм – главные города Карелии.
Пётр Первый сумел воспользоваться результатами Полтавской победы. Прежние союзники России по войне со Швецией – Саксония, Польша и Дания, – решили возобновить коалицию.
С. Платонов писал:
“Полтавская победа совершенно сломила могущество Швеции: у нее не осталось армии, у Карла не стало прежнего обаяния. Раньше торжествовавший над всеми врагами, а теперь разбитый Петром, он сразу передал Петру и Московскому государству то политическое значение, которым до тех пор пользовалась Швеция. Среди всех союзников первое место теперь стало принадлежать России и Петру. Петр сделался гегемоном Северной Европы и сам чувствовал, что он сильнейший и влиятельнейший монарх Севера”.
“Полтавская виктория” произвела сильнейшее впечатление на Европу, но совсем не то, которое так хотелось Петру. Внешние признаки восторга и восхищения теперь сопровождали будущего императора во всех европейских странах, но значительно усилилось враждебное отношение к России со стороны Англии, Франции и Голландии.
Российским руководством был разработан план новой компании против Швеции, но его пришлось отложить. “Благодаря” закулисным интригам Англии и Франции началась русско-турецкая война. Не напав на Россию до Полтавской битвы – в самое удобное для победы время – Турция поддалась на уговоры Карла XII и Крымского хана. Недаром Турцию называли “больным ребёнком Европы”. Петру пришлось остановить операции в Прибалтике и отложить планы вторжения в Швецию. Российская армия двинулась на юг.
Пётр не мог больше воевать в Прибалтике при постоянной угрозе турецкого нападения. Царь потребовал высылки Карла XII из турецких владений, угрожая войной. На ультиматум России Турция ответила 20 ноября 1710 года объявлением войны. Карл XII предлагал султану поход на Чигирин и Левобережную Украину, прорыв к Воронежу для уничтожения верфей, осаду Азова. Сам король хотел объединить антироссийские силы, прорваться в Померанию и вернуться к ситуации 1705 года. Пётр опередил турок. Весной 1711 года русская армия была развёрнута на Днестре. Господари Валахии и Молдавии обещали Петру подготовить провиантские склады и даже поднять антитурецкое восстание, но первый предал, а второй не сдержал обещание. В июле у реки Прут сорокатысячная российская армия была почти окружена 200 тысячами турок. Две атаки турок были отбиты, визирь потерял более 10000 воинов. В следующую атаку янычары просто не пошли. В русском каре не хватало продовольствия и воды, но Пётр не знал о ситуации в турецкой армии. Русские послали визирю парламентёра с предложениями о мире – армия по договору уйдёт с оружием в руках или будет пробиваться с боем. Визирь согласился на переговоры. Русский посол П. Шафиров получил инструкции не только соглашаться на возвращение Турции Азова и потерю Россией азовского побережья, но и вёз в камзоле согласие Петра на возвращение Швеции всех завоеваний в Прибалтике – кроме Петербурга. Историки говорят, что вице-канцлер вёз с собой все драгоценности, собранные в русском лагере. Мастерство Шафирова, бриллианты Екатерины, состояние турецкой армии и алчность визиря решили дело. 12 июля 1711 года мирный договор был подписан – русская армия получала свободный выход из Молдавии, Азов возвращался туркам, крепости Таганрог и Каменный Затон уничтожались, русские больше не вмешивались в борьбу за власть в Польше. О территориальных потерях в Прибалтике речь даже не шла. Один из иностранных офицеров на русской службе писал в Париж, что “если бы утром 12 июля кто-нибудь сказал, что мир будет заключен на таких условиях, то его сочли бы сумасшедшим”. Русские войска форсировали Прут и двинулись к Могилеву. Потерей Азова заплатил Пётр за излишнее доверие к союзникам. Больше никогда Пётр не попадал в такое критическое положение.
Пётр Первый вернулся в Петербург, где разработал новый план борьбы со Швецией – в течение 1712–1714 годов он намеревался нанести двойной удар по Швеции – со стороны шведских владений в Северной Германии и на северном побережье Финского залива, с переносом боевых действий на территорию Швеции. В результате к Северному союзу присоединились два германских государства. Ганновер хотел получить Бремен и Вердер, Пруссия – Померанию. Пётр Первый и прусский король Фридрих Вильгельм I даже подружились.
Пётр был очень доволен действиями губернатора Санкт-Петербурга А. Меншикова – у всей Европы вызывала удивление быстрота строительства города на пустынном болотистом месте. Сохранилось описание рабочего дня Петра в Петербурге в 1711 году:
“День свой проводит, избегая всякой праздности, в беспрестанном труде. Утром его величество встаёт очень рано, и я не однажды встречал его в самую раннюю пору на набережной, идущим к князю Меншикову, или к адмиралам, или в Адмиралтейство и на канатный двор. Обедает он около полудня, все равно где и у кого, но охотнее всего у министров, генералов или посланников. После обеда, отдохнув по русскому обычаю с час времени, царь снова принимается за работу и уже поздно ночью отходит к покою.
Карточной игры, охоты и тому подобного он не жалует, и единственную его потеху, которой он резко отличается от всех других монархов, составляет плавание по воде. Вода кажется его настоящая стихия, и он нередко катается по целым дням на буере или шлюпке. Эта страсть доходит в царе до того, что его от прогулок по реке не удерживает никакая погода: ни дождь, ни снег, ни ветер. Однажды, когда река Нева уже стала и только перед дворцом оставалась еще полынья, окружностью не более сотни шагов, он и по ней катался взад и вперед на крошечной гичке”.
Крепость на Веселом острове уже давно стала городом в 1000 дворов. Через двадцать лет после строительства первого маленького домика Петербург поражал величественным Адмиралтейством, спускавшим на воду морские корабли, Летним садом с дворцом Петра, зданием Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, дворцами Меншикова, Головкина, Апраксина, прямыми улицами, вымощенными камнем. Выдающийся российский историк С.Ф. Платонов писал о Петре и его парадизе:
“Операция устройства в Ингрии укрепленного района с Петербургом в центре задумана и исполнена мастерски. Каждый шаг в ней сознателен и обдуман, исполнение энергично и быстро. Ингрия была завоевана прочно и послужила исходным пунктом для дальнейшего движения вперед. В центре завоеванной области создался город особого и многостороннего значения: в военном отношении Петербург – главная защита магистрального русского пути из московского центра на Запад; в торговом отношении – это главный русский торговый порт на Балтике; в политическом отношении – это русский наблюдательный пункт на Балтийском побережье, определяющий политику России в Балтийском вопросе и оттого ставший резиденцией русского правительства. Нет ничего случайного в создании Петербурга на невских устьях: гениальный ум Петра понял значение этих устьев, сумел их добыть и укрепить, а затем и использовать.
Петр – трудолюбивый администратор – хозяин, богатый правительственным опытом и самыми разнообразными практическими познаниями. Около него, в Невском “парадизе”, в новой столице, уже образовался “двор” – некоторое количество придворных чинов обоего пола и круг семей, составляющих высшее придворное общество. Новый двор имел свои церемонии и праздненства, на которые Петр являлся парадно одетым и серьезным распорядителем и блюстителем этикета и порядка. Бывали и официальные увеселения, в которых вместе с двором принимали участие гвардейские полки, чиновничество и дворянство. Такие увеселения иногда захватывали весь город, обязательно плававший в шлюпках по Неве или ездивший по улицам в маскарадных процессиях. Петр был душою таких увеселений, следил за их порядком, не допускал уклонений от обязательно веселья, штрафовал уклоняющихся. В течение года исполнялся этот круг парадов, праздников и процессий, как нечто строго установленное, дополнявшее деловую жизнь правительства и руководящих сфер.
Правительственная работа и отбывание общественных “обязанностей” не исчерпывали времени и интересов Петра. Он по-прежнему жил, мало стесняясь обстановкой и людьми, в привычном ему простом обиходе жизни. Как в одежде, так и в пище Петр был неприхотлив, хотя и обладал отменными вкусами. Он не любил рыбы, также не ел сладкого, очень любил фрукты и овощи, особенно огурцы и лимоны соленые, “да отменно жаловал лимбургский сыр”. Есть он любил в малой компании, у себя дома, без посторонних. Большие парадные столы его стесняли. Он не всегда даже садился на первое место, а притыкался, где попало. Он говаривал, что долгое и чинное сиденье за столом выдумано в наказание большим господам. Пил Петр много, но отнюдь не был пьяницей. Для него вино и водка не составляли болезненной потребности. Он любил кутнуть, споить других и сам выпить; но есть много указаний на то, что он поддавался вину еще менее, чем другие и редко доходил до больших степеней опьянения. За то спаивать других было его страстью во все периоды его жизни.
Обычно он, усадив гостей, запирал двери зала и запрещал кого бы то ни было выпускать с пирушки. Сам же среди пира уходил отдыхать, а затем возвращался, чтобы “докончать” пирующих. Он прибегал даже к прямому насилию, чтобы привести в бесчувствие свою жертву. Когда датский посланник Юст Юль скрылся от Петра на мачту корабля и уселся на такелаже, то царь сам полез к нему по снастям со стаканом в зубах и напоил его так, что он едва мог спуститься вниз. Нечего поэтому удивляться тому, что Юст Юль, не любивший пить, через три недели после этого случая во хмелю обнажил шпагу, отбиваясь от угощения, и нагрубил самому Петру. Так как это сделал дипломат, то мог произойти серьезный казус, однако на следующий день и царь и посол просили у друг друга прощения, ибо по словам Петра “о случившемся знали только от других”.
Чрезвычайная подвижность Петра сказывалась в его манере быстро ходить и ездить. Его длинные ноги делали такие быстрые и широкие шаги, что сопровождающие его постоянно должны были следовать за ним бегом. Он разъезжал на паре обычных лошадей в маленькой легкой двуколке, притом носился во весь дух. В течение дня Петр обычно успевал побывать во многих местах, по делу и с бездельем, и не оставался подолгу без далеких поездок. Он снимался очень легко из своего “Парадиза” в поездки не только по окрестностям “Питербурха”, но и в далекие походы”.
Весной 1712 года одним из театров войны стала Померания. Штеттин был взят войсками А. Меншикова, Штральзунд защищал сам Карл XII, пробравшийся в Померанию из Турции через Венгрию и Германию. Короли датский и прусский заставили капитулировать Штральзунд в декабре 1715 года – Померания была полностью завоёвана.
К лету 1713 года морская пехота эскадры адмирала Ф. Апраксина взяла финские города Або и Гельсингфорс. Шведскую армию разбили при Таммарфорсе – к 1714 году завоевание Финляндии было закончено.
В июле 1714 года русская эскадра под руководством Петра разгромила шведскую эскадру при мысе Гангут-Ганге-удде. Десять галер во главе со шведским адмиралом были взяты в плен. Эта морская победа в Европе произвела впечатление подобно Полтавской – до этого военно-морской флот России не вступал в открытое сражение со шведским из-за нехватки морских кораблей. Русские войска высадились на Аландских островах – в 15 милях от Стокгольма. Швеция пришла в ужас.
Летом 1716 года Пётр готовил штурм Швеции, но высадка на полуостров не состоялась, английские и голландские корабли, обязавшиеся перевезти русские войска, не стали этого делать – Англия, Голландия, да и Дания не хотели допустить господство России на Балтийском море. Военные действия понемногу заменялись дипломатическим противостоянием. Швеция уже не могла отстоять свои владения на континенте, а желающих оторвать как можно больший кусок от шведских владений было множество, и желательно без военных потерь. Северная война продолжалась вяло и нерешительно. Раздражённый Пётр писал А. Меншикову: “Что делать, когда союзников таких имеем. Бог видит мое доброе намерение, а их иных лукавство. Я не могу ночи спать от сего”.
Пётр решил найти новых союзников в Европе. В январе 1716 года он отправился на запад, где провёл множество деловых встреч с польским и прусским королями, герцогом Мекленбургским, датским королём. Обещаний от союзников было много – в обмен на шведские земли в Европе, но воевать “друзья” не спешили. В Голландии Пётр встретился с французскими дипломатами и принял решение ехать в Париж – Франция готова была взять на себя роль посредника в российско-шведских переговорах. Северную войну нужно было кончать.
В мае 1717 года Пётр приехал в Париж. Кроме переговоров царь несколько раз встретился с выдающимися французскими учёными, побывал в Академии наук, осмотрел мануфактуры, фабрики, аптеки, арсеналы, королевские дворцы, Монетный двор, Инвалидный дом, изучил парки, фонтаны и пруды Версаля. На смотре королевской армии сказал:
“Я видел нарядных кукол, а не солдат; они ружьем финтуют, а в марше только танцуют”. Париж он пожалел – “город сей рано или поздно от роскоши и необузданности претерпит великий вред, а от смрада вымрет”.
В августе 1717 года в Амстердаме был подписан русско-французский договор. Франция признавала все завоевания России в Прибалтике и брала на себя роль посредника в переговорах России и Швеции. Франция обещала больше не выплачивать субсидий Швеции – без французских денег Швеция должна была сесть за стол переговоров, даже со своим сумасбродным королём, которого сам Пётр называл “чудином”. В октябре 1717 года после полуторагодового отсутствия Пётр вернулся в Петербург. Весной 1718 года начались русско-шведские переговоры на Аландских островах. К их началу Пётр приготовил Балтийский флот – из 27 линейных кораблей, 3 фрегатов, 2 бомбардирских судов с общей командой более 11000 матросов и 1500 орудиями.
Переговоры проходили достаточно успешно для России. Пётр требовал присоединения Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии и части Финляндии с Выборгом и Кексгольмом – для прикрытия с севера Санкт-Петербурга. Побитый Карл XII согласился на все требования российской стороны, но в сентябре 1718 года шведский король был убит при осаде очередной крепости – историки до сих пор спорят, с какой стороны прилетела пуля. Вступившая на трон Швеции сестра Карла XII Ульрика Элеонора попыталась изменить условия мира. Шведская сторона стала затягивать переговоры, пытаясь, заручившись поддержкой Англии, изолировать Россию. С Петром так вести себя было нельзя. Русская морская пехота высадилась на побережье Швеции, казаки вошли в пригороды Стокгольма. В августе 1719 года шведская королева попросила русских прекратить военные действия. Шведы опять попытались затянуть переговоры и Пётр отозвал своих дипломатов с Аландских островов. За месяц до этого Швеция и Англия подписали союзный договор – английские власти плохо переносили утверждение России на Балтийском море. Заносчивые лорды вообще неадекватно реагировали на самостоятельные действия любых стран во внешней политике, – в результате чего через двести пятьдесят лет Англия была вынуждена плестись в форватере внешней политики своей бывшей колонии.
В Балтийское море вошла английская эскадра адмирала Норриса. “Акция устрашения” не удалась, Пётр тут же заявил английским дипломатам – “мы ни на какие угрозы не посмотрим и неполезного мира не учиним, но чтоб ни было, будем продолжать войну”. Русская морская пехота опять высадилась на шведском побережье. В июле 1720 года русский военно-морской флот почти в присутствии английской эскадры разгромил шведский флот, захватив четыре фрегата. За два года крейсирования у прибалтийских берегов англичане сумели сжечь на острове Наргене избу и баню для строителей. Российские дипломаты мгновенно известили об этом все европейские дворы – над “владычицей морей” смеялись, возможно, впервые в новейшей истории. Сожжение избы считалось “победой” шведской флота, бани – английского.
Русско-шведские переговоры возобновились 28 апреля 1721 года в маленьком финском городе Ништадте. 30 апреля 30 английских кораблей и 14 шведских стали на рейд Стокгольма. Через две недели русский десант опустошил 300 километров шведского побережья, 14 заводов были уничтожены, часть оборудования вывезена. Русские дипломаты сообщали Петру из Ништадта – “шведские министры прилежнее начали о мире договариваться”. Весь русский военно-морской флот вышел в Балтийское море под личным руководством Петра Первого. 30 августа 1721 года шведы подписали мирный договор. По Ништадскому миру России получила Лифляндию с Ригой, Эстляндию с Ревелем – Таллином, Ингрию, Карелию и часть Финляндии с Выборгом и Кексгольмом. За Лифляндию Россия выплачивала 2 миллиона ефимков.
Северная война закончилась превращением России в первоклассную военную державу. В 1701 году шведский король Карл XII презрительно бросил: “Мне ли бояться московских мужиков”. Через двадцать лет “великая держава Севера”, понадеявшись на помощь Англии, навсегда выпала из европейского “концерта” – Швеция больше не имела веса при решении стратегических и тактических проблем Европы – второстепенные державы в таких делах не участвовали.
Весь сентябрь Санкт-Петербург праздновал победу в Северной войне. В иллюминированной столице гремели маскарады и фейерверки. Пётр Первый был счастлив – “сия радость превышает всякую радость для меня на земле”.
Россия стала великой державой с процветающей внешней торговлей, приносящей колоссальную прибыль благодаря удобным портам. С 1721 года ни одно крупно европейское событие не проходило без участия России, всегда игравшую в них активную роль.
20 октября 1721 года Россия стала империей. 22 октября в Троицком соборе Петербурга титул императора Всероссийского, Великого и Отца Отечества был поднесён Петру – “как обыкновенно от Римского Сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены”. Друг детства и канцлер Г. Головкин обратился к Петру:
“Только едиными вашими неусыпными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные, из тьмы наведения на театр славы всего света и из небытия в бытие произведены и в общество политичных народов присовокуплены”.
Пётр ответил: “Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, от чего народ будет облечен; надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так сталось как с монархиею греческою”. В Неву вошёл флот, стреляли пушки 130 кораблей, сотни пушек Адмиралтейства, Петропавловской крепости – “все казалось объято пламенем и можно было подумать, что земля и небо рушаться”. Праздненства были продолжены в Москве.
Петербург, Выборг, Рига и Ревель стали крупнейшими внешнеторговыми портами Российской империи. “Окно в Европу” Пётр решил дополнить “дверями в Азию”. Каспийское море должно было служить для торговли с Азией, как Балтийское – для торговли с Европой. Пётр хотел торговать даже с Индией. В Персии того времени государственная власть в стране авторитетом не пользовалась. Специальный представитель Петра в Персии докладывал императору:
“Здесь такой ныне глава, что он не над подданными, но у своих подданных подданный. Чаю, редко такого дурачка можно сыскать между простыми, не только из коронованных. Сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на своего наместника, который всякого скота глупее, однако такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит и что велит, то и делает. Все дела у них идут беспутно, как попалось на ум, так и делают без всякого рассуждения. От этого они так свое государство разорили, что думаю и Александр Македонский в бытность свою не мог войной так разорить. Не только от неприятелей, но и от своих бунтовщиков оборониться не могут, и уже мало места осталось где бы не было бы бунта”.
Защищать русскую торговлю на Востоке дипломатическими путями в такой ситуации было бесполезно и Пётр решил осуществить Персидский поход – “нам без всякого опасения можно не только целой армией, но и малым корпусом великую часть Персии к России без труда присовокупить”. Летом 1721 года восставшие против шаха разграбили город Шемаху – центр русской торговли в Персии. Несколько русских купцов было убито.
18 июня 1722 года русская эскадра из 275 кораблей с 22000 солдат под руководством императора вышла из Астрахани. По берегу шло 9000 драгун. К концу лета были взяты Дербент и Терки. Пётр вернулся в Петербург, а летом 1723 года без боя был взят Баку. 12 сентября 1723 года в Северной столице был подписан русско-персидский мирный договор – к России отошли Дербент, Баку, провинции Гилянь, Мазандаран, Астрабад, западное побережье Каспийского моря. Военные походы Петра Великого закончились. Император без перерыва воевал почти тридцать лет.
Не только Пётр, но и многие “птенцы гнезда Петрова” день и ночь работали над созданием Российской империи, иногда, правда, сами назначали себе плату за свою работу. Сохранился рецепт и рекомендации для профилактики здоровья, написанный лейб-медиком Блюментростом для светлейшего князя А. Меншикова. Эти рекомендации были необходимы и Петру.
“Того ради надлежит себя остеречь от многого размышления и думания, ибо всем известно, что сие здравию вредительно, а особливо сия его высочества болезнь оттого вырастает, что от таких мыслей происходит печать и сердитование. Печаль кровь густит, и в своём движении останавливает, а сердитование кровь в своём движении горячит. И ужели кровь есть густа и жилы суть заперты, то весьма надлежит опасаться какой-то великой болезни.
Того ради мы рассуждаем, что от наших лекарств никакой пользы не будет, если его светлости со своей стороны сам себе помогать не будет, а особенно воздерживаться от сердитования и печали и, насколько возможно, от таких дел, которые мысли утруждают и в беспокойство приводят”.
Освободиться или воздержаться от дел и мыслей о процветании России Пётр, конечно, не мог. С. Платонов писал о личности Петра Великого:
“Петр был груб, даже очень груб и крут, но он не был кровожадным самодуром. Страшный в своем гневе и в своих болезненных припадках, Петр искупал этот страх уменьем примириться, даже покаяться и приласкать потерпевших. Вне этих ощущений страха Петр казался образцом ума, работоспособности и сознания долга.
Необыкновенное богатство природных способностей Петра сразу же вызывает невольное удивление всякого, кто знакомится с ним. Его руки умеют буквально все, за что он ни возьмется, от тяжелой работы топором до тончайших упражнений на сложных токарных станках. Его глаз быстр и верен; он наблюдает быстро и точно. Его ум всеобъемлющ, хотя и не склонен к отвлеченностям. Отличительное его свойство – уменье одновременно работать над многими разнородными предметами и притом с одинаковым вниманием и успехом. Дела текущего управления, крупные и мелкие; вопросы законодательства; редакция законов, отчетливая и мелочная, не лишенная юридической точности и ясности; технические вопросы кораблестроения; шутливая переписка, дипломатические аудиенции, – все это проходит непрерывным потоком через деловой кабинет Петра. Во всем он быстро осваивается и сразу делается хозяином положения. Упорный в серьезном труде, он с охотой, когда только возможно, вносит в него шутку.
С самых молодых лет Петра сказывалось у него живая, можно сказать, страстная любовь к знанию, глубокое влечение и интерес ко всем отраслям науки. Математика и техника, астрономия, естествознание, медицина, география и картография – равно пользовались вниманием Петра. Всюду, где бы он ни приезжал в своих европейских поездках, он устремлялся прежде всего на источники знания и искал сближения с представителями наук, посещал их в их кабинетах и лабораториях, осматривал музеи, искал раритеты. Он всю жизнь “требовал” учения и верил в его силу.
В связи с этим свойством была и привычка и любовь к труду, точнее – к деятельности. Петр по своей натуре не знал бездействия и скуки, с ним сопряженной. Но труд он смотрел, как на необходимое условие общественного и личного благоденствия, требовал работы от других и сам давал пример, производивший впечатление. Известен отзыв о Петре олонецких мужиков, вспомнивших о пребывании царя в их краю: “вот царь – так царь! Даром хлеб не ел, пуще батрака работал”. Читая в записках современников, видавших Петра только на людях, о его разъездах и развлечениях, мы не представляем себе, как напряженно он работал в свое трудовое время.
Особенно трудно приходилось ему потому, что он не много находил достойных его самого талантливых сотрудников. Он жаловался, что с самого вступления своего во власть он почти не имел помощников и поневоле заведовал всем сам. Только к исходу Шведской войны, при лучших своих полководцах Шереметеве, Голицыне и Репнине, он признал их воинские таланты и сказал: “дожил я до своих Тюрренов, но Сюлли еще у себя не вижу”. Действительно, в сфере гражданского управления при Петре не выявилось ни одного сколько-нибудь равного Петру администратора, и творческая работа лежала на нем самом.
Трудовая жизнь Петра и близкое знакомство с делом управления выработали у Петра строгую честность. Он любил правду и ненавидел ложь, обманы и лихоимство. На дело государственного управления он смотрел как на священный долг, и нес свои обязанности чрезвычайно добросовестно. Себя он считал слугой государства и искренне писал о себе: “За мое Отечество и людей живота своего не жалел и не жалею”. И действительно, Петр не жалел себя, когда дела требовали напряжения сил и энергии. Идея государства, как силы, которая в целях общего блага берет на себя руководство всеми видами человеческой деятельности и всецело подчиняет себе личность, эта идея господствовала в эпоху Петра, и Петр ее усвоил. Он отдавал себя служению государству и требовал того же от своих поданных. В его государстве не было ни привилегированных лиц, ни привилегированных групп, и все были уравнены в одинаковом равенстве бесправия перед государством. Петр, при всех его слабостях, всегда предстает перед нами с чертами неподкупного и сурово-честного работника на общую пользу. Как носитель неограниченной власти, он сознавал, что должен ею пользоваться осмотрительно, и не раз благодарил тех, кто воздерживал его от увлечений и ошибок. Петр хорошо понимал, как в сущности слаба его воля, как мала его власть над собой. Это сознание он выразил в знаменательных словах перед кончиной: “Из меня познайте, какое бедное животное есть человек”. Так в конце концов определил сам себя самый могучий человек своей эпохи”.
Установив новый закон о престолонаследии, по которому царствующий государь “кому хочет, тому и определяет наследство”, император Петр Великий не назначил себе наследника и скончался в ночь с 27 на 28 января 1725 года. В семи километрах от его дворца находилось поле битвы, где в 1242 году князь Александр Ярославич заслужил гордое название “Невский”. Два гения России умерли от переутомления не дожив до седин, но успели сделать свою Отчизну великой Державой.
Как же удалось Петру осуществить свою мечту и предназначение сделать свою Родину могучим и процветающим государством? Что позволило Петру в конце жизни сказать: “Природа произвела Россию одну. Она соперниц не имеет”? К 1720 году это поняли и в Европе. Крупный английский дипломат докладывал в Лондон:
“Никогда еще Германия и весь Север не находились в такой опасности, как ныне, ибо русских следует остерегаться гораздо более, чем турок, поскольку они не остаются в своем великом невежестве, но упорно добиваются все больших знаний и опыта в военных и государственных делах, превосходя многие нации во всем, что касается хитрости и двоедушия и подбираясь к нам постепенно все ближе”. Карьерный дипломат судил о другой стране основываясь на действиях своего государства. Россия действительно интегрировалась в Европу – но только не основываясь на двойных стандартах и подлости.