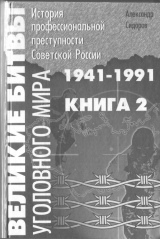
Текст книги "Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга вторая (1941-1991 г.г.)"
Автор книги: Александр Сидоров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Грабёж (статья 165 УК РСФСР) предусматривал срок лишения свободы от одного года до пяти лет.
Строже всего карали за разбой. Разбойник мог схлопотать от «пятёрки» до «червонца» (десять лет лишения свободы), а за вооружённый разбой даже предусматривалась смертная казнь.
Теперь же, по новым указам, срок за самую заурядную кражу личного имущества начинался с пяти лет! А обычным сроком «крадуна» становилась «десятка», поскольку большинство уголовников совершали свои преступления повторно.
Но и это считалось великой милостью, поскольку речь шла о личной собственности граждан. Если же преступник покушался на магазин или сельпо, или даже стащил барабан из пионерлагеря, ему «светил» «четвертак» – двадцать пять лет лишения свободы!
Согласитесь, есть разница между годом-двумя в лагерях – и двадцатью пятью годами! Кстати, именно в это время появляется знаменитая присказка, известная нынче каждому – «Опять двадцать пять!» Только кто же нынче помнит о том, что подразумевалось под этими словами? А подразумевалось то, что «четвертак» после 1947 года стал самым «популярным» сроком наказания.
Как рождалась приведённая выше поговорка, можно проследить по рассказам старых лагерников, Так, зэчка из Западной Украины М-ко вспоминает:
Имя Райхмана (генерал-лейтенант госбезопасности. – А.С.) у нас на Западной Украине всё равно, что МГБ, что для многих мужчин – смерть, а для многих женщин – 25 лет каторги. Были у нас и бандеровцы, и противники советской власти, но большая часть, как и я, не знали об их существовании или только слышали: всё равно двадцать пять… (выделено мною. – А.С.).
На уголовное сообщество июньские указы произвели жуткое, шоковое воздействие. Уже упоминавшийся Михаил Дёмин вспоминает, как впервые узнал о них из «тюремного телеграфа» (перестукивания через стену):
«Вышел какой-то новый Указ, может, слыхал? Срока, говорят, будут кошмарные… Не дай-то Бог!»
Указ? Я пожал в сомнении плечами. Нет, о нём пока разговора не было. Скорей всего, это очередная «параша», обычная паническая новость, которыми изобилует здешняя жизнь… Я усомнился в тюремных слухах – и напрасно! Новость эта, как вскоре выяснилось, оказалась верной… Появился правительственный указ, страшный «Указ от 4.6. 1947 года», знаменующий собой начало нового, жесточайшего послевоенного террора. Губительные его последствия мне пришлось испытать на себе так же, как и многим тысячам российских заключённых…
Говоря о губительных последствиях, Дёмин имел в виду в первую очередь то, что указы «четыре шестых» оказались дополнительным, мощным фактором, который спровоцировал кровавый раскол в воровском послевоенном мире…
Союз с чекистами
Правда, разброд и шатания среды «воров» возникли не в 1947 году, а несколько раньше. «Штрафники» из «блатных» попадали в лагеря и в 1945-м, ещё до печально знаменитых Указов. Однако почему же «сучья война» вспыхнула именно в 1947–1948 годах?
Да потому, что к этому времени изменений в «воровском законе» стали требовать не только уголовники, вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной. Брожение началось и среди тех, кто во время войны «мотал» сроки в лагерях. Ведь «братва» привыкла к тому, что большие сроки отмеривали только «политическим», разного рода «троцкистам-уклонистам». Теперь же нужно было приспосабливаться к новой реальности, когда «четвертаки» щедро раздавались и «блатным»! Двадцать пять лет в «зоне» мало не покажется. Да чего уж двадцать пять: после привычного года-двух и «червонец» воспринимается как вечность… Тут здорово не покуражишь, не погужуешься. Тем более требования в местах лишения свободы в послевоенное время не смягчились.
В связи с этим любопытно и ещё одно обстоятельство (которого мы уже касались вскользь). К концу 40-х годов существенно изменился состав заключённых в местах лишения свободы. В связи с ужесточением законов и увеличением сроков в лагерях значительно больше стало оседать профессиональных уголовников. А «мужиков» и «фраеров» становилось меньше! Повлияла, понятно, амнистия 7 июля 1945 года, в результате которой на волю вышло 301450 зэков. Но сказалось и определённое изменение обстановки в обществе. «Мужики» нужны были в колхозах, чтобы кормить страну, и на стройках, чтобы её восстанавливать. Война выкосила мужчин, в том числе и специалистов во всех отраслях народного хозяйства. Приходилось с этим считаться и временно ограничить террор в отношении этих людей. Конечно, не в полной мере (производство было и в лагерях, там тоже специалисты были нужны); но всё же соотношение «блатных» и тех, за чей счёт они привыкли жить, за «колючкой» изменилось – и не в пользу «честных урок». Так что работяг на всех явно могло не хватить…
Напомним, что ещё задолго до «сучьей войны» в «законах» уголовного мира стали появляться некоторые изменения. Разумеется, никто не собирался напрочь отказаться от знаменитой формулировки – «Вор ворует, фраер пашет». Однако по отношению к лагерному существованию она стала более гибкой. Теперь уже для «блатного» работать считалось не «западло». Но только не в тепле, в «зоне», а на общих работах вместе с основной массой арестантов – на лесоповале, рытье траншей и пр. Конечно, при этом сам «вор», «блатной» чаще всего не марал белых рученек, ему просто приписывали норму выработки. Но уж во всяком случае видимость создавал, и для начальства показатель вывода на работу обеспечивался.
Но даже этих уступок под давлением обстоятельств многим представителям «блатного братства» казалось недостаточно. Они считали, что неразумно, сделав первый шаг, не сделать второй. А именно: раз уж всё равно теперь допускалось «законному вору» выходить на общие работы, надо идти дальше. «Воровская масть» должна занимать все более или менее значимые, «хлебные» арестантские должности и внутри «зоны» – стать нарядчиками, хлеборезами, заведующими банями и т. д. То есть теми, кого арестантское сообщество иронически именовало «придурками», умеющими устроиться в жизни за счёт общей массы зэков, «пашущей» на тяжёлых работах. (Вспомним опять же, что это бы не противоречило «традициям» старорежимных «бродяг» царской каторги, которые именно так и поступали).
Но такой шаг подразумевал обязательное сотрудничество с «ментами», с «вертухаями» – с лагерным начальством. А ведь «закон» требовал совершенно определённо: никаких дел с «мусарней» – ни в «зоне», ни на воле! Никаких соглашений и компромиссов!
Часть «блатных», даже не воевавших в штрафных подразделениях, склонялась к мысли, что одно дело – «держать стойку», когда тебе «впаяли» пару лет, и совсем другое – когда «разматываешь пятнашку» или «тянешь четвертак».
– Мы же не «политики», не «фашисты»! – возмущались они. – Главное – любыми способами захватить власть в «зонах», и тогда там действительно будет «воровской закон»! Ради этого все средства хороши! Кто выиграет от того, что мы все передохнем или превратимся в «доходяг»? Те же «менты»! Какой понт рогами упираться и корчить из себя «несгибаемых», если это на руку только лагерным «начальничкам»?
Но основной костяк «праведных воров» (а их насчитывались тысячи) резко выступил против таких «революционных нововведений». Это были люди, действительно преданные своей «воровской идее». Сумев пережить тяжёлые лагерные времена во время войны, имея солидный авторитет в уголовном мире, эти «законники» решили не отступать от принципов и традиций, выработанных «шпанским братством».
– Что, очко заиграло? – со злой иронией спрашивали они у собратьев-«реформаторов». И тут же вспоминали известную лагерную присказку (придуманную, впрочем, не ими, а «политиками»-долгосрочниками): – Не боись, в лагере только первые десять лет тяжко. Потом пообвыкнешься. И помни заповеди порядочного арестанта: «Не верь. Не бойся. Не проси».
И всё же в рядах «блатного» сообщества число колеблющихся росло, в то же время в лагерях и тюрьмах росло и количество «военщины» – бывших «штрафников», ставших в глазах их бывших «коллег» «ссученными». Эти уголовники, прошедшие самыми страшными дорогами войны, видевшие море крови и легко умевшие её проливать, не смирились с тем, что им определили место среди «овец» (то есть безропотных, не умеющих постоять за себя арестантов). А самое главное: у них уже не было особого предубеждения против людей в погонах. Они и сами носили погоны, воевали под руководством офицеров. Кроме того, многие «суки» во время войны тоже дослужились до офицерских чинов. Поэтому «суки» легко и даже демонстративно переступили через «воровской закон». Более того: по преданиям старых лагерников, в 1948 году «ссученные» на «толковище» в пересыльной тюрьме бухты Ванино на Колыме приняли свой собственный, «сучий закон». Краеугольным камнем этого «закона» как раз и стало тесное, активное сотрудничество с администрацией – с целью заручиться поддержкой лагерного начальства в кровавой резне с «ворами». Им был нужен сильный союзник: ведь, что ни говори, а «штрафники» составляли в лагерях меньшинство.
Будем справедливы: на первых порах «суки» (как и «воры») не особо жаждали крови. Их главной целью было другое: заставить «воров» принять «сучий закон», отказаться от «воровской идеи» и тем самым подтвердить правильность выбора тех «блатарей», которые решили жить в «зонах» по-новому, «по-сучьи». Кровь и «гнуловка» при этом были всего лишь неприятной необходимостью в случае, когда «воры» не желали идти навстречу своему «счастью». Вот что об этом пишет известный писатель Ахто Леви, сам в своё время прошедший сталинские лагеря, в автобиографическом романе «Мор» («Роман о воровской жизни, резне и воровском законе»):
Не физическая смерть воров важна для сук – им важно моральное их падение, духовное поражение; сукам необходимо «согнуть» воров, заставить отказаться от воровского закона; сукам выгоднее, если воры предадут свой закон так же, как сделали они сами, и станут тогда с ними, с суками, на одном уровне. И вот они идут, достопримечательные суки. На убийства тела и духа, ибо, если кто из воров не захочет согнуться – тому смерть. Сукам уже нечего терять, они уже не могут кичиться воровской честью. У воров же что-то ещё осталось, и это необходимо у них отнять – таков сучий закон.

Писатель Ахто Леви – бывший узник ГУЛАГа.
[Закрыть]
Короче говоря, «суки» обратились с предложением о сотрудничестве непосредственно к чекистам. И чекисты легко пошли на этот союз, который – как им казалось – сулил немалые выгоды. Ещё бы: ведь поддержки лагерного начальства искали хоть и уголовники, но всё же люди, проливавшие кровь за Родину! К тому же эти «сознательные» заключённые хотели помочь администрации в наведении порядка, ненавидели своих бывших подельников, а самое главное – готовы были взять на себя всю грязную работу, связанную с применением насилия!
В конце концов, что, кроме пользы, может дать резня в воровском мире? – рассуждали чекисты. Чем больше ворья погибнет с обеих сторон, тем лучше. Тем спокойнее станет и в лагерях, и на свободе. В этих рассуждениях, конечно, была своя логика. Но дальнейшие события доказали ошибочность «розовых мечтаний» лагерных теоретиков.
И всё же на первых порах чекисты вручили «сучне» карт-бланш, предоставили «зелёную улицу», которую «штрафники» с энтузиазмом принялись мостить трупами «воров».
Заслуженные «суки» Советского Союза
Для начала гулаговское начальство искусственно обеспечило «блядской масти» численный перевес над «законниками». Прежде всего это стало возможным в тюрьмах – с их камерной системой, где воры содержались относительно небольшими группами и были изолированы друг от друга. Как правило, чисто «воровских» «хат» было мало. Существовали, конечно, «абиссинии» и «индии», но чаще всего «блатные» содержались вместе с общей арестантской массой – «перхотью». И рассчитывать на поддержку этой «перхоти» – «мужиков», «фраеров», «политиков» – «законникам» не приходилось. Вот уж кто меньше всего сочувствовал уголовным «авторитетам»!
Тем более «суки» постоянно подчёркивали, что их главная цель – защитить общую массу заключённых от воровского «беспредела», навести в местах лишения свободы порядок, добиться справедливости… Поначалу многие арестанты этому верили.
Итак, с тюрем начались так называемые «гнуловки» – попытки насильно заставить «воров» отказаться от «воровской идеи» и «закона». Делалось это достаточно просто: в камеру заходила специальная команда «сук», вооружённых с ног до головы ножами, заточками, «пиковинами». Они выявляли среди зэков тех, кто относился к «воровскому братству» (благо, многих «суки» знали не понаслышке: вместе «чифирили», а то и «колупали лабазы»). После этого отделяли «воровскую масть» от общей массы арестантов и предлагали «блатным» здесь же, публично, отказаться от «воровского закона» и принять «закон» «сук». Это обязан был сделать каждый в отдельности, при скоплении свидетелей, чтобы потом не было возможности найти для себя никаких оправданий, «отмазок»: мол, я ничего не говорил, от меня ничего не слышали… Ну, а если «вор» упорствовал – вот тут и начиналась «трюмиловка».
Почему «трюмиловка»? На блатном жаргоне тех лет слово «трюм» означало тюремный карцер. Существовало (и существует поныне) выражение «бросить (кинуть, опустить) в трюм» – то есть строго наказать. Тюремная камера считалась наиболее строгим видом изоляции, а уж карцер – тюрьма в тюрьме, – как говорили зэки, «строже строгого».
Интересно отметить, что жаргонное название карцера «трюм» – в воровской сленг пришло из Англии в первые десятилетия XX века. Занесли его так называемые «марвихеры» – то есть воры высокого класса, часто «гастролировавшие» за границей. Один из них, Самуил Квасницкий, свидетельствовал:
…На допросе меня ударили резиной по голове… Я не выдержал и замахнулся на надзирателя.
Какая разница – резина или кулак! Но об этом я подумал потом, в карцере под названием «трюм»…
«Трюм» в Скотланд-Ярде сделан очень остроумно. Я думаю, его изобрёл какой-нибудь адмирал. Когда меня втолкнули в карцер, на полу было немного воды и ни одной скамейки. Я сразу догадался, что камеру только что вымыли и осталась лужа. Я закричал надзирателю, чтобы вытерли пол. Он сказал «сейчас», принёс шланг и стал поливать меня с такой силой, что едва не выбил глаза. Воды набралось пол-аршина, и я стоял в «трюме», дрожа, как собака, целые сутки. («Беломорско-Балтийский канал имени Сталина»).
Но «суки» решили показать, что даже самое страшное, по арестантским меркам, наказание – ничто по сравнению с тем, что ожидает тех воров, которые не захотят «перековаться». Их «перековывали» в буквальном смысле.
«Трюмить» – это не просто убивать. Это – убивать долго, изощрённо, мучительно, на глазах у толпы – чтобы устрашить других, тех, кто предстанет перед «суками» вслед за добиваемым вором. Как пишет Варлам Шаламов:
Блатарей не убивали просто. Перед смертью их «трюмили», то есть топтали ногами, били, всячески уродовали… И только потом – убивали. («Сучья война»)
До нас дошло не так много свидетельств этой кровавой процедуры, хотя достаточно ещё людей, на глазах у которых она в своё время происходила, и с некоторыми автору настоящей книги довелось беседовать. Однако хотелось бы сначала обратиться к замечательному роману В. Высоцкого и Л. Мончинского «Чёрная свеча», в котором очень точно и ярко изображена процедура «трюмиловки». К сожалению, в русской литературе буквально по пальцам одной руки можно перечесть произведения, объективно и точно отражающие реалии послевоенного ГУЛАГа. «Чёрная свеча» – одно из них:
Первым в камеру вошёл человек в бешмете чёрного сукна, плотно облегающем необыкновенно длинное туловище. Гость огляделся цепким взглядом чёрных глаз и, сняв с головы баранью шапку, сказал, не поворачивая к дверям головы:
– Спят, хозяин. Входи…
– Зоха! – как имя собственной беды, выдохнул осунувшийся Каштанка. – Отгуляли воры..
– Надзиратель? – спросил недоумённо Упоров.
– Зоха-то? Нет, сука!..
На пороге появился ещё один гость. На этот раз необыкновенно располагающий человек в надраенных, без единой морщинки хромовых сапогах. Он озирал мир полными сдержанной нежности голубыми глазами, и возникало невольное желание ему улыбнуться. Гость был солнечный, откровенно счастливый и составлял полную противоположность Зохе…
– Салавар – главная сука Советского Союза! Это гроб, Вадим!..
– Кто им позволил? Где надзиратели?!
– Не шуми. Они по запарке и фраера замочить могут. Салавар нынче – и судья, и надзиратель. Трюмиловка!
… В камеру входили новые люди, по большей части крупные, сытые. Они сжимали в руках стальные забурники. Каждый сразу занимал свою позицию, оставляя место вокруг себя для замаха и удара…
Под конец двое здоровых мужчин внесли лист железа, а третий – две кувалды с железными ручками.
– Зачем всё это? – едва слышно спросил Упоров.
– Сказано – трюмитъ будут.
… -Я, признаться, крови не терплю, – уже смиренно молвил Ерофей Ильич (Салавар. – А. С.). – Потому прошу этих преступников смягчить участь свою покаянием… Раскаяние не может быть актом формализма… Человек должен внутренне так настроить себя, чтобы вести другую жизнь и поиметь большое отвращение к прежнему скверному существованию. Но ежели в вас не искоренена склонность к желанию блатовать…
Снова был короткий взгляд, укоряющий слушателей за непослушание, и с мукой произнесённые слова:
– … Готовьтесь к худшему.
Лежащего Заику растянули на залитом кровью полу, придавив сверху листом железа. Вор попытался подняться, но две кувалды обрушились на то место, где находились почки. Удары сыпались, не переставая, наполняя камеру гулом. Лицо зэка корчилось в немых стенаниях…
Салавар поднял руку. Гул смолк. Молотобойцы отошли в сторону, тяжело дыша и косясь на погнутое железо.
– Поднимите!
До неузнаваемости преображённого испытанием зэка держали под руки… Было очевидно – он почти умер, стоит в сумраке перед вечной ночью, а руки его, как руки слепца, пытаются что-то нащупать перед собой.
– Надеюсь, дружеская критика понята правильно?
Вор с трудом вобрал в себя воздух и выдохнул с кровавым
плевком в лицо главной суки Советского Союза.
– Га-га-га, – хрипел Заика, пытаясь протолкнуть застрявшее в горле ругательство.
– Не надо, – остановил его жестом Салавар, брезгливо вытирая лицо белоснежным платком. – Суд освобождает тебя от последнего слова. Правда, Зоха?
Тупой удар в спину Заики дошёл до каждого. Вор качнулся вперёд, глаза его расширились до неимоверных размеров, скосившись на выросшее из левой части груди острие кавказского кинжала.
Мы так подробно цитируем роман не только потому, что это – талантливое произведение. Дело в другом. Автору настоящего исследования приходилось встречаться с несколькими старыми арестантами, прошедшими ГУЛАГ. Некоторые из них были свидетелями, а двое – тихий старичок Федя Седой и «битый каторжанин» с шестнадцатью сроками за плечами Николай К-в – даже участниками воровской «резни». Добиться подробностей от них было чрезвычайно трудно: люди не очень охотно вспоминали то время. Однако посчастливилось узнать ряд интересных деталей, услышать имена, которые в свое время гремели в лагерях, а сейчас давно уже забыты.
Каково же было удивление и потрясение автора этих строк, когда именно в «Чёрной свече» эти имена – правда, в несколько изменённом виде – встретились ему вновь! Ни Федя, ни Николай не читали этого романа. Но когда они рассказывали о «сучьей войне», многое в их повествовании перекликалось с книгой Высоцкого и Мончинского. Не просто имена – внешность, характеры персонажей и даже подробности страшных разборок в тюремной камере были ясно узнаваемы!
Прежде всего это касается центральных фигур – «главного суки Советского Союза» Салавара (Ерофея Ильича Салаварова) и его подручного Зохи.
Салавар не кто иной, как Пивовар – печально известный на весь ГУЛАГ Пивоваров. Зоха – его подручный чеченец Ваха.
– Там кроме Вахи ещё один был чеченец – Салтан, – припомнил Николай К-в, начавший свою «сидельческую» жизнь в конце 30-х годов. – Мрази. Их даже свои не любили, «зверьки»; ну, кавказцы…
Пивоваров, по словам этих «каторжан», был одной из самых крупных фигур в «сучьем» движении. Фактически его и его армию арестантский мир выделил в особую «сучью масть» – «пивоваровцев». Вообще в ГУЛАГе было немало различных группировок зэков, называвшихся по фамилиям главарей. Но до нас дошло всего лишь несколько. «Пивоваровцы» – самая крупная. Можно выделить ещё «упоровцев» и «ребровцев»; впрочем, здесь у старых «каторжан» мнения разошлись: один причислил Реброва к «сукам», двое других утверждали, что он – «беспредел» (о них разговор впереди).
Пивовар и Ваха в своё время отбывали наказание в Карагандинских лагерях. Причём сам Пивовар считался одним из авторитетных воров, но на чём-то, как говорят блатные, «подзасёкся» – и «подзасёкся» настолько серьёзно, что был заочно приговорён сходкой к смерти. Вот тут он и решил показать, кто же хозяин положения… Ваха и Салтан, его подручные, – из ссыльных чеченцев. Уже будучи в ссылке, зарезали кого-то из местных жителей и попали в лагерь, где Ваху и приметил Пивовар. А приметил из-за огромной силы и ловкости. Пивовар и Ваха были неразлучны, чеченец исполнял роль телохранителя «главного суки» и приводил в исполнение его приговоры. Однако он не смог помешать исполнению приговора, вынесенного арестантами самому Пивовару: того в конце концов зарезали в коридоре пересыльной тюрьмы.
О судьбе Вахи и Салтана арестанты ничего определённого поведать не смогли. Разве что Федя Седой успокоил:
– Да ты не волнуйся. С такой богатой биографией в лагерях обычно не выживают.
«Пивоваровцы» с благословения чекистов гастролировали по всем тюрьмам Советского Союза, «гнули» воров, «трюмили» непокорных. Одно имя Пивовара наводило жуть не только на воровское сообщество, но и на рядовых арестантов – «мужиков» и «фраеров». Ведь, несмотря на мнимую «заботу» о зэках и проповедь справедливости, «сучня» не терпела, когда кто-то проявлял излишнюю независимость или «непокорность».
В ряду «легендарных» «сук» нельзя обойти молчанием также фигуру Короля – лидера колымского «сучьего» движения. Правда, сведения об этом персонаже нас удалось отыскать только у Варлама Шаламова в его очерке «Сучья война» и в одном из очерков журналиста Виталия Ерёмина (к сожалению, достоверность многих фактов в котором весьма сомнительна). Бывшие лагерники тех лет, с которыми посчастливилось беседовать, не смогли вспомнить о таком «воре».
Существовал ли Король на самом деле, подразумевался ли под ним тот же самый Пивоваров или это обобщённый образ «сучьего» «идеолога» – неизвестно. Мы склоняемся к последней версии. Кличка Король достаточно распространена среди уголовников, поэтому нет ничего удивительного, что «подвиги» нескольких «сук» могли в арестантском мире соединиться в одно целое.
Шаламов повествует об обряде «целования ножа», якобы изобретённом Королём:
Новый обряд ничуть не уступал известному посвящению в рыцари. Не исключено, что романы Вальтера Скотта подсказали эту торжественную и мрачную процедуру.
– Целуй нож!
К губам избиваемого блатаря подносилось лезвие ножа.
– Целуй нож!
Если «законный» вор соглашался и прикладывал губы к железу – он считался принятым в новую веру и навсегда терял всякие права в воровском мире, становясь «сукой» навеки… Всех, кто отказывался целовать нож, убивали.
Об обряде «целования ножа» вспоминают практически все арестанты ГУЛАГа, с которыми удалось беседовать о «сучьей войне». Любопытно, что работники мест лишения свободы, рассказывая об этом, обязательно ссылались только на свидетельства зэков, подчёркивая, что сами они никогда не видели такого обряда.
Некоторые арестанты тех лет вспоминают и другие подробности обряда. Например, писатель Анатолий Жигулин, «малолеткой» побывавший в ГУЛАГе, рассказывал, будто бы в лагере, где он отбывал наказание, вместо ножа целовали… половой член «главного суки»! Не подвергая сомнению это свидетельство, всё же оговоримся: если подобные «церемонии» и имели место, то лишь, в отдельных лагерях – как местная «самодеятельность», но не как осуществление общего «сучьего закона». Такое «целование», скорее всего, не переводило бывшего вора в разряд «сук», а делало изгоем, ничтожеством, «пидором». Ведь целование члена или даже невольное прикосновение к нему губами расценивается в уголовно-арестантском мире наравне с половым актом в качестве пассивного партнёра. (Причём порою даже необязательно дотрагиваться губами: фаллос могут положить жертве за ухо, и эта процедура тоже считается «опусканием», переводом арестанта в касту «неприкасаемых», отверженных, «обиженных». В настоящее время такой «обряд» сохранился ещё кое-где в воспитательных колониях для несовершеннолетних; тех, кто ему подвергся, называют «плотниками» – вероятно, из-за плотницкой привычки во время работы совать за ухо карандаш, чтобы он был под рукой при разметке).
Вадим Туманов, проведший пять лет на страшных штрафных «командировках» конца 40-х – начала 50-х годов, вспоминал о том, что в бухте Ванино на пересылке «трюмиловка» осуществлялась в присутствии высоких начальников и на глазах у этапов по несколько тысяч человек. Но здесь требовалось не поцеловать нож, а ударить в колокол (или в подвешенную рельсу – «цингу»). Дело в том, что удар в колокол или рельсу служил сигналом для зэков при выполнении каких-либо действий: развод, обед, съём и проч. Подать такой сигнал значило начать работу на «начальника».
Если «вор» отказывался ударить в колокол, его тут же, на глазах у гулаговских офицеров и арестантов, убивали. Правда, не особенно изощрённо: просто «запарывали» ножом. Эту процедуру осуществлял невысокий арестант из бывших «воров» – ванинский «сука» Ваня Фунт и его подручный Серёга Свист.
Вообще, поначалу среди «сук» не было единого мнения по поводу разного рода процедур и «обрядов». Так, по рассказу Шаламова, воркутинские «ссученные» не одобряли жестокости колымчан, отрицательно относились к «трюмиловкам». Они считали, что просто убивать «нераскаявшихся» воров – нормально. Но дополнительная жестокость – это уже лишнее. Воркутинцы были «гуманистами»…
Следует подчеркнуть различие между «трюмиловкой» и «целованием ножа». «Целование» возникло несколько позже, непосредственно в лагерях, когда у «ссученных» появилось свободное время для творческой деятельности по отработке «театральных церемоний». «Трюмиловки» же носили чисто «прикладной» характер: запугать, сломить, привлечь в свои ряды «честных воров».
(Конечно, в конце концов для арестантов и «воров» все эти различия между «трюмиловкой» и «целованием» – а также ударом в рельсу и пр. – стёрлись. В своих воспоминаниях Вадим Туманов, например, обряд «гнуловки» «воров» при стечении зэков на плацу называет именно «трюмиловкой». Однако необходимо помнить, что поначалу разница всё же была…).
«Трюмиловки», как уже говорилось, проходили в тюремных камерах (иногда также – на тюремном плацу, куда опять же выводили по возможности «сидельцев» из одной «хаты»). Для «целования» нужна была торжественная атмосфера, множество зрителей. Для этого подходил только лагерный плац, в центре которого становился главный «сука» со своими подручными. Воров выдёргивали поодиночке, они представали перед сотнями глаз, и отказ от «идеи», от воровского звания протекал для «честняков» особенно болезненно, был крайне унизительным. Необходимо также отметить ещё одну особенность обряда «целования ножа». Каждый новичок, отказавшийся от «воровского закона» и принявший «сучий», обязан был не только поцеловать нож. Он должен был при всей собравшейся толпе доказать приверженность «сучьему закону», тут же лично убив одного из «несгибаемых воров», отказавшихся приложиться губами к «сучьему перу». Убивали несколькими способами; самыми распространёнными были – зарезать ножом или забить ломом (на Севере были популярны также «забурники» – наконечники на буровом оборудовании, при помощи которых бурились скважины). При «трюмиловках» все эти действия теряли бы эффект «публичности», массового действа, жуткого театрального спектакля.
Поэтому «трюмить» воров вскоре стало для «сук» неинтересно. Гастроли Пивовара с подручными по тюрьмам стали всё реже. «Целование» же становилось чрезвычайно популярным «обрядом». И хотя многие видные воры (Полтора Ивана Балабанов, Полтора Ивана Грек) предпочли смерть измене «воровской идее», другие (Мишка-одессит, Чибис) приняли «сучью» веру.








