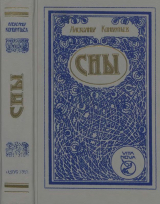
Текст книги "Сны (Романы, повесть, рассказы)"
Автор книги: Александр Кондратьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Улыбка Ашеры
(Фрагменты)

 олосы твои черны, как листья деревьев безлунною ночью, и как сицилийский папирус шелестит белое платье твое.
олосы твои черны, как листья деревьев безлунною ночью, и как сицилийский папирус шелестит белое платье твое.
Напевая, проходишь ты мимо сада, где работаю я, и сандалии твои стучат по камням, подобно копытцам газели.
Брови твои властны, как слово великого царя в Вавилоне, и душу мою оковала ты ими.
В ожидании улыбки твоей…
Ибо когда улыбаешься ты, о карфагенянка, я забываю плен свой, тоску по родине и все клятвы мои, оставленные девам Родоса…

Твердой мотыкой я бью желтую рыхлую землю. Горячий пот ручьями струится по моей обожженной солнцем спине.
Усталый, я не могу разогнуть поясницы; в глазах же моих танцуют красно-зеленые пятна…
О бог Аполлон, сжалься над эллином! Некогда я, подобно Тебе, натягивал лук…
А вы, приморские ветры, дохните в лицо мне свежестью волн и принесите на крыльях своих аромат черно-синих волос той, кто прекраснее всех в стране Ашторет!

Как заря, румяны ланиты твои и, как черные звезды, глаза.
Легка походка твоя, и сладко звенят золотые цепочки у ног.
Благоухание струят белые цветы в волне твоих пышных волос.
Отдаваясь солнечной ласке, как радостный сон проплываешь ты мимо меня, светлым легоньким зонтиком защищая от загара лицо.
Бойся тягостных стрел знойного Локсия, финикийская дева! Вечером проходи мимо не защищенных тенью полей.
Вечером и твоя тень станет длиннее, и тогда, паб на колени, я могу незаметно ее поцеловать…

Свобода и месть снились мне этой ночью.
Как белые призраки встали вдали очертанья триер славной Эллады.
Дружно били по чуждым волнам тяжелые весла. Ярко пестрели вдоль по бортам боевые щиты, где на красной доске гордо белело родосское Ро.
И одно за другим тонули в жестоком бою встречавшие эллинский флот суда карфагенян.
А когда по каменным плитам объятого ужасом порта задвигались стройно в звонкую медь одетые лохи, когда запели тревожно длинные трубы и неподвижные трупы легли по площадям и на ступенях храма Мелькарта, – я вышел навстречу гоплитам Эллады.
Вместе с ними жег я дворцы и убивал карфагенян, пока не приблизился к черному дому, где с высоких дверей скалили зубы золотые пасти разгневанных львов.
С обрызганной кровью секирой в руках перепрыгнул я за порог.
Ибо знал я, что ты стоишь недалеко… Но когда я увидел тебя в одежде, белой как мел моего родимого острова, нежный твой лик заслонил для меня и разубранный пышно дворец, и трупы, и тяжкою медью одетых гоплитов Эллады…
Затем все исчезло, и сердце мое болезненно сжалось.
То наступил мне на грудь, будя меня для постыдной работы, суровый надсмотрщик с кожаной плетью в руках.

Вновь и вновь мечтаю я о тебе, и, подобно крыльям Психеи, мелькает передо мной повсюду светло-прозрачное платье твое, и тихо звенят золотистым смехом цепочки у девственных ног.
Знаю – парным молоком серых ослиц дважды в день моешь ты эти нежные ноги, дабы не загорала кожа на них.
И черные рабыни твои ссорятся между собой из-за того молока, пока алая кровь не окрасит их твердые ногти.

Ты, кого здесь называют Ашерой, чье изваянье с синею птицей у каменных персей стоит на высотах, Ты, перед кем среди золотых треножников гордого храма на Эриксе равно простираются и греки, и карфагеняне, Ты, чей вздох воздымает волну и отнимает сон у влюбленных, чей смех разливает безумный восторг полного счастья, – я Тебя заклинаю: будь благосклонна ко мне и сделай то, о чем я теперь не смею мечтать!

Ярко горят знаки небесных зверей на черно-синем плаще царственной Ночи. Давно угасли все огоньки в скважинах ставень. Недвижны темные купы деревьев. Все спит. Один только я, не боясь потревожить собак, торопливо рву при сияньи планет цветы перед террасой дворца.
Из хрупких лилий, нежных вьюнков и шипами усеянных роз сплету я венок, чтобы повесить его на темно-бронзовой двери твоей.
Пусть алые капли из наколотых рук оросят белизну невинных цветов, мешаясь со слезинками Ночи.
Всю мою кровь готов я отдать, дабы хоть на миг овладеть твоей белизной…

– Убежим! Убежим! – шептали мне ночью товарищи. – Пьяны сегодня по случаю праздника все сторожа. Ночь пролетит, и далеко за пределами города встретит нас своею улыбкой дарящая волю пустыня.
Охотно примут дети ее тех, кого угнетал Карфаген. Там не будем мы больше рабами!
И я внимал их речам, полный раздумья…
– Уплывем вместе с нами, – звали меня двое других. – Давно присмотрели мы лодку возле дворца, там, где море лижет крутые ступени лестницы, ведущей из сада. Лазурно-зеленые споют нам шумную песню свободы и на своих белых гребнях отнесут обратно на родину…
И я молчал, уныло склонясь головой.
К утру наша тюрьма стала пуста.
Там остался лишь я, ибо сердце мое незримою цепью приковано к этим местам.

– Почему не бежал ты вместе с другими? – спросили меня сторожа.
– Мог ли я прогневить моего господина? Он кормит меня и дарит дыхание жизни. Мне ли бежать от его благословенного лица!
Да и куда мог бы укрыться я от карающей десницы его? Ни пески пустынь, ни волны морские не защитили бы меня от его львиного гнева!
– Ты хорошо говоришь, – ответили мне сторожа, – но речи твои не помогут нам избежать наказанья.

В утреннем сне Ты мне явилась, Богиня, такою, как тебя почитают местные жители. Бессмертный лик был темен, как изваянье из черного камня в коринфском предместье, где среди кипарисов на вершине горы высится храм твой, о Меленида.
И когда я, простершись во прах, стал просить Тебя соединить меня с той, кого я люблю, Ты улыбнулась мне и произнесла:
– Лишь неутоленные милы желания.
Но тогда я стал заклинать Тебя всеми мольбами, какие помнил и знал, пока Ты смягчила сердце Твое, и я не услышал звучащий, как музыка систров в храмах Египта, божественный голос:
– Да сбудется то, о чем ты просил.
Слава Тебе, радость дарующая Афродита!
Скоро сбываются сны, которые мы видим под утро.

В фиолетовом ярком плаще, на груди по-женски застегнутом сверкающей пряжкой, вылез он из носилок и вперевалку, походкой привыкшего к бурям наварха, пошел по террасе дворца.
Два эфиопских мальчика в зеленых одеждах побежали за ним, осеняя черную с золотом митру опахалами из ярких перьев сказочных птиц, поющих в садах гесперид.
Все мы разом легли перед ним, ткнувшись лицом в базальтовые плиты помоста.
Это был Бармокар, чья пентера с острыми бивнями решила участь упорного боя карфагенян с флотом сицилийских союзников.

Над берегом канала, в зеленых кустах сижу я вместе со свирелью моей, не обращая внимания на летающих вокруг блестящих стрекоз.
Думы мои со звуками песни рвутся из середины спаянных воском стволов тростника. Думы мои несутся к тебе, кого я вряд ли увижу.
С тех пор как услали меня из Карфагена управлять загородным поместьем отца твоего, дни и ночи я пребываю в тоске.
Где ты? Что делаешь ты, финикиянка?
По-прежнему ли ходишь ты мимо ограды, за которою я когда-то работал, купаться в морской прозрачно-зеленой воде, где тело твое кажется мраморно-белым?
О, как любил я созерцать это стройное тело из густых кустов на прибрежном обрыве!

Когда обессилевшего после долгого плаванья по волнам среди обломков снастей и утопавших матросов втащили меня, протянув мне весло, на палубу карфагенской пентеконтеры и там я расстался с проглоченной мною горькой морскою водой, мне показалось, будто я вновь родился на свет.
Хотя и знал я, что должен проститься с свободой. Рок и Ананкэ пощадили меня, когда среди пленников отбирали людей для торжественной жертвы Мелькарту, и я не пошел вместе с другими в гигантскую печь.
Теперь, великие боги, бы оторвали меня от лицезрения той, ради кого я позабывал все ужасы рабства, всю тяжесть труда под лучами беспощадного солнца. Ради чего, показав мне ее, вы швырнули меня среди виноградников и пальмовых рощ чуждой страны?!

С вершины Атабириса, где теперь наверно достроен уже гордый храм Зевса, созерцал я когда-то родимый мой остров с его тремя городами, где поселилось племя Геракла.
О Родос, о прекрасная нимфа, дочь золотокудрой Киприды, никогда я не забуду тебя и твоих меловых белых утесов, плодоносных рощ, искусно возделанных нив и покрытых сочными травами пастбищ!
Выплыв из теплых волн зеленого моря, ты пленила некогда взор Гелиоса. Семерых сыновей подарила ты пышнокудрому богу. Они населили Камир, Линд и Иалис.
О Феб Аполлон, быть может, я прихожусь потомком Тебе! Помоги мне, Светозарный, вернуться на родину!

Ночью была милосердна ко мне Богиня богинь. Она соединила меня в сладостном сне с тою, кого я люблю. Подобно стеблю девственной лилии, склонялся ко мне нежный стан карфагенянки. Смыкались за спиною моей горячие руки. Прижимаясь ко мне, трепетало стройное тело, а пропитанные аравийскими ароматами косы образовали вокруг моей головы вторую душную черную ночь… О, сколько блаженства я испытал! Неужели мне суждено насладиться им только во сне?

Сегодня вновь переживал я юные годы мои.
Вспоминал, как в детстве манили меня званье лохага, золотой браслет на левой руке и блестящие с узорами поножи.
Тройной ряд гребней на шлеме стратега и его ярко-пурпуровый плащ грезились мне как высшее счастье.
Ржанье коней выступающей с топотом агемы и звуки трубы казались мне самою сладкою музыкой, тогда как теперь мне приятней всего вспоминать серебристый смех моей госпожи.
Так смеются только хариты на недоступном Олимпе.

В юности я хотел быть поэтом. В нашем розами заросшем саду мечтал я о славе Кратина и Анакреонта; старался подражать изнеженным движениям Агафона; грезил о том, как молодые девушки при дворе тиранов будут умащать благовониями мои переплетенные повязками кудри, а голые мальчики с голубиными крыльями за спиной будут подносить мне золотую чашу с хиосским вином.
Но никто не читал написанных мною поэм, никто не видал хотя бы одной доконченной песни.
И ветви темно-зеленого дельфийского лавра для победного венка моего до сих пор остаются не срезанными.
Боевая жизнь и тяжелая работа веслом отучили меня от бесплодных надежд. В погоне за галерами пиратов, в битвах у скал Херсонеса и под стенами Византии я позабыл о когда-то заманчивой славе слагателя строф, и все песни мои схоронил я в душе у меня.
Теперь воскресли они и рвутся наружу.

Парою мулов, белых, как молоко, запряжена была повозка твоя, с серебряным ободом и блестящими спицами в колесах.
От жгучего солнца ты пряталась в ней, но дрогнула при въезде в ворота темно-синяя занавеска у оконца.
Дрогнула, и показалась в нем прекрасная тонкая рука с цветными камнями на многочисленных перстнях.
А за ней мелькнуло на миг, на один только миг, в полусумраке хамаксы продолговатое лицо с большими темными глазами.
Слава Тебе, Афродита-Ашера! Знаю, близко теперь исполненье того, что Ты мне обещала.

Свершилось!
Этою ночью я был властелином моей госпожи. Перешагнув через труп беззвучно задушенной мною черной рабыни, я приблизился к ложу, где, разметавшись во сне, тихо дышала, сомкнув черные стрелы ресниц, дочь Бармокара. Сперва, испугавшись, она хотела кричать и пыталась бороться. Но сопротивление не было сильным, и я победил. Я насладился победой, насладился ею до пресыщения. Близится утро. В предрассветном тумане, сквозь щели оконного полога, ярко блестит звезда всемогущей богини.
О Афродита-Ашера, недаром Тебя называют жестокой. Я понял теперь значенье Твоей полной презренья улыбки.
Та, кого я считал земным Твоим воплощеньем, простая смертная женщина. Утомленная, она шептала мне те же слова, которые я так часто слыхал от косских гетер и легкомысленных купеческих жен малоазийского берега, и так же, как те, она меня обнимала, такие же дарила мне поцелуи, и даже менее искусно, чем кипрские гиеродулы. У меня нет больше желаний!
О Афродита, недаром Тебя называют жестокой!

В доме зашевелились. На дворе перекликаются звонко рабыни. Скрипит колесо у колодца. Громко кричит обременяемый вьюком осел.
Я гляжу на ту, которая мне была так желанна.
Карфагенянка сидит на ложе своем и ловкими пальцами соединяет проворно золотые тонкие кольца порванной цепи у ног.
Который раз она делает это?!
Вот, закончив работу, она потянулась ленивым движеньем пресыщенной пантеры и, улыбаясь, глядит на меня. О чем она думает? О казни, которой я буду подвергнут? По всей вероятности, я буду распят; может быть, с меня снимут медленно кожу…
А время идет. В конюшне ржут жеребцы, приветствуя утро. Под наблюдением моим подготовлялись они для гипподрома. Два самых лучших из них наверно в этом году одержат победу на играх…
Если я сам не умчусь на них далеко отсюда… Довольно рабства! Воспрянувший дух мой рвется на волю.

Шибче, шибче летите, мои скакуны! На одном я сижу, другого твердой рукой, по обычаю скифов, держу в поводу, и он скачет возле меня. Погони пока не слышно за мною. Раб, видавший, как я резал поджилки другим лошадям, никому из живых не скажет об этом.
Другой раб недвижно лежит в воротах, где он пытался загородить мне дорогу, заслышав вопли моей госпожи.
Как звонко звала дочь Бармокара на помощь себе и кричала мне вслед:
– Хватайте убийцу и вора! Держите его! Бегите за ним! Этот злодей пытался меня обокрасть и убить!
На левом запястье моем сверкает золотой карфагенский браслет.

Издали заслышал я топот его скакуна и, оглянувшись назад, остановил усталый бег своего жеребца.
Степной хищной птице подобен был этот наездник пустыни; с клювом орла сходен был тонкий загнутый нос на темном лице; как мощные крылья, развевался на скаку за спиной его светло-серый развернутый плащ. На плоских стременах подымался он, с пронзительным криком вертя над головою клинком.
Я тронул коня навстречу ему, и наши мечи, скрежеща, узнали друг друга. Мой оказался длиннее, и скоро, подняв на дыбы скакуна своего, повернул наездник степей и с воем умчался обратно… Крупный песок брызнул в лицо мне из-под конских копыт… На моем утомленном гнедом я не мог пуститься в погоню за ним, и скоро враг мой скрылся из вида.
В белой пыли лежит его загнутый меч с костяной рукояткой, запачканный кровью из разрубленной мною кисти руки.

Я спокоен теперь. Не поймали меня нумидийские всадники. Одна лошадь пала, другую я продал встречным купцам. Мимо соленых озер одиноко бреду я по направлению к белому прибрежному городу.
Густая пыль покрыла ноги мои, одежду и бороду. Что-то мне готовит грядущее?
Но что бы ни случилось со мною – никогда, никогда не придется мне пережить столько надежд, томлений и муки, как возле высоких черных дверей, с которых мне скалили зубы алчные пасти бронзовых львов.

Привет тебе, город, вставший передо мною из-за песчаных холмов, покрытых терновником и высокими кактусами.
Плоские кровли низких домов, тонкие высокие башни и белые купола окруженных кипарисами храмов. Мимо садов и виноградников тянется дорога моя, мимо изгородей из запыленных алоэ.
Звеня бубенцами, идут мне навстречу, колыхаясь на длинных ногах, вслед за мальчишкой погонщиком, гордо держащие голову верблюды. Все чаще и чаще попадаются люди.
Иду мимо костров кочевников, что ютятся в ямах недалеко от стены. Не обращаю внимания на призывные жесты загорелой тонкой руки и блеск черных глаз девушки из этого бродячего племени.
Я не бродяга, а путник, ходивший на поклонение святыне. Застигнутый болезнью, я отстал от своих и теперь на корабле хочу вернуться на родину.
Так скажу я страже, если она остановит меня в городских воротах.

Женщина с розами у висков в черных невыкрашенных волосах, в платье, которое раньше было более яркого цвета, я желаю отдохнуть у тебя после пути. Я не разбойник. Вот тебе серебряная монета с изображением пальмы. Ты получишь столько же за каждую ночь, проведенную мною под кровом твоим.
Я не буду жить у тебя, ибо знаю, что запрещено это законами, написанными в пользу богатых содержателей гостиниц, но хотел бы, чтобы твоя дверь не запиралась для меня после заката.
А также и днем, если захочется мне скрыться от зноя.

Одна за другою встают высокой стеной и с шумом бегут по отлогому берегу желто-зеленые мутно-прозрачные волны.
Из многолюдной гавани, после бесплодных поисков судна, идущего на Родос, в Эфес или Смирну, я люблю уходить в это место, куда не долетает докучный шум города.
Здесь не кричат погонщики мулов и продавцы, не ссорятся громко лодочники и водоносы и не глядят прямо в душу пытливо-жадные взоры курчавых финикийских досмотрщиков.

Из тростника, покрытого глиной, сделаны бедные стены жилища твоего, женщина с голубыми звездами на желтовато-темных щеках.
Убога утварь твоя. Несколько брусьев заменяют скамейки и стол, а потертый тирский ковер на тюфяке из соломы служит тебе местом для дневного сладкого сна и ночной трудной работы.
Тощая кошка с порванным ухом тщетно нюхает что-то в закопченном горшке возле стены.

Вечер. Я сижу на прибрежном камне, слушаю шепот прилива, гляжу на закат алого солнца в оранжевом небе, откуда оно готово спуститься в глубину золотых сверкающих волн… Темнеют красноватые скалы. Розовеют вдали увенчанные белыми башнями вершины горных хребтов.
Неподалеку слышно блеянье идущих на ночь с поля коз и овец.
Пора и мне подыматься, дабы до наступления тьмы вернуться в город, пока не запрут тяжелых ворот в высокой светло-серой стене, – но я не могу не посмотреть еще раз на белый парус плывущей в море галеры.
Когда же, наконец, и я буду качаться на шумных волнах, слушать свист ветра в корабельных снастях и отрадно вдыхать полною грудью свежий ветер, насыщенный запахом моря?!

Ты знала лучшие дни, женщина неизвестного племени, столь же плохо, как я, произносящая финикийские слова.
Как шафран, желто тело твое с надрезами по краям живота и синими узорами на преждевременно поблекших грудях. Следы обручей на ногах у тебя и серебряная проволока в ушах. Из запачканной тонкой, похожей на косскую, ткани сделана одежда твоя, висящая возле меня на стене.
Сама ты, обнаженная, на корточках, сидишь в полутьме среди земляного плотно убитого пола и молча глядишь на красные угли, где порою трещат каштаны, горох и бобы.
Издалека доносится к нам от улиц уснувшего порта разгульная песня пьяных матросов.

Сегодня я вспоминал о прежней жизни моей.
Много стран дали увидеть мне боги, много объехать морей. Я пил мутно-желтую воду великой реки в египетском Мемфисе. Знаю вкус молока кобылиц в скифских степях за Херсонесом; видел вход в царство теней на флегрейских полях по ту сторону моря; пил вино и пробовал хлеб у многих народов; испытывал ласки опытных в науке любви женщин Коринфа, Тира и Библоса.
Я все изведал, все видел, и нет у меня больше желанья скитаться по влажному лону морей и пыльным дорогам земли.

Сладостны звуки трубы перед боем, мерный топот фаланги, дружно идущей навстречу врагу, вид крутящихся в облаке пыли алых гребней и блеск сверкающих копий. Велика радость победы при звонких кликах расстроенных боем, кровью и пылью покрытых синтагм…
Приятно слышать имя свое трижды провозглашенным на играх и ощущать слегка увядшую зелень оливы на орошенном горячим потом челе.
Отрадно вдыхать аромат тяжелых распущенных кос чужеземной красавицы, чувствовать руки ее у себя на спине и внимать бессвязному лепету ярко накрашенных уст.
Но всего отрадней смотреть на золотисто-алый закат у берега моря и знать, что вечно шумящие могут тебя укрыть навсегда от брюзжания алчных вождей, завистливых взоров друзей, сырых сводов тюрьмы и тяжкой измены исполненных негою глаз.

Довольно уныния! Кончилось время невзгод! Сегодня утром пришла галера с острова Кипра. Корабельщику я показал золотой карфагенский браслет, и он обещал меня доставить на Крит, а также и на Родос, если туда будут товары…
Неужели я вновь услышу знакомую речь, увижу родные близкие лица?
Вновь войду в заросший розами сад, где я провел свое полное грезами детство; вдохну благоуханье цветов и, усевшись в тени на скамье, буду следить за жужжащими пчелами и слушать, как в школе по ту сторону нашей ограды звонкие голоса ребятишек распевают благозвучные строфы старца Гомера…
Тоскующий ангел
Сергею Кречетову
 вызвал его в морозную зимнюю ночь. Лунный свет проникал в большие оконные стекла, рисуя их переплеты на полу той комнаты под крышей многоэтажного дома, где я обитал. Близко к моему мелом обведенному кругу он не подходил. В углу, около шкафа, неясный и полупрозрачный, остановился он, долгое время не отвечая мне на вопросы.
вызвал его в морозную зимнюю ночь. Лунный свет проникал в большие оконные стекла, рисуя их переплеты на полу той комнаты под крышей многоэтажного дома, где я обитал. Близко к моему мелом обведенному кругу он не подходил. В углу, около шкафа, неясный и полупрозрачный, остановился он, долгое время не отвечая мне на вопросы.
Но когда я заклял его бывшей на перстне моем пятиконечной звездой, ангел с печатью тоски на челе стал говорить:
– Ты желаешь знать, отчего я печален, отчего я одиноко брожу неподалеку от ваших жилищ, не отвечая долго на зов заклинаний, ты желаешь знать имя мое, – так знай же, что имени я не имею.
Нас было много, прекрасных и сильных воинов неба над изумрудной землею, и тогда мы имели еще имена, вычеркнутые теперь из книги райских обитателей. Имена эти исчезли, как звук умолкнувшей арфы, как песня покинутой девушки, как забытый шепот любви.
С высоты Гермона смотрели мы на долины Ливана. Пятна коричнево-светлых и белых шатров разбросаны были среди высокой темно-зеленой травы. На ней паслись стада длинноногих стройных верблюдиц и курчавых черных овец. Звонко блеяли бараны, резко кричали козлы. Далеко, далеко прямою тонкою струйкой тянулся к небу синий дымок костра пастухов. С горной вершины видели мы, как на площадке в середине становища сидели вкруг седые как лунь длиннобородые патриархи, ястребиными взорами наблюдая за пляскою дев. О, как прекрасны были они в час кроткого вечера, когда на темнеющем небе одна за другой зажигались тихие звезды. Под хлопанье жилистых, крепких старческих рук плясали стройные девы, бедрами, станом и грудью своей выражая пробужденные пляской желания. Развевались их покрывала, бряцали на груди и на шее ожерелья из раковин и зубов диких зверей. Скрестив руки, позади восседающих старцев стояли, нахмурясь, чернокудрявые загорелые мужи. Они не доверяли отцам, которые каждое утро властным голосом их посылали далеко от взоров стыдливой невесты или ласк любимой жены в унылую степь, иногда на несколько дней. И плохо скрытая злоба мелькала порой на обветренных лицах у пастухов. Их жены кормили грудью таких же бронзово-смуглых голых детей. Иные варили что-то в покрытых копотью глиняных круглых горшках. Поджавши хвосты, остромордые худые собаки сновали среди драных палаток становища…
И не помню, кто из нас первый, обращаясь к другим, произнес: «Прекрасно тело дочерей человеческих, а пляска их веселит дух наш. Пусть не достаются они ни старикам, ни чернобородым мужам. Ибо девушки эти достойны лучшего ложа. Жалок обычай, скудна утварь, бедна жизнь детей человеческих. Низойдем к ним, возьмем себе дочерей их и научим от нас рожденных сынов иной жизни, не столь похожей на существованье скота».
И многие тогда воскликнули хором: «Надоело нам бесцельно летать по эфирным синим равнинам, охранять пустоту глубокого неба, хотим жить подобно тому, как живет на земле человек!»
И тот, кого звали прежде «Зрящим хвалу», наш Вождь, сказал нам: «Все ли хотите оставить небо и жить на земле, все ли хотите взять себе в жены дочерей человеческих?» И мы, как один, ответили: «Все!»
«Поклянитесь же в этом, дабы мне одному не быть за вас всех в ответе пред Тем, чье запрещенье мы преступаем».
Ибо не велено было детям небес соединяться с дочерьми человека. И мы поклялись на вершине Гермона каждому взять себе в жены ту, которую он изберет.
Помню, как утром мы у колодцев напали на девушек нескольких соединенных становищ. Какой оглушительный крик поднялся над долиной Гермона! С каким громким визгом они убегали от нас по направлению к шатрам… Но разве может кролик спастись от орла? Все, кто тогда был у колодцев, попали в объятья сошедших на землю стражей небес. Все, кроме одной… Та, за которой я гнался, бежала, спасаясь, резвая и легкая, как антилопа. Быстро мелькали ее стройные ноги… Как ветер пустынь, я несся за ней, вдыхал аромат ее кос и шептал в ее порозовевшее ухо: «Не бойся, о дева, остановись! В объятья свои прими того, кто для тебя покинул теченье планет! Клянусь, что я овладею тобой!..»
Но не понимала слов тех смятенная дева и бежала, замирая от страха.
Когда же я обвил ее стан, жаром и холодом охватив все ее существо, дочь земли вскрикнула тихо и сразу повисла на моих затрепетавших руках. Закатились глаза, и стало недвижно-строгим лицо. Напрасно я, положив на траву прекрасное тело, старался вернуть в него дыхание жизни. Оболочка души была покинута ею.
Оставив на попечение подбежавших на крик старых сгорбленных женщин мертвую девушку, пошел я туда, где братья мои праздновали день своего расставания с небом. Все они уже избрали себе земных прелести полных подруг. Лишь я один остался без женщины.
Ибо умершая у меня на руках унесла с собой мою клятву.
И никого после нее не хотел я выбирать в подруги себе.
Многих женщин и дев предлагали мне братья, но от той пахло овечьим пометом, эта имела слишком широкие скулы и приплюснутый нос, третья была слишком потлива, четвертая – мала ростом, и ни одна не нравилась мне… А у братьев от жен их родились здоровые, крепкие дети, еще более привязавшие небесных стражей к земле.
Бывшие ангелы быстро рассеялись по всем странам вселенной, всюду знакомя людей с науками, ремеслами и заклинаниями. Жены и дочери человеческие добивались чести делить с ними ложе. Во всех племенах оставляли воины неба потомство себе, от всех народов принимая божественное поклонение.
Дети их стали могучими героями, превышая всех землерожденных ростом, силой и доблестью. Покинувшим небо улыбалась вечная, блаженства полная жизнь на земле.
Но Тот, кого оставили мы, нас не оставил. Трех избранных любимцев своих во главе легионов послал Он, дабы наказать нас. Ибо кто был создан для жизни духовной, не должен был себя осквернять плотским соединением с женщинами.
И была битва на земле и на небе между бывшими Стражами и теми, кто прежде считался им братьями.
До сих пор сохранили смертные воспоминания об этой войне, называя ее распрей титанов.
Те из нас, кто не был ввержен в оковы и вечное пламя, скрылись в пустынных местах, охваченные постоянным страхом и трепетом.
Сынам же стражей, исполинам и героям земли, небесный посланник Рафаэль вложил в сердца взаимную ненависть, и они, один за другим, погибли в междоусобной войне. Все они умерли рано, и все были несчастливы. Образы их в камне и бронзе рассеяны в ваших музеях. Воспоминанье о них сохранилось в ваших сказках и мифах…
Я один не подвергся каре, хотя и отринул всякую мольбу о пощаде.
Ибо помнил я клятву соединиться с той, за которою гнался когда-то.
Текло время. Люди рождались, жили и умирали для того, чтобы вновь родиться на свет, позабыв о прежних своих существованиях.
Я же облетал вселенную, пытливо вглядываясь в каждое лицо, стараясь отгадать ту, кого когда-то сжимал в объятиях… И до сих пор не могу ее отыскать!
Смертный, скажи мне, не видел ли ты возлюбленной моей?
Когда я встречу ее, тотчас в очах ее прочту былые испуг и смятение. Вздрогнет она, но от меня не уйдет!..
Прости же, ибо я должен исчезнуть. Чувствую, что неподалеку должен кто-то родиться… Быть может, это она…
И мелькнув серебристой одеждой и неясными очертаниями лица, как бы расплылся в лунном сиянии тот, кто не имел больше имени.
Я вышел из круга.








