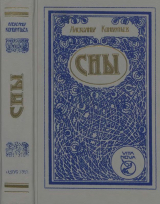
Текст книги "Сны (Романы, повесть, рассказы)"
Автор книги: Александр Кондратьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)

Александр Кондратьев
СНЫ
Романы, повесть, рассказы




Мир прозы А. А. Кондратьева
Мифология и Демонология
…и некуда проснуться.
А. М. Ремизов. Огонь вещей
В 1906 году в редакции журнала «Золотое Руно» было принято решение: уловить наконец вечно ускользающую личину врага рода человеческого. Объявили конкурс на лучшее живописное и литературное изображение сатаны. Из Петербурга в Москву прибыли избранные в жюри А. Блок, Вяч. Иванов и М. Добужинский, все в черных сюртуках. В течение трех дней жюри пыталось отобрать наиболее «правдоподобные» портреты князя мира сего, но дьявол снова слукавил. Брюсов жаловался Зинаиде Гиппиус, что из 150 художественных и литературных работ почти ни одна не смогла хотя бы приблизительно изобразить сущность и обличие владыки тьмы. К тому же оказалось, что и сами члены жюри не имеют достаточно ясного представления о нем[1]1
Брюсов В. Я. Письмо к 3. Гиппиус от 27 декабря ст. ст. 1906 г. // Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 686–689.
[Закрыть]. Но поскольку присудить назначенные премии было необходимо, ими отметили три литературных опыта. Премии получили: Михаил Кузмин за произведение «Из писем девицы Клары Вальмон к Розалии Тютельмайер», Алексей Ремизов за рассказ «Чертик» и Александр Кондратьев за сонет «Пусть Михаилом горд в веках Иегова…». Из всех живописных работ не была премирована ни одна.
А. Кондратьев был в то время уже достаточно известным в литературных кругах петербургским поэтом, прозаиком, переводчиком и историком литературы. Кроме сонета им был представлен на конкурс еще и рассказ «В пещере».
Фабульная основа рассказа – евангельский эпизод Воскресения Христова. Но мало было бы сказать, что эпизод этот переинтерпретирован Кондратьевым – новозаветный смысл вывернут здесь наизнанку. Энергетическая сила женского демонического существа в страстном порыве возвращает жизнь бездыханному телу Христа. Кто это существо, перед которым отступают сами Люцифер и Вельзевул? Оно остается таинственным, имя его так и не названо, но в его зыбком, изменчивом образе проступает то одна, то другая примета, позволяющая догадываться – только догадываться, – о ком идет речь.
Вот на мгновение становятся видны «ряды женских грудей» – явная отсылка к многогрудой Артемиде Эфесской. Но Артемида ли перед нами? Эта целомудренная греческая богиня имела свое архаическое прошлое, в котором она выступала как владычица зверей и растительного царства. Ее культ включал оргиастические элементы – как культ всякого растительного божества, обеспечивающего природное плодородие. Уступая ей первенство, Вельзевул задает вопрос, остающийся без ответа: «Разве ты не Иштар?» Бесенок называет ее Астартой. Да, именно Астарта, богиня западносемитской мифологии (она же – аккадская Иштар), собственным жизненным теплом воскресила возлюбленного. Но Иштар, изображаемая со стрелами за спиной, и Астарта, нагая всадница, стреляющая из лука, – как похожи они на охотницу и лучницу, вечно девственную Артемиду.

Неопубликованная иллюстрация Л. Бакста (1906) к роману А. А. Кондратьева «Сатиресса».
А между тем и Иштар, и Астарта олицетворяют планету Венеру. Как соединяются эти два противоположных начала? Через хтоническую необузданность Артемиды, сближающую ее с Великой матерью богов, малоазийской Кибелой, владычицей плодородия. Пчела на платье у Артемиды Эфесской, покорные Кибеле и Артемиде львы – этими же атрибутами наделена и кондратьевская воскресительница Христа. Так кто же она?
Вспомним цель конкурса. Кондратьев рассказывает о том, что не Люцифер и не Вельзевул – верховный владыка демонических сил. Им оказывается прамифологическое женское божество, в котором черты различных богинь соединились В слиянной неслиянности, способной совместить неприступное целомудрие с оргиастической страстью.
Едва ли не все творчество Кондратьева будет посвящено этому демоническому женскому существу.
Из сказанного уже должно быть понятно, насколько естественной для Кондратьева была контаминация различных мифологических образов. В рассказе, представленном на конкурс 1906 года, закону контаминации подвергся и образ Христа. Умирающий и воскрешенный оргиастическим порывом бог – это скорее греческий Загрей – Дионис или египетский Осирис, чем тот, о котором повествует Евангелие. Мифологические прообразы Христа сливаются с ним, и такое отождествление отвергает смысл новозаветного благовестия.
В записной книжке А. Блока осталась запись 1906 года: «Кондратьев удивительный человек. Его рассказ о чертике и Христе – глубоко символичен. Он – совершенно целен, здоров, силен инстинктивной волей; всегда в пределах гармонии, не навязывается на тайну, но таинственен и глубок. Он – страна, после него душа очищается – хорошо и ясно»[2]2
Блок А. А. Записные книжки. М., 1965. С. 84.
[Закрыть].
Блок не случайно обратил внимание на Кондратьева. Оба участвовали в одном поэтическом сборнике, подготовленном к печати студентами университета и Академии художеств и вышедшем в 1903 году, оба были членами университетского кружка «Изящная словесность», где Кондратьев читал доклад о символике «Стихов о Прекрасной Даме». В их художественном мироволении было в те годы много общего. Блоку тоже суждено было пройти через демонологический искус. Впрочем – «пройти через», а не предаться ему пожизненно, как это случилось с Кондратьевым. Было между ними и еще одно серьезнейшее различие: в сущности, Кондратьев никогда не был символистом. С крупнейшими литературными течениями того времени он соприкоснулся лишь по касательной.
В 1903 году он познакомился с Мережковским и Гиппиус, руководившими тогда журналом «Новый путь», однако предложение о тесном сотрудничестве отклонил, что привело к разрыву. Позже Кондратьев часто бывал в поэтическом салоне Ф. Сологуба, но в конце концов стал секретарем кружка Случевского, где настороженно относились к новейшим поэтическим опытам.
Эстетическая позиция Кондратьева отчасти определилась тем, что в годы учебы в 8-й петербургской гимназии он был учеником И. Ф. Анненского. От своего учителя он унаследовал не только острый интерес к античным темам, но и предакмеистское мироощущение.
Устремленности к бесконечному, свойственной символистам, акмеисты противопоставили самоценность и самодостаточность трехмерного мира. В такую трехмерную реальность и помещены мифологические образы Кондратьева.
…Вот Афродита появляется в храме перед онемевшим певцом, вот Гермес хитростью пытается соблазнить нимфу Лару, вот Харон в своей мрачной ладье перевозит умерших в подземное царство… Этот мир живет своей внутренней жизнью, он ничего не символизирует, не отсылает ни к каким внеположным ему смыслам – все его содержание заключено в нем самом, он подобен картине, которая не простирается дальше собственных рамок. Вячеслав Иванов учил, что символ разворачивается в миф. Кондратьев осуществлял нечто прямо противоположное: он сворачивал символ в миф, замыкая принадлежащее бесконечности в трехмерном пространстве своего художественного космоса.
Видимо, именно это и называл он «реконструкцией мифа». По Кондратьеву, реконструировать миф значит дать ему новую жизнь, поместив те или иные мифологические образы в некую зону «реальности», пусть условной, пусть художественной, но «реальности», где бы эти образы находились в органическом взаимодействии с подобными же образами или предметами, живущими по тем же законам. Под пером Кондратьева мифологический образ не светится символическим смыслом – он пребывает в непрерывном движении внутри потока той жизни, которая известна автору из мировой мифологии.
Полем такого «оживления» мифа становится душа самого творящего.
Моя душа тиха, как призрачный шеол,
Где дремлют образы исчезнувшего мира;
Она – в песках пустынь сокрытая Пальмира.
Мои стихи – богам отшедшим ореол.
Я не стремлюсь в лазурь ворваться, как орел.
Пусть небожители ко мне летят с эфира,
О юности земли моя тоскует лира,
И не один из них на песнь мою сошел.
Ко мне идут они, как в свой заветный храм,
Стопой неслышною, задумчивы и строги,
Когда-то сильные и радостные боги,
С улыбкой грустною склониться к алтарям…
И, полон гордости, блаженства и тревоги,
Гирлянды строф моих бросаю к их ногам[3]3
Кондратьев Ал. Стихи: Книга Вторая. (Черная Венера). СПб, 1909. С. 2.
[Закрыть].
«Шеол» на иврите означает геенну огненную, ад, для Кондратьева – тот же Аид. И это по-особому комментирует его утверждение: «Мифология всех почти народов и стран обязана своим существованием не только жрецам, но и художникам и поэтам»[4]4
Из предисловия Кондратьева к книге стихов «Славянские боги». Цитируется по тексту сборника, републикованного в книге В. Н. Топорова «Неомифологизм в русской литературе начала XX века. Роман А. А. Кондратьева „На берегах Ярыни“», TRENTO, 1990. С. 249.
[Закрыть]. По Кондратьеву, художники и поэты, подобно жрецам, вступают во взаимодействие с миром потустороннего, привлекая его силы и энергии в сферу живой реальности. В этом контексте естественно звучит «Посвящение» его первого крупного прозаического произведения «Сатиресса»: «Вам, когда-то земные, теперь эфирные божества, посвящаю повесть мою…» Именно с ними – древними духами, умершими, дошедшими до нас только в мифологических образах, но оживающими в сознании художника – общается автор. С ними – а не с читателем. И каждое прямое обращение к ним (а таковых в прозе и стихах Кондратьева множество) – это и посвящение, и заклятие-вызывание, и жертвоприношение словом.

Обложка первого издания романа А. А. Кондратьева «Сатиресса» работы Я. Бельзена (1907).
Кондратьев очерчивает вокруг себя круг античного космоса. Круг-оберег от настоящего, от современности, от реальносущей бесовщины эпохи между двух революций. Внутри этого круга зрению автора открываются не только известные мифологические сюжеты – он получает способность видеть и порождать новые мифологические вариации. Читателю не остается ничего иного, как принять условия игры в реальность придуманного. Так рождается сатиресса Аглавра.
Древние греки не знали женской ипостаси козлоногих сатиров. Для того чтобы вызвать к жизни Аглавру, Кондратьев придумывает новый миф – о дочери Пана и вечно девственной Артемиды. Как случилось такое соитие? В «Белом козле» Кондратьев рассказывает, что лесной бог хитростью овладел сестрой Аполлона. Не после ли этой встречи появилась на свет сатиресса? В романе ответа нет. Но вымышленный мифологический образ – Аглавра – живет по законам старого мира античности. Amor Fati – любовь к року, этот верховный закон античного космоса, полностью замещает в романе (вытесняет из него) законы психологизма, естественные для прозы, прошедшей через опыт XIX столетия.
Рецензируя «Сатирессу» Кондратьева, И. Анненский писал: «Так приятно побыть часок среди гамадриад и панисков, которые, может быть, еще не читали даже „Смерти Ивана Ильича“»[5]5
Анненский И. Ф. Александр Кондратьев. Сатиресса. Мифологический роман. Кн-во «Гриф». Москва, 1907 // «Перевал», 1907, № 4. С 63.
[Закрыть].
Высказывание Анненского подчеркивает не только отсутствие психологизма, но и указывает на одну очень важную черту прозы Кондратьева: его трехмерный художественный мир не знает четвертого измерения – живого времени, обязующего прошлое с настоящим. Замкнувшись в круге античного космоса, Кондратьев существует в нем так, словно еще не было на свете ни Толстого, ни Достоевского, словно не было постантичной истории человечества. В произведениях Кондратьева течет лишь субъективное время автора, пребывающего в далеком прошлом, погруженного в ту эпоху, когда почитались на земле вызванные им к жизни духи. Он помнит лишь о том, о чем помнят они: о еще более глубокой архаике. И этому субъективному времени приданы все черты объективности. Иллюзия, поданная как достоверность, – таков античный космос Кондратьева.
Напряженность подобной работы со временем особенно ощутима, когда автор приближается к границе миров: античного и христианского. В рассказе «Пирифой» повествуется о пришествии Христа. Но «сияющий бог», освобождающий вечных пленников Аида, не назван по имени. В глазах Пирифоя, царя лапифов, необратимая трансформация языческого космоса происходит с помощью языческого же бога – не Христа. Глазами Пирифоя глядит и Кондратьев. Читателю, разумеется, тоже не предложено никакого иного взгляда. Ключевой момент религиозной истории человечества описан лишь затем, чтобы аннигилировать историческое течение времени, подменив его временем эстетическим, организующим мир самого Кондратьева, мир, населенный античными демонами.
Демонами или богами? Кондратьев любит сюжеты, в которых древнее божество обнаруживает свою демоническую природу. Временные сдвиги становятся ощутимыми в его художественном мире лишь в тех случаях, если ими отмечены эпохи перехода верховного божества в разряд низших демонических существ.

В 1918 году Кондратьев навсегда покидает захваченный большевиками Петроград и уезжает к семье в Крым. Так заканчивается первый период его творчества, который условно можно назвать «петербургским».
По свидетельству Г. П. Струве, примерно В 1919 году Кондратьев перевозит семью из Крыма на Волынь в небольшое имение под Ровно, где остается жить до 1939 года[6]6
Струве Г. П. Александр Кондратьев, по неизданным письмам. Instituto Universitario Orientale. Annali. Sezione Slava Vol: XII, Napoli, 1969. C. 4.
[Закрыть]. Двадцать лет длится «Волынский» период его творчества. За это время написаны роман «На берегах Ярыни» (Берлин, 1930), стихотворения, объединенные в сборник «Славянские боги» (Ровно, 1936), и множество статей на славянские темы.
Как видим, тематика произведений меняется. На место античной мифологии заступают низовая демонология и языческая мифология восточнославянских народов.

Второе издание романа А. А. Кондратьева «Сатиресса» (1914).
Творческому процессу сопутствует углубленное изучение славянского фольклора. Научными источниками становятся для Кондратьева труды А. Н. Афанасьева («Поэтические Воззрения славян на природу»), С. В. Максимова («Нечистая, неведомая и крестная сила»), Н. П. Сахарова («Сказания русского народа»), Д. К. Зеленина («Очерки русской мифологии»), Потебни, Фаминцына, Веселовского, Миллера, Аничкова и многих других. Ведьмы, лешие, домовые и водяные, населяющие теперь художественный мир Кондратьева, изображены с большой этнографической точностью. Но принципы поэтики «античного» периода его творчества продолжают действовать в этом мире, существенно трансформируя фольклорную традицию.
Создавая роман «На берегах Ярыни», Кондратьев возвращается к своему первому опубликованному рассказу «Домовой» (газета «Россия», 1901) и развивает повествование до романной формы. Пространная фабула включает в себя множество перипетий, связанных с похождениями нечистой силы, деревенских ведьм и людей. Быт Крестьянского двора и речного дна описан равно подробно. То необузданные, то мелкие страсти переплетают человеческие судьбы с судьбами подводного, лесного или болотного царства и движут сюжет, охватывающий почти полтора десятилетия. Отдельные сюжетные линии, несомненно, восходят к фольклорным сказкам, легендам, быличкам или обрядам, но большой формы, основанной на сплетении такого множества линий, славянский фольклор не знает. Кондратьев строит ее, ориентируясь скорее на античные образцы (типа Овидиевых «Метаморфоз»). В этом его отличие от А. М. Ремизова, который в сборниках своих сказок «Посолонь» и «Лимонарь» собирает из фольклорных осколков единое зеркало, отражавшее некогда мир наших предков, но склеить его не представляется возможным (не случайно он использует короткие повествовательные формы: сказки, легенды).
Отработанный в Петербурге прием контаминации мифологических образов становится, быть может, еще более значимым для Кондратьева на Волыни. Теперь он сводит, соединяет, прививает одну к другой и прозревает одну в другой античную и славянскую мифологии. Болотные нимфы Эллады превращаются в болотных бесовок Ярыни – но Кондратьеву мало таких неакцентированных соответствий. Дважды – в начале и в конце романа – он обращается к цепочке открытых уподоблений. В III главе Кондратьев описывает движение годового круга: «С Успеньева дня уже „засыпается“ Красное Солнышко, царственная небесная богиня, которую русские зовут „Красное Лето“, а древние греки называли прекрасною Лэто, мать Дажбога и Лунной богини, покровительницы невест и охоты Летницы – Дзеваны – Дианы». В финале романа идол поверженного Перуна смотрит на утопленницу – Аксютку и мучительно вспоминает: «Когда-то давно, еще в те времена, когда я был повелителем неба, у одной из моих жен была с такими же ногами девица-подросток. Как ее звали?.. Не помню. Мать ее звалась Лето… А, вспомнил! – Летница или Дзевана. Девочка хорошо стреляла из лука… Что с нею сталось? Какая судьба постигла ее? Она была, под разными именами, богинею у разных племен. Ей посвящались, так же, как мне, дубравы и рощи…»
Снова Артемида – под ее римским именем Диана. Артемида, чьи святилища часто строились вблизи источников и болот, Артемида, близкая лунной богине Гекате с ее колдовскими чарами. Она незримо живет на Ярыни, в этом водном и заболоченном мире, где лунный свет обращает утопленниц в русалок. Она – и Летница, и девственная польская богиня Дзевана. Ее же напоминает Аксютка, дочка болотной бесовки Марыськи. Здесь – уподобление не прямое, не грубое. Одни черты совпадают, другие – нет. Но мифологический смысл образов вырастает именно из этих косвенных уподоблений. Артемида рождена богиней Лето от Зевса. Отец же Аксютки – человек. Но ее мать, Марыська, вступает в супружество с идолом Перуна (славянский аналог громовержца Зевса). В конце романа он поневоле становится приемным отцом Аксютки.
Следуя такими путями, художественная фантазия Кондратьева реконструирует миф уже в почти научном смысле слова. Такова реконструкция мотива брачных отношений Перуна и Мокоши, обнаруженного учеными значительно позднее[7]7
Топоров В. Н. Неомифологизм в русской литературе начала XX бека: Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни». TRENTO, 1990. С. 64.
[Закрыть]. В романе Кондратьева этот мотив возникает дважды: сначала в истории о том, как Перун пленил красавицу Мокошь, а затем, в сниженном варианте, в фабульной линии «идол Перуна – Марыська». Бесовка, получившая верховную власть над водой, – травестийный двойник Мокоши.
Движение времени на берегах Ярыни во многом организовано так же, как в петербургских сюжетах на античные темы. Мир низшей славянской демонологии тоже помнит о своем архаическом прошлом, о когда-то присущем ему величии и последующем вырождении. Перун, некогда громыхавший и владычествовавший на небе, колодой лежит теперь на дне реки. Водяной не получает ни прежних почестей, ни прежних жертвоприношений. Лешему и Лешачихе уготована смерть: нечисть не только вырождается, она вымирает.
Главной мотивировкой событий, как и в «Сатирессе», остается, в сущности, Amor Fati. Герои обречены своей природе и слепо следуют ей. Попытки сопротивления тщетны. Психологизма в романе нет: здесь тоже никто из героев не читал еще «Смерти Ивана Ильича».
Зато автор, несомненно, читал гоголевского «Вия». Об этом свидетельствуют и описания русалочьих тел, и эпизод избиения ведьмы, в последнюю минуту обернувшейся молодой женщиной, и, главное, – роль магического круга, у Гоголя важнейшая в содержании, у Кондратьева – в форме произведения[8]8
В романе присутствуют и другие литературные реминисценции. Имя одной из русалок – Горпина – совпадает с именем главной героини рассказа Ореста Сомова «Русалка» (1829). Вероятно, взгляд Кондратьева, прозревающий одну культуру в другой, остановился на имени Горпина не случайно: «Горлинка, уменьшительное имени Горпина (Агриппина). Это имя в малороссийском наречии гораздо ближе к римскому своему корню, нежели Аграфена или Груша», – комментирует Сомов (Сомов О. Были и небылицы. М., 1984. С. 143). Еще одна значимая реминисценция – в финале романа, при описании утонувшей Аксютки: «Это озаренное лунным светом лицо как бы оживало теперь, чтобы обладательница его могла стать равнодушной и холодной русалкой в водах Ярыни…»
Здесь явная отсылка к «Русалке» Пушкина:
Как бросилась без памяти я в водуОтчаянной и презренной девчонкойИ в глубине Днепра-реки очнуласьРусалкою холодной и могучей…(Пушкин А. С. Полн. собр. соч., М.-П., 1937. T. 7. С. 211.)
[Закрыть].

Обложка к первому сборнику рассказов А. А. Кондратьева «Белый Козел» работы С. Панова (1908).
Действие романа начинается летом – летом же и заканчивается. Природа, люди и нечисть совершают путь вслед за Солнцем – Посолонь, поставлены автором в зависимость от солнцеворота. В первой сцене происходит то же, что и в последней: превращение утопленницы в русалку. Эту закольцованную композицию можно описать словами Андрея Белого, сказанными о «Ревизоре»: «фабула – круг»[9]9
Белый А. Мастерство Гоголя. Л., 1934. С. 20.
[Закрыть].
Такой же замкнутый космос представлял собой и античный мир Кондратьева. Но круг, замыкающий берега Ярыни, имеет уже совсем иную природу.
В Петербурге Кондратьев грезил о древнем мире, воссоздавал его в собственной душе и наделял возникающий фантом всеми признаками объективности. Главная художественная фикция петербургского периода его творчества состояла в том, что «там и тогда» выдавалось за «здесь и сейчас». На Волыни эти измерения реально сливаются: Кондратьев действительно оказался в том мире, который он воплотил в романе.
Его имение, расположенное между Вислой и Днепром, находилось на территории прародины славянских народов – в подлинном центре очерчиваемого им круга. Две другие реки – Горынь и Ярунь, протекавшие поблизости от имения, дали имя его Ярыни. Славянская мифология, изучаемая Кондратьевым по научным источникам, еще жила здесь в местных поверьях. Более того: здесь жили и существа, населяющие его роман. В одном из писем А. М. Ремизову Кондратьев рассказывает, что встретился на улице с деревенской ведьмой, но был не так-то прост – зачурался.
Существенно, однако, что весь этот автобиографический контекст остался совершенно за рамками романа, написанного в той же «объективистской» манере, что и вещи петербургского периода. «Фигурой фикции» теперь становится не физическое присутствие, а физическое отсутствие автора внутри очерченного им круга, отсутствие связей романного времени с живым, настоящим временем. Таким образом, внешнее подобие поэтики «На берегах Ярыни» поэтике «Сатирессы» или античных рассказов – это скорее не близнечество, а двойничество двух миров, которые как бы взаимно вывернуты наизнанку по отношению друг к другу.

В 1939 году замкнутый мир Ярыни был разрушен. Волынь стала частью СССР. Большевики разорили усадьбу, уничтожив при этом архив Кондратьева и почти весь тираж сборника «Славянские боги». В декабре того же года семья Кондратьева была вынуждена покинуть свой дом и перебраться в Ровно, а оттуда в Варшаву. Начались долгие годы скитаний и бедствий.
Реалии жизни, которые Александр Алексеевич считал устойчивыми, внезапно исчезли. Образ мира потерял четкость контуров и предстал перед глазами Кондратьева зыбким облаком. В настоящем больше не на что было опереться. И Кондратьев обращается к воспоминанию, в надежде вернуть старые образы. Он пишет повесть «Сны», которую начинает словами: «Когда я был молод…» Здесь едва ли не впервые возникают реальные приметы времени, отголоски современности и прямой автобиографизм[10]10
Современность отчасти присутствовала лишь во втором сборнике рассказов «Улыбка Ашеры» (1911), где каждый рассказ был посвящен реальному лицу (Сологубу, Анненскому, Гумилеву, Брюсову и др.), а «Тоскующий ангел» и «Семь бесовок» изображали модное в то время увлечение оккультизмом. Но для раннего Кондратьева появление реальных штрихов времени было скорее исключением из правил.
[Закрыть]. Повествование ведется от первого лица и напоминает «документ сознания», но документ несколько необычный.
Необычность его в первую очередь в настойчивом, явном, открытом смешении ирреальности и реальности. «Я был бы рад познакомиться с учением спиритуалистов», – пишет Кондратьев в одном из писем того периода[11]11
Струве Г. П. Александр Кондратьев, по неизданным письмам. Institute Universitario Orientale. Annali. Sezione Slava Vol: XII, Napoli, 1969. C. 42.
[Закрыть]. В основе этой потребности лежит трагическая невозможность обрести сущее. Кондратьев теряет сына, узнать о его судьбе оказывается возможным только с помощью потусторонних сил: «На спиритическом сеансе в Триесте дух сообщил мне, что сын мой жив»[12]12
Там же. С. 39.
[Закрыть]. Происходит подмена бывшего в действительности призрачностью желаемого. Кондратьев словно ставит под определенным углом зеркало и пытается по движениям отражения (двойника) угадать настоящее. Личность его неизбежно раздваивается. Но это не то раздвоение, которое влечет за собой растроение, расчетверение и так далее, вплоть до полного растворения в хаосе, необходимого художнику, чтобы полнокровно творить, – оно не ведет к созиданию космоса из хаоса. Это чисто оккультный опыт: попытка повлиять на реальность с помощью ирреальности. И этим Кондратьев отличается от Анненского, который распыляет свою личность, угадывая собственное «я» то в царе Иксионе, то в Фамире-кифарэде, но узнавая себя в мифах и дробя личностное начало на атомы, как творец стережет свою цельность. Анненскому необходимо в осколках мифа увидеть целым свое отражение; душа его – «заветный фиал»[13]13
Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 33.
[Закрыть], Кондратьев говорит, что его душа – «призрачный шеол».

Обложка ко второму сборнику стихотворений А. А. Кондратьева «Черная Венера» работы Я. Бельзена (1909).
Кондратьеву важен его движущийся в зазеркалье двойник. Поэтому зеркало в его творчестве столь многофункционально. В «Снах» зеркало может показать человеку его Alter Ego. Сатанист Арбузов видит там борова, Гош – оленя. Это же зеркало – способ прозреть будущее, и тогда оно сравнивается со сном: «Кто-то уподобил так называемые вещие сны отражениям в нашем мозгу надвигающихся событий. Это все равно, как если бы вы сидели у окна и смотрели в прикрепленное снаружи к раме зеркало, в котором отражаются по мере своего приближения двигающиеся по улице люди и предметы».
В романе «На берегах Ярыни» зеркало – дверь в инфернальное. Вот описание причастия сатане: «Аниска <…> обошла трон властелина и снова нагнулась, чтобы поцеловать последнего сквозь вырез сидения. <…> Сунувшая было под него голову Аниска внезапно отпрянула в ужасе, но справилась с собою и неимоверным напряжением воли заставила себя поцеловать… свое собственное бледное лицо, безучастным безжизненным взором встретившее поцелуй в холодные, неподвижные губы…» А в предсмертный момент Аниска получает поцелуй тех же губ, и миг спустя ее отлетающий призрак видит распростертое на кровати бездыханное тело. Неудивительно поэтому, что рассказчик «Снов» опасается за здоровье Гоша, решившегося пуститься «в опыты раздвоения личности». Традиционно мир Зазеркалья – мир наоборот, где звучит музыка, записанная нотами наоборот, где двигаются спиной вперед и так далее. Это мир сатаны, возжелавшего создать свой мир вопреки Богу.
В повести «Сны» показан мир «по ту» и «по эту» сторону зеркала, и оттого все в нем двоится. «Посюсторонними» оказываются: экзамен на юридическом факультете у Д. Д. Гримма (факт из жизни Кондратьева); имена А. К. Толстого и П. Луиса (о первом из них Кондратьев написал историко-литературное исследование, стихи второго перевел и опубликовал); канцелярия, в которой Кондратьев действительно служил в Петербурге. Но все эти реалии проходят сквозь призму мистически настроенного сознания Кондратьева. Он акцентирует внимание читателя на отражении бывшего – во сне: Кондратьев вспоминает собственно не сам экзамен, а сон о нем; не тот факт, что он изучал творчество Толстого, а только фрагмент одного его стихотворения, связанный со сновидением; и канцелярия приснилась ему прежде, чем он поступил туда на службу.

Обложка ко Второму изданию рассказов А. А. Кондратьева «Улыбка Ашеры» работы М. К. Лесова (1916).
Из-за постоянного двоения действительности становится невозможным отличить: где сон, а где явь? Которая из двух ипостасей раздвоившейся авторской личности – призрак? Та, которая сообщается с демонической природой мира, где время течет иначе, чем в современности, – или та, что имеет реальную биографию и живет в историческом времени?
В Петербурге Кондратьев стремился целиком уйти в древний мир. На Волыни его реальная, биографическая погруженность в контекст того мира, который он описывает, оставалась фактом его внутренней духовной биографии: в тексте она не была предъявлена. В «Снах» измерения реального и художественного вступают во взаимодействие. Взаимовывернутые по отношению друг к другу, взаимоотражаемые миры по воле автора закручиваются в единую спираль, защитные покровы сминаются, и художественный (сонный) вымысел пронизывает и размывает очертания подлинных событий биографии Кондратьева. В сюжете повести это приводит к тому, что сон и явь наконец пересекаются, соединяются – в то мгновение, когда автор обнаруживает в семидесяти верстах от своего волынского имения, в беседке заброшенного графского поместья следы от надписи Гоша, который переносился туда с помощью оккультных сил. Рядом со стертой надписью Гоша стояла другая – оставленная той, встречи с которой всеми средствами искал Гош, той, образ которой прошел через все творчество Кондратьева: божественной вечно девственной Артемидой.
Но надпись, свидетельствовавшая, что столь вожделенная встреча – пересечение сна и яви, мифа и реальности – все-таки состоялась, гласила: «Nolo». То есть: «Не хочу».
И революция, разгром усадьбы, все черты реальной биографии автора, воплотившиеся было в художественной ткани повести, окончательно растворяются, превращаясь в неотличимые от нави сновидения. И «Сны» эти пишутся до самой смерти. Анненский предчувствовал такое засыпание, ведущее к смешению миров, умиранию, еще когда писал о «Сатирессе»: «есть в стиле автора что-то баюкающее». От этого «баюкающего» в начале до «Снов» в конце жизни – Весь путь А. А. Кондратьева, итог творчества которого можно подвести словами Ремизова: «В снах не только сегодняшнее – обрывки дневных впечатлений, недосказанное и недодуманное; в снах и вчерашнее – засевшие неизгладимо события жизни и самое важное: кровь, уводящая в пражизнь; но в снах и завтрашнее – что в непрерывном безначальном потоке жизни отмечается как будущее и что открыто через чутье зверям, а человеку предчувствием; в снах дается и познание, и сознание, и провидение; жизнь, изображаемая со снами, развертывается в века и до веку»[14]14
Ремизов А. Огонь Вещей. Сны и предсонья. М., 1989, С. 144.
[Закрыть].
Oлeг Седов











