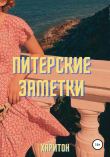Текст книги "Алкамен - театральный мальчик"
Автор книги: Александр Говоров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Поспешно сбросили маски. Уф! Как свеж и прохладен воздух снаружи! Но мы торопимся, надеваем другие костюмы, меняем маски к следующему выходу.
Теперь я – богиня Афина. Во главе других божеств Паллада идет ободрить Ясона, помочь ему. Я стараюсь представить себе статую богини, которая стоит на Акрополе с огромным медным щитом, с совой на плече, со змеей. Я пытаюсь изобразить величавую поступь богини, стараюсь, чтобы мой голос приобрел царственную звучность. И, наверное, мне это удается, потому что народ в театре встречает оживлением каждое мое движение, каждую фразу, а когда я заканчиваю, театр рукоплещет и кажется, что это в огромной чаше, высеченной в горе, переливается море ладоней.
Но вот конец первой трагедии. Ясон уплывает, с ним аргонавты, а мы, изображающие женщин, оплакиваем их отъезд, словно внезапную смерть.
Прощай, прощай! Возьми мое сердце
К себе на корабль.
Теперь на этом корабле – все, что я имею,
И все, на что надеюсь.
Теперь корабль – моя судьба.
И море – моя судьба!
Если бы вы слышали, как нам хлопали, как кричали! Старый театр Диониса еще никогда не видел такой бури на своих скамьях.
Если бы Мика могла быть тут и слышать это ликование! Но женщин у нас в театр не пускают.
УСПЕХ, УСПЕХ!
– Чтобы доказать, что ты плаваешь, надо броситься в реку! – вскричал Мнесилох, обхватив меня единственной рукой.
Был перерыв. Мнесилох обтирал мне лицо влажной губкой, давал пить, расчесывал мои волосы.
– Не у каждого яйца два желтка! – гордился он перед Полидором. – И говорят, что хорошую яблоню узнают по цветкам. Молодец, Алкамен, ветер попутный, поднимай паруса! Молодец, сынок!
И это "сынок", сказанное им впервые, было мне дороже всех похвал сегодняшнего дня.
– Ты, Полидор, – продолжал Мнесилох, – вовремя подсказал ему, помог. Вот что называется товарищеская помощь!
Полидор засмеялся и процитировал:
Зависть питает гончар к гончару, к плотнику – плотник,
К нищему – нищий. Певцу же певец соревнует усердно.
А Мнесилох отгонял желающих посмотреть на меня:
– Уходите, уходите, человек уморился. Чего вы столпились? Ну ты, носатый, что уставился? Разве ты верблюд, который увидел в луже, что у него горб?
Люди дивились:
– Как? Это мальчик? А мы думали, что это новый певец из Коринфа!
– Ну и мальчик! Какая игра, какой голос! Льется, как трель Филомелы, звенит, как бронза щита!
Мне даже стало совестно от этого хора похвал. А вот и Фемистокл:
– Здравствуй, юный корифей! Кто ты? Я тебя не знаю. Выразительные брови вождя нахмурились и снова поднялись в ясной улыбке:
– А, помню, помню! Непримиримый враг Аристида, Алкамен – сын рабыни? Я ведь не ошибся?
Первый подарок преподнес Мнесилох, сказав мне "сынок", второй Фемистокл, вспомнив мое имя. Как бы рассказать ему о заговоре? Сколько народа, какая толчея!
Мимо прошел Килик, поджав губы. Он словно бы и не замечал, что я играю, да как играю!
Я стал готовиться к следующей трагедии. Мнесилох помогал мне завязывать тугие ремешки на высоких котурнах. Когда я распрямил затекшую спину, передо мной стоял Эсхил; поглаживал бороду, смотрел на меня безмятежным взором.
– Это действительно ты пел корифея?
– Я...
– Ты давно играешь женские роли?
– Сегодня первый раз.
Эсхил недоверчиво отстранился. Мнесилох принялся расписывать мои достоинства, рассказывать, как я стремлюсь повторять, воспроизводить все увиденное и услы-шаное в театре.
– Талант – не заслуга человека, – строго заметил Эсхил. – Талант милость богов. Хвали богов, юноша!
Эсхил взял мою голову между ладоней и наклонился, чтобы поцеловать меня в лоб.
– В тебе уживается сразу много людей, – сказал он. – Сегодня я увидел в тебе и коварную Клитемнестру, и нежную Электру, и неистовую Эриннию. Поэт ведь должен создавать, имея перед глазами образы живых людей. А ты населил мою голову целым миром образов. Спасибо тебе, мальчик! – И он меня поцеловал. А потом спросил: – Как тебя зовут, чей ты сын?
– Алкамен я, сын рабыни...
Эсхил прищурил глаза, посмотрел на меня отчужденно:
– М-да... – И обратился к подошедшему Ксантиппу: – Что, говорят, отправляются корабли в Лакедемон? Любезный Ксантипп, устрой мне двести корзин маковых зерен, тысячу тюков льна! Могу предложить по драхме за перевоз корзины, по полторы – за перевоз тюка...
О Эсхил, Эсхил! Твоя отчужденность стала мне сегодня каплей дегтя, которая испортила горшок меда!
КАТАСТРОФА
Вторая трагедия повествовала об аргонавтах в Колхиде. Настоящие хористы наконец пришли в себя и заняли место в хоре, а корифея Феогнида Ксантипп прогнал, обещав вывесить его для просушки на рее "Беллерофонта". Корифеем ведено было оставаться мне.
Итак, пока Ясон и аргонавты рыскали по сцене, изображавшей поляну в девственном лесу, я с другой половиной хора ожидал сигнала к выходу. На плечи мы взяли кувшины: ведь мы изображали царевну с подругами и прислужницами.
Вдруг ветер отдул пологи входа, захлопали двери, послышались стремительные шаги. Прошел Фемистокл, надевая позолоченный шлем стратега. Он на ходу говорил еле поспешавшему зал ним Килику:
– Скажи верховному жрецу... Я знаю, что это грех, но я принесу искупительные жертвы.
Следом за ним эфебы под руки вели спотыкающегося человека в пыльной хламиде, с окровавленными шпорами на сапогах. Вот он, вестник царя Леонида, о котором вчера предупреждал Лисия.
Фемистокл властным жестом велел хористам замолчать. Такой тишины не запомнят ласточки в небе над театром Диониса. За целый век никто не осмеливался прервать священнодействие трагедии.
Эфебы вывели вестника на орхестру. Верхние ряды встали, чтобы лучше разглядеть и услышать. Но вестник разлепил изнеможенные веки и хрипло выкрикнул всего одну фразу:
– Братья, мидяне идут! Мидяне близко!
И упал к ногам эфебов.
Словно небо громом раскололось над театром – такой поднялся шум и гвалт. Некоторые хотели бежать, другие их удерживали, третьи старались перелезть через каменную ограду, четвертые в ужасе заламывали руки. Старейшины и пританы тщетно пытались навести порядок.
Однако этот хаос продолжался недолго. Фемистокл, который стоял молча, скрестив руки, неожиданно оперся о плечо стоявшего рядом эфеба и вскочил на каменный парапет:
– Афиняне вы или стадо коз? – Его громовый голос перекрыл всю панику.
"Ему бы в театре исполнять роль Громовержца!" – подумал я.
– Начальники фил и фратрий, объявите о местах сбора отрядов! командовал Фемистокл. – Моряки – в гавань, к своим экипажам. Бегство из города воспрещается. Страже у ворот дан приказ убивать всякого, кто попытается выйти без пропуска. Начальники, командиры, после захода солнца военный совет в моем доме!
Шум прекратился. Все повернулись к вождю, слушали его приказания. Сразу запели сигнальные рожки, послышалась команда. Гоплиты, всадники, лучники, эфебы, бывшие в театре, стали выходить на площадь строиться. Остальные сгрудились кучками вокруг своих предводителей. Из разных концов доносились крики глашатаев.
– Фила Энеиды, собираемся у круглого здания суда!.. Копьеносцы филы Антиохиды, сбор на закате солнца у оружейных мастерских! Э-эй! Кто из филы Антиохиды, слышите?
Мы наскоро разоблачились. Все выветрилось из головы – и неожиданный триумф, и похвалы великих людей, и упоение собственным успехом. Тяжкий камень тревоги залег на сердце. Ухо чутко слышало каждый шепот, а в теле ощущался зуд – бежать, пока не поздно, сообщить о заговоре. А потом туда, где юноши примеряют шлемы и латы, где всадники седлают коней, где медь звенит о железо.
Но, как нарочно, появился Килик и стал требовать, чтобы мы собрали все корзины и всю утварь и уложили их в корзины. Время ли заботиться о тряпках!
И только когда тьма распростерла крылья над городом, мне удалось улизнуть. Я опрометью кинулся по улицам, на которые как будто ночь не приходила: везде горели факелы, сновали люди, обвешанные оружием; озабоченные рабы катили тачки с поклажей, гнали навьюченных мулов.
Возле дома стратегов, где жил Фамистокл, стояла толпа – зеваки из тех, что хлебом не корми, только дай первым узнать что-нибудь и потом разнести по городу. Много было и крестьян, приехавших на праздники из отдаленных деревень. Они распрягли лошадей и ослов, тут же лежали на мостовой, жевали хлеб, чистили рыбу, ругались и плакали. Сумрачные лица земледельцев выражали терпеливое ожидание: что скажут стратеги? Ехать ли поскорее по домам или, может быть, уже и ехать не стоит, может быть, там уже неприятель и надо позаботиться, куда бежать дальше?
Я протиснулся сквозь толпу, вошел в круг, ярко освещенный колеблющимся светом множества факелов.
– Ты куда, парень? – Часовой отодвинул меня древком копья. – Проходи, проходи, здесь не базар...
Как быть? Кому же сообщить о заговоре? Изменники, наверное, времени не теряют, стряпают свои делишки, а я...
И вдруг среди рассуждающих о событиях я заметил Мнесилоха. О, я глупец, глупец! Уж Мнесилох-то найдет способ предупредить о заговоре.
ПРАВО УБЕЖИЩА
Выслушав мой рассказ, Мнесилох взял бороду и закусил ее зубами признак волнения.
– Уже вторая ночь идет! Что же ты вчера молчал? Что я мог ему ответить?
– Ну ладно, – сказал Мнесилох. – Стоит ли теперь разбирать, почему у осла уши длинные? Давай искать Фемистокла.
– А что его искать? Вот он, Фемистокл, – в доме стратега, да пойди его возьми!
– Братец, – обратился Мнесилох к часовому, – сослужи службу старику инвалиду. Доложи Фемистоклу или кому-нибудь из стратегов, что есть срочное дело... Часовой оставался нем и бесстрастен.
– У, – проворчал Мнесилох, – если у тебя есть дело ко псу, называй его "братец".
Но и укоры не действовали на часового.
– Терей! – вдруг закричал Мнесилох. – Тереюшка, голубчик! – и зашептал мне обрадованно: – Вон в дверях, видишь? Начальник караула, он из деревни Лакиады. Я у него прожил месяц в прошлом году. Тереюшка, Тере-ей!
К нам подошел щеголеватый десятник с подстриженной бородкой.
– А, старина, здравствуй! Ну что тебе?
– Терей, да вознаградит тебя Афродита, наклони-ка ухо!
Терей благосклонно кивал в ответ на шепот Мнесилоха, потом удалился. Через некоторое время он вновь показался и издали стал делать нам знаки.
– Пойдем, – заторопился Мнесилох. – Он приглашает нас зайти с черного хода.
У черного хода также стояли воины и горел факел, но зевак и просителей не было. На крыльце виднелась грузная фигура Фемистокла. Когда мы поднялись к нему, воины отступили на почтительное расстояние.
– Поздно спохватился, мальчик, – покачал головой Фемистокл, услышав мой рассказ.
– Птички могли упорхнуть, – вторил ему Мнесилох.
– Дом Лисий – в Ламитрах, – размышлял стратег. – Сейчас мы пошлем туда отряд, только едва ли он сидит дожидается...
– А Эсхил, а Килик? – спросил Мнесилох.
– Старик, старик! – укоризненно произнес Фемистокл. – Хорошо ли ты выслушал рассказ мальчика? Повернулся ли у тебя язык обвинять Эсхила?
– Да, да... – согласился Мнесилох. – Эсхил исполняет завет старого поэта:
Хитрить, как лиса, человеку стыдно,
Сумой переметной быть не следует...
– А Килик? – продолжал раздумывать Фемистокл. – Килик неприкосновенен как жрец. Возьмешь его – Ареопаг все равно велит освободить, а шуму лишнего будет много... Вот что скажите, друзья: а не замечали ли вы чего-нибудь еще подозрительного в жизни Килика?
Неожиданно я вспомнил: Килик дверь навесил! Новую дверь, свежеоструганную, на бронзовых петлях!
Нужно сказать, что афиняне никогда не делают дверей при входах в жилые дома – вешают ковер или драпировку, и только.
– Ага, – кашлянул Фемистокл. – Все ясно. Быстроглазый ты, Алкамен, сын рабыни! Идите в театр и сидите там потихоньку, а мы сделаем остальное.
И он еще раз в знак одобрения потрепал кудряшки моих волос.
– Все тебя хвалят, – говорил Мнесилох, когда мы, спотыкаясь, брели в потемках к театру. – И меня бы хвалили, если бы я голову не прогулял. Ведь я в твои годы учился даже, зубрил "Илиаду", в хоре мальчиков пел гимны "Паллада – в бою нам защита" и "Клич громогласный". Родители ведь мои были люди знатные. Они нанимали мне учителя, твердили ему: "Учи его, пори его!" Я же вместо этого склонялся к другому учению; бывало, кричу поварам: "Вон птичка, весна пришла!" Повара:
"Где, где?" А я пирог с вареньем цап – и был таков! – Мнесилох тяжело вздохнул и сильнее застучал палкой по булыжнику. – Вот, сынок... А потом настала другая школа: был я торговцем, был и разбойником морским, был рабом в Персии, потом бежал и воином был... А жизнь прошла. Голова стала белее крыльев лебединых. Теперь что надо старику? Крышу над головой, ячменный отвар, меховую накидку, мягонький плащ. Да чтоб кто-нибудь поясницу мне растирал, охал бы надо мной...
Фантазия моя заработала:
– Ничего, Мнесилох. Я непременно свершу что-нибудь великое, необыкновенное. Стану знатным, возьму тебя к себе, будет у нас дом – полная чаша, богатства будут, рабы...
Мнесилох засмеялся:
– Сам еще из рабов не вышел, а уж о рабах мечтаешь?
Я прикусил язычок. О, старый демократ Мнесилох! Долго сидели мы в моей каморке. Ночь была непроглядна и беззвучна. Ни лязга металла, ни шороха шагов, ни шепота. Мы оба ужасно беспокоились, разговаривать ни о чем не могли. Наконец Мнесилох не выдержал:
– Пойдем, малыш, посмотрим, что там... Только держись подальше: заметит тебя Килик – снимет кожу.
Возле дома Килика был тот же мрак, далеко брехали собаки, чудились странные тени.
– Ш-ш-ш! – Мнесилох схватил меня за руку. Послышалось чирканье кремня о железку, полетели искры, и вдруг ярко, с треском загорелся факел, а об него зажглись и другие, как будто взошло пурпурное, мерцающее солнце. Дом был окружен рядами воинов.
– Эй, Килик! – кричал десятник Терей, дубася в новую дверь. – Открой! Послание тебе от стратегов!
Дверь медленно открылась. Там, в двери, Килик поднимал руки, как бы призывая к молчанию и молитве. Медведь и другой раб вынесли из дома священную статую Диониса, увенчанную молитвенными венками. Воины в благоговении преклонили копья. Терей начал пятиться назад.
Увидев Килика, я спрятался за Мнесилоха, а Мнесилох, в свою очередь, попытался укрыться за широкой спиной первого стратега, который, оказывается, стоял в тени.
– Что делает, подлец, что делает! – бормотал, сжав зубы, Фемистокл. Ах, хитрец!..
И он шагнул из тьмы, чтобы отдать команду, как вдруг из двери дома Килика выпрыгнул длинный Лисия и, подскакивая, понесся во тьму.
– Улю-лю-лю! – закричали воины и бросились в погоню.
Мы поплелись за ними. Мнесилох страдал от одышки, а я – не мог же я его оставить и мчаться впереди!
Вот наконец и колоннада нашего храма. Воины стоят растерянные, опустив копья, факелы трещат и коптят.
Килик расталкивал воинов, пробираясь к храму. "Виноват!" – кланялся он одному; другому улыбался, прося прощения, что потревожил.
Но, лишь только жрец поднялся на ступеньки храма, он словно бы увеличился в росте. Лицо его стало высокомерным – еще бы, здесь было его царство!
– Всякий, кто укрылся в храме, – провозгласил он, затворяя решетчатые двери, – не может быть убит или схвачен! О великий Дионис, податель вечной жизни, прости этих темных людей, нарушивших твой покой! Они не ведают, что творят.
Ветер раздул пламя факелов, и на мгновение показалось, что за бронзовой решеткой дверей бог Дионис улыбается хитрой улыбкой.
А по небосводу уже разворачивалось шествие утренней зари. Слышалось пенье сигнальных флейт – войска готовились в поход.
"Прощай, пыльный двор! – думал я. – Хорошо было на твоих мусорных кучах играть в боевые корабли. Прощайте, ирисы и гиацинты, которые вырастил кроткий Псой. Прощайте, храм, священная роща, где на укромных дорожках дремлют мраморные гермы. Прощай, театр!"
Я прощался так потому, что хотел сегодня же убежать за войсками.
– Пойдем к тебе ночевать в каморку, – предложил Мнесилох. – Я вообще-то живу в доме главного судьи, но сегодня нет у меня охоты прихлебательствовать.
Вот как! Это мне помеха.
– Да мне и спать уже не хочется... Да и ночь прошла... Но Мнесилох настоял на своем, и мы пошли; прикорнули на соломенных тюфяках, накрывшись изодранными мантиями театральных цариц.
– Один мальчик... – шептал Мнесилох, – решился бежать. Он думает, сейчас война, никто розыском беглых не занимается, а после войны, думает, вернусь с почетным венком, а победителей не судят...
Он вечно все знает, он вечно все провидит, этот добрый старик! Ну что ему ответить? Сделаю вид, что сплю.
– А мальчик не выполнил свой долг, – вкрадчиво продолжал Мнесилох. Рассказал бы вовремя – не упустили бы перекупщика зерна! А теперь изменник сидит в храме, и там его не возьмешь. Но вечно бродить у алтаря надоест. Кто же подстережет его, когда он захочет прогуляться или совсем выйти из храма?!
КОГДА РАБОМ БЫТЬ – УДОВОЛЬСТВИЕ
Войско ушло, флот уплыл, опустели Афины. По улицам блуждали бродячие собаки с репьями в хвостах, а стражники развлекались, гоняя их красными палками. Сквозь пыль и скуку доносилось пение разносчиков:
– Купи-ите уксусу, уксусу! А вот угли, угли! Масло! В храме работа удвоилась и утроилась. Кто молился за воинов, кто гадал о будущем, кто умилостивлял судьбу. Еле успевали принимать дарения и приносить жертвы.
Лисия по-прежнему сидел в храме. Вокруг была расставлена стража стрелки-пельтасты, набиравшиеся из самых бедняков, а потому и самые злые к аристократам. Фемистокл рассчитывал взять беглеца измором, и, когда Медведь, по приказу Килика, понес в храм корзину, пельтасты его остановили.
Но Килик ударил стрелка по руке:
– Это жертвенное мясо! – и показал на белеющего в сумраке Диониса. Богу!
Пельтасты не посмели перечить, а Лисия питался за счет Диониса.
Когда же Фемистокл, Ксантипп и другие ушли с флотом, надзор вообще ослаб и можно было видеть, как Лисия сидит на полу возле порога и играет в кости с пельтастами, которые восседают снаружи. Ни он не переступает заветной черты, ни они не нарушают неприкосновенности храма, а в кости играют!
Зато я начеку, зато уж я стерегу каждый его шаг!
Только рынок остался шумен, как прежде. Те же торговки, те же купцы, те же ряды невольников. Туда ходят потолкаться, послушать новости из всех концов мира.
– В Египте родился новый бог в образе быка!
– В Скифии такие морозы, что младенцы на зиму замерзают, а весной оттаивают, как лягушки!
Простодушные граждане удивлялись – вот чудеса!
– Ну, а какие новости из армии, из флота?
– Царь Леонид крепко держит Фермопилы. Его не обойдут, а в лоб его не возьмешь! Флот собирается у мыса Артемйсий, там будут отражать мидян. Прорыва не допустят. Спите спокойно, афинские граждане!
Кто это там проталкивается сквозь давку у овощных рядов? Да это же Мика! Она одета совсем как взрослая девушка: на ней длинный пеплос, подпоясанный под самую грудь, волосы убраны под золотую сетку. А в руке корзинка с покупками.
О великий город! Как же ты допустил, что дочь одного из лучших твоих военачальников не имеет возможности послать рабыню, сама ходит по рынку, толкается среди грязи и брани, приценяется, торгуется?
– Мика, здравствуй...
Сердцу тесно в груди, кажется, что оно прорвет плен грудной клетки и вылетит.
– А, это ты, Алкамен! Фу, как я устала, подержи, пожалуйста, корзинку. Какая жарища, какая пыль!
– Хочешь, я помогу тебе донести твои покупки? Ведь тебе идти на другой конец города.
Килик велел мне купить горшочки для благовоний, но помнил ли я сейчас об этом?
И мы пошли. Мика чувствовала себя взрослой, шла, как знатная девушка, мелкими шажками, откинувшись слегка назад, подняв горделивый подбородок.
– Пускай все думают, что ты мой раб и несешь корзину госпожи... Ведь ты все равно раб, ведь правда? Почему бы тебе не быть моим рабом?
Сердце мое закололо от обиды... Что ж поделать? С этим рабством я бы, пожалуй, примирился.
– Впрочем, – продолжала болтать Мика, – я всегда к рабам снисходительна. Тот, кто разбогател только вчера, тот к рабам мелочен и жесток. Мы же от века владеем рабами. Мы происходим от богов. Мама из рода Алкмеонидов. И сама я знатная. Назвали меня не какой-нибудь Симефой или Кесирой, мое полное имя Аристомаха – "сражающаяся за лучшее". Но ты можешь звать просто Мика, как зовет меня брат.
Путь в Колон не легок, особенно по жаре, когда весь город замирает, когда закрываются лавки, мастерские и все прерывают работу. Но, разговаривая с такой девочкой, разве считаешь стадии, разве ждешь конца пути?
– Мама плоха, – жаловалась Мика, – не двигается, не говорит, только глаза такие живые! Нянька с братом, а я одна и одна, не с кем слова молвить. Отец, уезжая, сказал мне: "Ты, – говорит, – взрослая, ты поймешь. Я мог бы взять ссуду у государства, мне бы дали. Но мы горды... Правда, говорит, – дочь, мы горды? Давай потерпим как-нибудь до победы, и будет у нас все – деньги и рабы. А не будет победы, и ничто нам уж не будет нужно". Ты же, Алкамен, смотри не болтай. Я не должна быть откровенна, но ты ведь раб, а рабы всегда знают тайны своих господ.
Кончиком сандалии Мика поддала валявшийся каштан: "Гони, Алкамен!" но тут же спохватилась, что здесь город, что она дочь военачальника и должна держаться достойно.
– Что же? – продолжала она беспечно. – Разве я одна такая? Эльпиника, невеста живописца Полигнота, тоже на рынок ходит сама. А Мильтиад, ее отец, был ведь властелином Фракийского Херсонеса и оказал отчизне услугу при Марафоне. Сын его, Кимон... – Она замолчала и искоса взглянула на меня. (Что значит этот взгляд украдкой?) – Сын его, Кимон, до сих пор не может расплатиться с долгами отца.
Вот и Колон: знакомые рощи, глухие заборы, запущенные сады.
– Отцу сейчас в десять раз тяжелее, – сказала Мика. – И всем воинам. Ты ведь не любишь моего отца? Я знаю, ты не забыл ему это... А ты ведь сам виноват. Как мог ты, раб, подойти к внучке Алкмеонидов? А он, отец, он хороший, только вспыльчивый ужасно. Ты знаешь, как мама ему говорила? "Ты, – говорит, – Ксантипп, если чем-нибудь увлекаешься, все прочее теряешь из головы. Когда-нибудь и нас выронишь из памяти ради корабля, ради театра или ради войны". Но я люблю его больше всех, даже больше мамы, даже сейчас, когда мама так страшно больна!
"Раз ты его любишь, Мика, значит, и мне придется его полюбить".
– Ну вот мы и пришли. Ты поди посиди там, в парке. Я выйду к тебе.
САДЫ АКАДЕМИИ
Некто Академ купил эту местность, чтобы основать парк, устроить гимнасии, палестры. Кое-что уже делалось – стояли штабеля камней, кучи извести и песка. Война все прервала: лес, безлюдье, царство птиц – вот что называлось Академией в те времена.
Долго я из зарослей терновника следил за дверью дома Ксантиппа. Никто не показывался. Глаза мои слипались, наплывали видения: долговязый Лисия играет с воинами на пороге храма.
– Стой! Ни с места! – позади раздался звонкий голос.
Я вскочил. Это Мика прицеливалась в меня из игрушечного лука и смеялась. Она переоделась: рубашка, завязанная лишь на одном плече, голубая лента, обхватившая волосы.
– Пойдем, тут есть маленькая палестра. Я сказала маме, что иду пострелять из лука, и мама сделала глазами вот так – значит, разрешила.
Палестра – расчищенная площадка в прохладном лесу. Там лежат каменные ядра для толкания, разбитые бронзовые диски.
– А ну-ка, попробуй подними ядро! – скомандовала Мика.
Я не смог поднять.
– Теперь брось этот диск.
Диск вырвался из моей руки и больно ударил меня по колену.
– Э, да ты ничего не умеешь!
Как ей объяснить, что я всю жизнь в храме да в театре, что афиняне не любят, когда их рабы физически развиваются, и даже, говорят, некоторых опасных силачей из числа рабов казнили.
– Вот пойдем на берег моря, – оправдывался я, – там увидишь зато, как я плаваю!
– Ну, здесь до моря далеко, лучше посмотри, как я стреляю из лука.
Мика стреляла и сама бегала за стрелами, вертелась, как козленок; лес оглашался счастливым смехом.
– Духота какая! – заметила она, вытирая лоб. – Смотри, между деревьями марь, как туман. Наверное, гроза будет.
Мне было все равно – гроза, не гроза!
– Давай побежим наперегонки. Если уж ты меня не догонишь, ты, Алкамен, просто девчонка.
И мы пустились! Ноги у меня длинные. Я несся, продираясь сквозь кусты, перескакивая через корневища, а Мика мелькала впереди, лавируя между стволов. И я ее догнал – коснулся плеча рукой.
– Ну, погоди, – взмолилась Мика. – Ну, это случайно, давай еще раз.
И вновь я ее догнал. И опять бежали в сырые ложбины, в глухие чащобы, туда, где, наверное, гнездится сам Пан – владыка леса. И опять я настиг ее и схватил за плечи и чувствовал, как в нас бьются сразу два сердца: мое рывками, а ее часто-часто.
– Ты прямо Аполлон, а я Дафна, – переводя дыхание, прошептала она. Знаешь миф? Хочешь, я в твоих руках превращусь в дерево? Покроюсь корой, обрасту листьями...
Сели на траву отдохнуть; папоротники склонили над нами пышные опахала.
– Что же птиц не слыхать? – заметила Мика. – Я бы тебе указала по голосам суетливую сойку, важную кукушку, крикливого дрозда, глупого удода. Вот прислушайся: почему это все птицы замолкли?
И правда, птичий хор молчал, только низко над лесом проносились со свистом стрижи.
– К непогоде, – сказала Мика и вздрогнула: заворчал далекий гром.
– Бежим! – вскричала она. – Здесь должен быть у ручья путевой столб. Оттуда уж я дорогу найду!
Мы побежали, взявшись за руки, огибая заросли, карабкаясь на огромные корневища. В лесу темнело с необыкновенной быстротой, тишина и духота угнетали. Сквозь листву видно было, как по небу стремительно летят могучие тучи.
Гром разодрал небо, и тут же тишина сменилась вихрем: листва, ветки, клочья мха мчались в круговороте; целые кустики, выдранные с корнем, неслись сквозь чащу.
– Ой, ой, ой! – закричала Мика, придерживая подол рубашки. – Я улетаю!
Я схватил ее за пояс, и мы спрятались под древним буком, на котором ветер рвал бороду мха. Ураган нарастал. Сделалось совсем темно, как ночью. Толстенные стволы раскачивались, будто камыш.
– Сколько крыш снесет сегодня! – вырвалось у меня.
И я пожалел, что так сказал. Мика стала кричать, что она не может оставаться, что ей надо домой, потому что она – единственная взрослая в доме.
А ветер давил со страшной силой. Мы еле удерживались, обхватив корявый ствол дерева. Вдруг мы почувствовали, что и эта опора слабеет, что дерево начинает клониться. Едва успели мы отскочить, как старый бук рухнул, из-под земли поднялось корневище, простирая к небу узловатые корни. От падения старых деревьев почва гудела – настоящее землетрясение.
Но ветер стих. В настороженной тишине послышался нараставший шум, словно по лесу катилось что-то громадное, шурша и шарахаясь в уцелевшей листве. Ливень!
Мы сели на корточки, прижавшись друг к другу. Непрестанно гремел гром, и вспышки молний высвечивали лес, подернутый пеленой ливня.
– Ой! – закричала Мика. – Смотри, кентавры!
– Где, где?
– Вот они несутся сквозь дождь, нагнув шеи. Копыта их стучат по поверженным стволам, а руками они отгибают встречные ветви. Ой, как их много! Как развеваются у них длинные гривы! И женщины скачут, и жеребята!..
Но я, как ни всматривался во мрак, не видел никаких лесных чудищ. Меня мучили ледяные потоки, затекающие за шиворот. Я своим телом стремился защитить Мику от ливня, но вскоре и она стала ежиться от холодных струй воды.
Тогда она выбежала из нашего укрытия и принялась скакать под дождем, кружиться, подставляя ладони небесной воде.
– А я ливня не боюсь, не боюсь, не боюсь! – весело кричала Мика. Побегу сейчас за кентаврами, буду с ними жить в лесу, только к маме стану забегать! А тебя мы затащим в лес и напугаем, потому что нет в тебе ничуточки воображения, хоть ты и театральный мальчик!
Впрочем, она быстро продрогла и кинулась ко мне, стараясь сжаться в комочек. Оловянный амулет, оставленный мамой, коснулся ее щеки.
– Что это? – Она потянула за шнурочек.
– Это материнское благословение...
– Вот как? – засмеялась она. – Разве у раба может быть материнское благословение?
Мне показалось, что ледяные струи теперь затекли мне прямо в душу. А она старалась согреться и возбужденно щебетала:
– Тебе не странно, что я скачу, как маленькая? Недолго осталось скакать, скоро я выйду замуж, стану важной хозяйкой, буду сидеть на женской половине...
– Ты выйдешь замуж?
– Да. А что же тут плохого?
– Но ведь тебе...
– Тринадцать лет, ты хочешь сказать? У знатных все дочери выходят в таком возрасте. Моя мама была на год старше, чем я теперь, когда у нее родился первый ребенок... Правда, ребенок вскоре умер.
Я не выдержал и стал делиться с ней своей мечтою – получить свободу, заслужить венок почета.
– Тогда я женюсь на тебе.
Мика помотала головой, задумчиво грызя травинку.
– Почему же нет?
– У меня уже есть жених.
– Кто?
Снова Мика смутилась, снова бросила на меня искоса лукавый взгляд.
– Кимон, сын Мильтиада. Он бы давно женился на мне, но он очень беден и рассчитывал на мое приданое, а мое приданое тю-тю!
Кимон, брат златокудрой Эльпиники! Этот любимец эвпатридов, с волосами, рассыпанными по плечам! Из тех франтов, которые завиваются и ходят с перстеньками на пальцах, которые руки чистят пшеничным хлебом, а нос сморкают в заячьи хвосты!
– А я?
Ну зачем я сказал: "А я?"
– Ты? Ты – товарищ... Нет, товарищем ты не можешь быть, ты несвободный... Ну, значит, друг. Обязательно нужно назвать каким-то словом, да? Пойдем-ка лучше: в лесу посветлело и дождь кончается.
Мы выбрались на тропинку, где стоял столб с головой Гермеса покровителя дорог.
– Войди в кусты и отвернись, – приказала Мика. – Я выжму рубашку. Холодно, зубы стучат.
По небу все еще неслись грозные тучи, громыхали далекие громы, где-то продолжал буйствовать ураган. Каково теперь там, в проливе, кораблям Фемистокла? Ветер их швыряет друг об друга, как скорлупки орехов. Сколько проклятий слышит небо, сколько молитв, сколько жизней поглощает ненасытное море!
Я и Мика не могли тогда знать, что именно в этот час далеко за горами, за равнинами, в узком ущелье гибнут последние герои Леонида, а у мыса Артемисий та же самая буря топит и рассеивает персидские корабли.
Мы бежали, шлепая по лужам. Мика несла сандалии, а я никогда обуви не имел, всегда обходился природными подошвами. Мика напевала, а мне было не до пения. Счастье – что оно? Может быть, оно вроде обуви: у кого ее нет обходись собственными пятками и не зарься на чужие сандалии!
– Лук, лук! – спохватилась Мика. – Мы потеряли лук! Перикл будет плакать: ведь у него игрушек почти нет.
Я достал ножик, срезал две дудочки в тростнике, поваленном бурей. Прорезал отверстие. Если свистеть в обе дудочки сразу, получается грустная и нежная мелодия, от которой сердце плачет, а душа рвется из клетки печали.
– Как хорошо! – изумилась Мика. – Это мне? Дай-ка я поиграю.
Когда мы расставались, я спросил, набравшись храбрости: