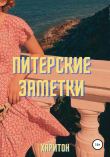Текст книги "Алкамен - театральный мальчик"
Автор книги: Александр Говоров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Во дворе у колодца, опершись на клюку, пил воду Мнесилох. Он улыбался впалым ртом сквозь плешивую бороденку; ветер трепал складки его многочисленных одежд. Рабыня подавала ему ковшик и что-то рассказывала.
Чужеземцы покинули Килика и выходили в ворота. Мнесилох спросил меня, кивая на них:
– Эти люди и тебя осматривали? У Мнесилоха под глазом синела опухоль. Я поморщился от сострадания. Мнесилох захохотал:
– Без тумака, без шишки не поешь и пышки! Наши торговки передали моему глазу поклон от твоих мышей. Вот теперь можно отгадывать загадку: что на спине бывает красным, а под глазом синим?
Он поднялся к Килику, постукивая посохом, а меня позвал садовник Псой – носить ему воду на грядки. Я таскал лейки и останавливался передохнуть у крыльца дома Килика.
– Ты слышишь, жрец? – доносился оттуда голос Мнесилоха, и в этом голосе звучала медь угрозы. – Ты хорошо понял?
Они меня не замечали, а я мог видеть лицо Килика. Килик растерян – вот как?
– Ну ладно, – терпеливо сказал Мнесилох. – Если ты, жрец, запамятовал, я тебе повторю всю эту историю. Итак, при Марафоне наша конница захватила царскую палатку с сокровищами – там были и посуда, и бриллианты, и серебро. Помнишь, жрец?
Килик молчал.
– Чудесно, – продолжал Мнесилох. – Рядом была яма – вражеский окоп. В яму сложили сокровища, застелили досками временно, чтобы уберечь от перипетий битвы. На доски навалили убитых; попал туда и я. У меня была отрублена рука. Вскоре битва переместилась в другой конец поля, а к яме подкрались неизвестные, сбросили трупы... Я как раз очнулся и все видел, всех запомнил... До сих пор архонты и жрецы ищут похитителей... И знаешь, почему не найдут? Потому что сказано: ищи вора в своей норе!
Килик бормотал что-то невнятное и машинально отковыривал штукатурку... Это он-то, хозяйственный Килик!
– Молчал я! – горестно вздохнул Мнесилох. – Молчал все годы, потому что жил из милости при сильных, при тех, кто разбогател на краденых сокровищах! А что мне стоит, Килик, а? Завтра пойти в народное собрание и объявить имена похитителей? А ведь среди них был один младший жрец, и звали его...
– Алкамен, Алкамен! – кричал с огорода Псой. – Куда ты пропал? Неси же скорей воду!
Вечером Килик за какую-то мелочь выдрал меня за ухо. Но я привык к неожиданным наказаниям и не плакал по пустякам.
Утром, когда распределяют работу на день, Килик велел женщинам идти на самый дальний виноградник. Как всегда, и дети собрались вместе с мамами. Однако на этот раз Килик отпустил на виноградник только девочек, а всем мальчикам приказал остаться. Женщины тревожно распрощались с сынишками, ушли.
Меня внезапно служители храма схватили и заперли в чулан, который служил иногда домашней тюрьмой. Сквозь решетку маленького окна до меня весь день доносились чужие гортанные голоса и громкий детский плач. Потом все смолкло, и меня выпустили.
Пыльный двор, нагретый солнцем добела, на котором всегда бегали, скакали, носились взапуски мальчишки, был пуст. Килик продал всех мальчиков, кроме меня! Чему я обязан своим спасением от лап работорговцев? Заступничеству Мнесилоха или каким-то замыслам Килика?
После заката возвратились с работы женщины. Их сердца чуяли недоброе. Еще не доходя до храма, они побежали и, запыхавшись, кинулись в сараи, где жили рабы, искать детей.
Как они кричали, как рыдали! Ветер носил по двору клочья волос, вырванных ими в отчаянии. Одна пыталась покончить с собой – ее вынули из петли. Всю ночь никто не спал – матери звали сыновей, другие их утешали. И все почему-то проклинали меня: мол, из-за моих проделок детей продали, а сам я уцелел.
Очень пустынно и гадко было у меня на душе.
Килик ходил в сопровождении надсмотрщиков с палками – боялся женщин. А мне сказал:
– Надоел ты мне, видеть тебя не могу. Ступай в театр – прислуживай там.
ТЕАТР
Итак, я – мальчик при театре Диониса. Старик Мнесилох рассказывает, что, когда он был маленьким, театров не было.Ходили бродячие актеры, наряжались в бородатые маски сатиров, к ногам привязывали копыта и пели хором. Запевалой у них был кто-нибудь из жрецов Диониса, и пели они про скитания этого веселого бога, пели козлиными голосами, из-за чего народ и прозвал их представления "трагедией", что значит "песня козлов". Аэды, которые ходят с арфой по рынкам и по усадьбам аристократов, воспевая царей и героев, не любили "козлоногих" артистов, поэтому аристократы по их наущению гнали и преследовали бедных служителей Диониса.
Потом Писистрат, тот самый, который хотя и был тираном, но защищал простой народ, учредил праздник – Великие Дионисии. А во время этого праздника – представления трагедий в специально отведенном месте – театре. Театр был воздвигнут возле храма Диониса. В этом театре я и служу.
Моя обязанность – вместе со взрослыми рабами вытирать скамьи, которые полукругом поднимаются по склонам Акрополя, выщипывать траву, если она лезет между скамей и каменных плит, убирать помещения для актеров и жрецов. Все это очень скучно и утомительно, тем более что за работу дают скудный паек; его съедаешь еще утром, а вечером ложишься спать голодным. Назавтра опять то же самое. Так и идет день за днем.
Вечером, после захода солнца, рабов собирают, строят в шеренгу, пересчитывают и уводят ночевать. Я же остаюсь в каморке под сценой – мне доверяют: я маленький, никуда не убегу, а сторожить театр кому-то надо.
Там я и ночую, среди пыльных масок и пропахших клеем декораций, не обращая внимания на шмыганье крыс и шорох летучих мышей.
Надвигаются праздники, и в нашем унылом театре все преображается. Первым является веселый живописец Полигнот. Он заново расписывает маски, обновляет их так, что они сияют, словно облизанные. Полигнот работает и поет приятным баритоном; сквозь отверстие в потолке на него падает яркий луч, и кудрявая золотистая шевелюра художника светится, словно ореол бога Солнца. А когда он разжигает жаровню, чтобы разогреть свои восковые краски, по всем помещениям пахнет сладким медом. Он богатый человек, этот Полигнот; он трудится у нас бесплатно, ради почтения к богу Дионису. Вместе с его приходом и все приободряются, оживают; все обмениваются с ним улыбками, а он беззаботно шутит, даже с рабами.
В полдень к нему приходит его невеста, Эльпиника, девушка из знаменитой семьи, дочь Мильтиада, победителя при Марафоне. Отец оставил им одни долги, поэтому у нее нет рабынь и она сама приносит обед жениху в корзиночке, красиво прикрытой виноградными листьями. Непременно или кисть винограда, или кусок сладкой булки достаются мне, а Эльпиника при этом гладит меня по голове своей полной и легкой рукой. Вот бывают же и среди аристократов сердечные люди.
Затем являются поэты: высокий медлительный Эсхил, с голубыми, неподвижными глазами, всегда изящно одетый и старательно обутый; его соперник Фриних – маленький, суетливый, забывчивый, неряшливый. Всегда он какой-то несчастный, и всегда за ним волочится по земле развязанный шнурок от сандалии. Фрйних говорит, говорит без умолку, а Эсхил редко роняет слова, наверное, ум его занят обдумыванием стихов высокого смысла. Это внушает мне почтение и любопытство, а Фриниха я и птицей не считаю, могу даже ему на шнурок наступить, чтобы он споткнулся.
За поэтами приходят хореги – богатые и знатные граждане, которые в силу жребия или просто ради чести на свой счет устраивают театральные представления. Хорёги приводят за собой певцов и музыкантов; за ними толпятся комедианты, чтобы развлекать зрителей в перерывах; торговцы, чтобы продавать пирожки и прохладительные напитки; гадатели, чтобы дурачить простодушных крестьян и чужеземцев; жулики, чтобы выворачивать чужие кошельки. Последним является знаменитый артист, как полководец, в окружении свиты учеников и поклонников.
И вот настает день представления. Каждая фила, каждая община размещаются точно на предназначенных местах; если кто заблудился, старейшины перегоняют его в другой конец театра.
Вот все утихает. Появляется царственный старец, архонт-эпоним, в окружении других архонтов, стратегов и жрецов; он усаживается в почетное кресло, дает знак, и представление начинается.
Во время представления у меня множество дел: по знаку Килика (он и в театре распоряжается) я вместе с другими рабами должен бегом нести на сцену декорации и тут же расставлять их. Если по ходу действия полагается лес мы ставим дерево, если дворец – ставим колонну или дверь. Если ночь – я дергаю шнур, и над орхестрой – местом, где играют актеры и движется хор, опускается финикийское, дивной работы, покрывало, непроглядно черное, а на нем нашиты серебряные звезды.
Но это еще не все. В мою каморку поочередно забегают то первый, то второй актеры и требуют переодеваться: тот – царицей, другой – пастухом. Не успеем мы перевести дух, как они прибегают вновь и приказывают, чтобы их переодели богами, и так далее.
В мгновение ока мы надеваем им на ноги высокие котурны, меняем маски, а пока меняем, вытираем вспотевшие лица и даем прохладной воды. Затем накидываем подходящие к роли цветастые хламиды или расшитые парчой платья и выпроваживаем на орхестру, где тем временем действует хор, изображающий то старцев, то толпу девиц, то бурю, а то и гнев богов.
Несладко нам приходится, но не слаще и актерам. Ведь их всего двое, а действующих лиц в трагедии множество. Вот и приспосабливайся, меняй маску, меняй голоса – то женский, то старческий, то певучий, то брюзгливый, то нежный.
Да и то спасибо голубоглазому Эсхилу – ведь это он ввел, говорят, второго актера, а до него был только один. Вот, наверное, бедняга маялся!
И все же, если бы я не хотел быть матросом, я бы стал актером. Они поистине как боги. Могут перевоплощаться в любого человека по желанию поэта и по умению самого актера.
НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ
Иногда ночью, когда созвездие Медведицы укатится за острые пики кипарисов, в театр заходит Мнесилох: ему у богатых людей не спится.
Я боюсь проспать его появление, поэтому мои глаза сами открываются, заслышав постукиванье его палки. Я разлепляю глаза, таращу их в небо. Сквозь прорезь в потолке я вижу крупные звезды, которые переливаются, как россыпь углей, припудренная лунной пылью.
А Мнесилох постукивает, негромко кашляет, вздыхает, вполголоса призывает милость богов. Я знаю, что он неторопливо пробирается между скамей, спускается к самому почетному первому ряду. Там он садится в высокое каменное кресло жреца Диониса и ждет, не проснусь ли я.
Но я непременно проснусь! Бегу босиком по шершавым, еще теплым от дневного солнца плитам, забираюсь на резную ручку кресла. Мнесилох накрывает меня полой своего плаща, чтобы мне не повредила предутренняя сырость. Он приносит мне от стола богачей пироги, засахаренные маслины, печенье – целое пиршество! Он припасает мне также самые свежие новости:
– Мидяне, или персы, как их иначе называют, уже перешли Геллеспонт. Сегодня один моряк рассказывал: волны разрушили гигантский мост, построенный по приказу персидского царя. Царь разгневался, велел заковать море в цепи и высечь его плетьми. И вот кинули в море кандалы, а волны секли плеткой во исполнение царского приказа.
Мне стало смешно – великое, могучее, безбрежное море заковать в кандалы! Стремительные, мощные, пенистые волны стегать плеткой! Разве эти волны – рабы, такие же бессильные, как мы?
Мнесилох, однако, не улыбнулся. Он завернул в тряпицу остатки ужина, сказал задумчиво:
– Боги гневаются на светлый город Паллады. Новый царь мидян Ксеркс поклялся, говорят, город наш испепелить. Сна лишился – Марафон ему как шпилька в перине.
Сколько раз по моей просьбе Мнесилох повторял рассказ о Марафоне! О том, как после разгрома сухопутного войска мидян их флот повернул на юг, надеясь быстро обогнуть мыс Суний и врасплох захватить беззащитные Афины. Тогда афиняне покинули марафонское поле и, построившись по филам и фратриям, бегом пустились на защиту родного города.
Мнесилох во время рассказа возбуждался, вскакивал, размахивал единственной рукой, описывая, как гоплиты с тяжелым топотом пробегали через поселки, сопровождаемые лаем собак и воплями женщин; как девушки бежали за ними с кувшинами в руках, предлагая на бегу утолить жажду; как в лица воинам плескали холодной водой, чтобы хоть как-нибудь облегчить тяжесть бега в доспехах по жаре.
Мнесилох со вздохом добавлял, что лично он этого не видел, потому что метался в горячке у врачей. Но все же, заканчивая рассказ, описывал, как наутро персидский флот подошел к афинскому берегу и как мидяне увидели лес копий и стены щитов.
Ах, зачем я не свободный! Я сейчас ушел бы в войско, попросился бы хоть лошадей чистить, хоть носить чей-нибудь тяжелый щит.
А Мнесилох тем временем ворчит:
– Хуже всего, что нет единогласия: один туда, другой сюда, третий совсем никуда. Легкомыслие какое-то... Слышал, какую песенку распевают в харчевнях и винных подвальчиках? "Будем пить и веселиться и не думать о войне с мидянами..." А там по мосту через Геллеспонт день и ночь идут полчища персидского царя!
Он горестно качал головой, а мне становилось жутко и весело. Там, далеко, в варварском краю, по деревянным настилам вышагивают, важно колыхаясь, мохнатые верблюды, катятся боевые колесницы, проносится легкокрылая аравийская конница. Скоро война придвинется и к стенам Афин. Мне представится случай совершить подвиг, и я непременно стану свободным.
А Мнесилоха все гнетут мрачные мысли. Днем ему приходится ломать свои комедии, а ночью он со мной отводит душу: я слушатель бессловесный.
– Главное – единства нет. Спартанцы воду мутят. Правда, они и при Марафоне нам не помогли, всё медлили с помощью, выжидали кто кого. Тогда зато афинский народ был един, и единый вождь был – Мильтиад. Теперь и вождей много, и раздоров хватает. Мнения единого нет: Фемистокл, а с ним диакри, бедные жители гор и паралии, моряки и торговцы требуют создать сильный флот. Аристид и педиэи – землевладельцы – кричат: вооружить всех от мала до велика, драться за каждый клочок пашни, за каждый поворот дороги. Фемистокл возражает: вот, говорит, вас и растерзают на этих клочках, количеством задавят. А народное собрание заседает без перерыва: делит сено между львами и ждет, когда на лопухе дыня вырастет!
Чтобы отвлечь старика от грустных мыслей, я устраиваю ему спектакль. Ведь я присутствую при всех репетициях и представлениях и отлично запоминаю слова, реплики, куплеты, мелодии.
Звонким голосом (хотя и не очень громко, чтобы не услышал кто чужой) я нараспев декламирую пролог и выхожу на орхестру. Брезжит далекая заря, и Мнесилох может видеть, как я копирую важную походку и плавные телодвижения актеров. Мнесилох смеется. Тогда я один за целый хор пою парод – выходную песню хора. За актера я произношу монологи – эписодии и сам вместо хора отвечаю стасимами – стихотворными куплетами.
– Эй, эй, погоди! Здесь ты неправильно делаешь. Вот так надо, вот так! – Мнесилох вылезает на орхестру и, прихрамывая, показывает мне позы и походку трагических актеров.
Наконец я торжественно пою эксод – заключительные строфы трагедии, и Мнесилох мне подпевает дребезжащим голоском.
– Актер, ты настоящий актер! – восторгается он. – Гляди-ка, теленок вырос и может слопать льва!
Я кричу ему в ответ, что не хочу быть актером, хочу быть моряком или воином.
Однажды наше бурное веселье разбудило жреца Килика. Взяв посох и поеживаясь от утреннего холодка, он вышел к театру, чтобы посмотреть, что за шум.
– Ах ты, сын греха, раб собачий! – накинулся он на меня. – Да пожрут тебя гарпии, проклятый! Что ты расхаживаешь как бойцовый петух, как ты смеешь осквернять театр ночными криками и безобразием?!
Он уже замахнулся на меня, но Мнесилох подоспел и отвел его посох.
– Не тронь мальчика, жрец. Ребенок ли, звереныш ли, сын ли раба – всё дети.
Килик спрятал посох за спину, спрятал руки под хламиду, спрятал глаза в приятной улыбке. Спасибо Мнесилоху, знает он волшебное слово на этого дракона!
ЕЩЕ ОДИН ВРАГ
Ксантипп, богатый кораблевладелец, однажды попал в бурю. Валы обломали мачты, захлестнули трюмы и вот-вот готовы были перевернуть корабль. Однако, как рассказывает Ксантипп, он стал молиться Дионису – покровителю путешествий. И – о чудо! – буря улеглась, спокойные волны принесли корабль к зеленому острову, где можно было и судно починить, и людям передохнуть. Благодарный Ксантипп выделил храму Диониса богатую часть из спасенного груза – слоновую кость, аравийские благовония, черных рабынь. А в придачу раба-скифа, только что выловленного в степях у далекой северной реки.
Когда новичка ввели во двор храма, все сбежались посмотреть на это диво. Огромный, полуголый, несчастный, он жадно ел все, что подкладывал ему повар.
– Глядите, он уже свиную ногу доедает! – хохотали рабы. – Вот утроба! Хорошо, что тот же Ксантипп отвалил богам целую гору жертвенного мяса. Иначе пришлось бы этому скифу довольствоваться луком да репой. Ничего, браток, еще поголодаешь на нашей пище!
– Какие мощные ноги, прямо столбы! – изумлялись рабы. – А шерсть рыжая растет и на груди и на ногах.
Вышел Килик, подивился, как скиф жует могучими челюстями. Настоящий медведь!
Так и осталось за новичком прозвище "Медведь". Рабы ведь не носят имен, их зовут для удобства по названиям их инструментов. Кто работает в поле, зовут "Эй, Лопата!", кто трудится в мастерской, окликают "Эй, Шило!". Только я ношу эллинское имя, потому что я прирожденный грек, да вот теперь этому варвару дали зверское имя – Медведь.
Килик велел его напоить. Повар подал скифу кувшинчик. Медведь воду выдул одним глотком.
Все смеялись и показывали на него пальцами; он же не понимал ни слова, добродушно ухмылялся, ковырял в зубах веточкой и загибал за плечо руку, чтобы почесать спину, тоже обросшую рыжей шерстью.
Я смотрел разинув рот – ну и сила! Он взглянул на меня, вдруг взял за руку и притянул к себе. Двумя слоновьими пальцами он защемил мой нос и притянул к себе. Быть может, в Скифии это и ласка – Медведь ухмылялся во все зубы и гладил мою спину шершавой ладонью, но все, кто тут был – и жрецы, и рабы, – грохнули хохотом:
– О-ох, Алкамен, хо-хо-хо!
– Вот это сморкач – ха-ха-ха! И долго еще издевались надо мной языкастые афиняне. Увидят, бывало, издали и кричат:
– Эй, мальчик, как твой нос, цел? Медведь его тебе не вывинтил?
Какой позор! Я возненавидел скифа, его медвежью фигуру, добрую улыбку, приятный запах пота.
Килик определил его в театр, и во время представлений Медведь ворочал рычаги, приводя в движение площадку сцены, или поднимал на особой машине актеров, изображавших богов.
Однажды мы отпросились к берегу искупаться. Медведь очень напугался при виде моря. Наверное, блистающие волны, которые стелются одна на другую, напомнили скифу черные дни, когда его изловили и по такому же ласковому морю увезли на чужбину. Он сел на песок в десяти шагах от прибоя, а в море не пошел. Его стали дразнить и кидаться камушками. Особенно, конечно, издевался я. На меня какое-то бешенство напало. Я прыгал, выпячивал челюсть, передразнивая, как Медведь жует, изображал разлапистую его походку.
Люди смеялись и хлопали в ладоши. Неподвижный Медведь сутулился, а я не замечал, что в его глазах копится гнев. Неожиданно он распрямился, как пружина, и бросился за мной. Началась погоня по песку, по кромке прибоя под крик и улюлюканье зрителей. Я уже чувствовал на затылке сопенье скифа, уже его лапа дважды соскальзывала с моего плеча, – мне ничего не оставалось, как кинуться в море. Пока мы бежали, шумя водой по мелководью, он не отставал от меня, но, когда я поплыл, Медведь стал барахтаться, закричал от неожиданности и пошел на дно. Он не умел плавать, этот житель безводных степей! Я осмелел, принялся плескаться вокруг него, а он стоял на дне, высунув ладони, как бы умоляя вытащить.
Наконец ему удалось ступить на мелкое место. Я не успел увернуться он схватил меня и высоко поднял над головой, занес над прибрежными камнями, между которыми струилась утекающая пена. Шмякнул бы он меня – и душа бы из меня отлетела.
Я зажмурил глаза – что же? Он прав. В этом мире всегда победитель убивает побежденного.
Но Медведь мягко опустил меня на песок, взъерошил мои волосы и ушел, смеясь, отплевывая соленую воду: рыжая шерсть его светлела, высыхая. А я поплелся униженный – не Медведь, а я!
С тех пор мне показалось, что Медведь – мой враг, враг хуже, чем Килик. Я строил скифу каверзы – сыпал землю ему в кашу, а он ел, скрипя песком на зубах, потому что никогда не наедался досыта. Раз я перерезал ему ремни сандалии – он запутался и упал; все смеялись, а Килик велел скифа высечь за испорченную обувь. Я понимаю, он имел полное право надавать мне подзатыльников или вывернуть ухо (вы знаете, какая у него ручища? Как у циклопа!). Но он не считал меня равным противником, при встрече даже приветливо махал мне рукой. Вот это-то и выводило меня из себя!
Он быстро научился греческому языку, хотя и говорил, коверкая слова, как будто у него во рту был не язык, а обрубок. Взрослые рабы стали относиться к нему с некоторым почтением, потому что он усмирял драки, мирил ссорившихся, даже разбирал тяжбы, которые рабы не хотели выносить на суд хозяев.
Как-то Килик на вечерней поверке пригрозил ему, что сошлет в рудники, если он не перестанет собирать вокруг себя рабов и шептаться с ними.
Я злорадно подумал: "Хоть бы сослали, вот бы он порастряс свою геракловскую мощь в мрачной и сырой шахте!"
РОЖДЕНИЕ "БЕЛЛЕРОФОНТА"
В народном собрании была буря. Аристократы штурмовали Фемистокла, вождя демократии, – он требовал средств на постройку кораблей. Крик афинян, как вал многошумного моря, хлестал в крутые скалы Пникса. Фемистокл простирал руку и укрощал собрание, как, наверное, Посейдон усмиряет свирепый прибой океана. Но к обеду он натрудил горло, махнул рукой и отошел. Тогда Ксантипп, тот самый, который когда-то прогонял Мнесилоха, тот самый, который подарил храму скифа, Ксантипп ринулся ему на выручку!
– Не спасетесь вы от мидян! – кричал он. – Высокие стены и амбарные щеколды вам не помогут. А нам, мореходам, терять нечего – все наше на корабле. Даже если не отстоим город, пусть ветры потрудятся, раздувая щеки: поплывем искать новую родину!
Аристократы порывались стащить его с трибуны, замахивались посохами, а моряки и торговцы скандировали:
– Де-нег на флот! Де-нег на флот! Вышел тихий Аристид и вкрадчиво сказал:
– Ты, Ксантипп, много кричишь, много шумишь. У тебя денег куры не клюют – построил бы корабль во славу Паллады.
Аристократы притихли от радости, думали, что Ксантипп ухватится за кошелек и спрячется в толпе. Но Ксантипп упрямо мотнул черными кудрями. Оратор он был плохой – говорил визгливым голосом, кривил рот, от волнения заикался. Но его ответ выслушали без обычных насмешек и свиста.
– И что ж, и построю. А когда построю, пусть каждый из толстопузых аристократов, червей земляных, тоже построит корабль. Кто пятьсот медимнов зерна собирает, пусть строит большую триеру; кто собирает триста, пусть хоть галеру построит.
И он, Ксантипп, построил трехпалубный, мощный, вооруженный острым тараном корабль. И назвал его "Беллерофонт", в честь легендарного героя, который летал на крылатом коне Пегасе.
Настал час, когда "Беллерофонт" спускали на воду, и в этот день Ксантипп снова не поскупился. На бронзовых пиках жарились целые туши быков, вино черпали прямо из чанов.
Из-под днища корабля выбили клинья – "Беллерофонт" пошатнулся. Дубовые ребра и сосновые мачты его заскрипели, он медленно двинулся к воде по каткам.
– Уксусу, рабы, уксусу! – бесновался перед огромным кораблем маленький Ксантипп. – Поливайте катки, не видите, что ли, – они дымятся от трения!
И вот грузный корабль достиг моря и ринулся в волны резным носом, поплыл, закачался на морской зыби. Афиняне дружно закричали, и от их крика испуганные чайки взлетели под самые облака. Тут начался пир! И тут была нам, рабам, задача: свежевали, потрошили, жарили, шпиговали. Колбасу кровяную поливали медом, резали круглый пирог с сырной начинкой, разносили. То и дело кто-нибудь требовал:
– Эй", мне чесночной похлебки с солью!
– А мне рыбки со сладкой подливкой! Вскоре затянули нестройную песенку:
Попался барашек, попался в похлебку!..
Только под утро замолкли удары бубнов и барабанов, погасли огни пиршественных костров. Когда утренняя заря взбежала на небо, уже все разошлись; только отдельные гуляки брели, держась поближе к заборам. Килик приказал положить в храмовые носилки бесчувственного Ксантиппа, взгромоздился сам, и рабы их потащили, покряхтывая от тяжести.
Когда носилки достигли храма, Килик вылез и приказал:
– Отнесите Ксантиппа к нему домой! А Ксантипп, высунув прыщеватый нос из-за занавесок, орошая песок слезами, усталым голосом сказал:
– Голубчик, Килик... Прекрасный ты человек! А ведь рассказывают, будто ты похитил персидские сокровища после битвы при Марафоне... Но я не верил, можешь залепить мне грязью в глаза. Хоть ты и аристократ, но ты добрейший...
Килик сжал губы и отступил от носилок.
– Что вы стойте! – заорал он на носильщиков. – Несите его, кому сказано! Развесили уши... А ты, Алка-мен, а ты, Медведь... – он тыкал пальцем в первых подвернувшихся рабов, – вы пойдете его провожать. А не то, что скажут люди? Скажут, Килик отпустил такого уважаемого человека без подобающей свиты!
А утреннее солнце уже щедро ласкало кривые улочки предместий, зеленые своды аллей, мраморные храмы, многолюдные площади, роскошные бани. Забыв о ночной усталости, мы любовались этой ясностью и вовсю вдыхали свежий воздух. Только один человек ничего этого не видел и не чувствовал. Он поминутно высовывался из носилок и бормотал в напряженные спины рабов:
– Что, собачьи дети, ждете прихода персов? Прежде раб своим был в доме человеком... раб моего деда, Памфил, три поколения господ нянчил... А вы думаете, мидяне принесут вам освобождение? Как бы не так: продадут на одном рынке вместе и вас и нас...
Медведь запихивал его за занавеску, чтобы прохожие не видели. А он высовывался и тыкал пальцем Медведю в грудь:
– Ты, рыжий... Я тебя знаю... Килик рассказывал... Ты что же, рабов подбиваешь к побегу?.. Ха-ха-ха! До твоей родины тысячи стадий – я знаю... Я старый мореход. Халкида, Милет, Эфес, Византий... – Он загибал непослушные пальцы. – Херсонес!.. Везде стражи и доносчики наготове, схватят вас, как чижиков. Что тогда? – Он пытался выпрыгнуть, высовывал ноги, хохотал. – Тогда что? Рогатки на шеи – и в рудники, на медленную смерть, ха-ха-ха!
Впрочем, чувствуя, что мы приближаемся к дому, он стал приходить в себя. Слабым голосом попросил, чтобы его вынули, захотел идти по свежему воздуху и пошел, опираясь на мое плечо и на могучую шею Медведя.
ДЕВОЧКА
Мы пересекли город, вышли из двубашенных ворот и свернули направо. Скоро там, где высятся пирамидальные тополя, могучие, как обелиски, показался белый Колон – тихое предместье Афин. Вот дом Ксантиппа, вот и канава, из которой я некогда вытащил Мнесилоха. Ксантипп приосанился и был похож на те отполированные ветром и солнцем фигурки, которые красуются на носах кораблей.
Домашние и рабы встретили его сочувственной толпой. Ксантипп прикрикнул на них и ушел в глубь дома. Все кинулись хлопотать о хозяине. Медведь велел носилкам возвращаться обратно, а сам, ощутив запах жареного, раздул широкие ноздри и удалился в направлении кухни. А я вышел в сад.
Как и все дома богатых афинян, дом Ксантиппа был построен в виде четырехугольника; посредине – авла (внутренний дворик). Там под раскидистыми орехами и акациями журчали каскады фонтанов, воздух был пронизан водяной пылью и приятно прохладен. Я никогда еще не бывал в таком богатом доме и в таком красивом саду. Из-за кустарника, подстриженного в виде кубов и шаров, раздались голоса – звонкий детский и нежный девичий. Мое сердце почему-то дрогнуло, как дрогнуло, наверное, сердце Одиссея, когда он услышал издали пение сирен. Странно, я прежде равнодушно слышал голоса девочек, ведь у нас в храме целый девичий хор.
Я сделал шаг за кусты, но оттуда на меня бросилась громадная собака, показывая клыки из-под складок кожи.
– Ого! – Я от неожиданности отпрянул. На дорожку выбежал кудрявый мальчуган, а за ним – девочка моего возраста.
– Назад, Кефёй, назад! – Девочка прогнала пса, а мальчик кинул мне кожаный красный мяч.
Я отбросил мяч девочке, она ловко поймала, подпрыгнув.
И вся она была, как светлый мед, который пчелы
Из солнца и пыльцы цветов создали...
Ведь так, кажется, сказал поэт?
В то мгновение я совсем забыл, что я – раб. По закону нестриженые космы должны были скрывать мои рабские глаза, но, так как я прислуживал в театре и в храме, искусный парикмахер делал мне прическу. Наверное, потому меня не сочли здесь рабом.
– Лови, Перикл! – крикнула девочка брату, бросая мяч.
– Кидай мне, вот так. А теперь я брошу тебе, мальчик. Как тебя зовут?
– Алкамен...
– Лови, Алкамен!
Она шутя бросила мяч так, что я не смог его поймать. Мяч ударился о капитель колонны и отскочил прямо мне в лоб.
Если бы вы слышали, как она смеялась!
Вот здесь я и перестал соображать, кто я и где нахожусь. Мне так захотелось чем-нибудь отличиться перед этой необыкновенной девочкой! Я кинул мяч в воздух "свечой" так высоко, что дети задрали подбородки, чтобы увидеть мяч в небе. Я же стоял горделиво, показывая, что совершенно не слежу за полетом мяча, а вот подхвачу его перед самой землей.
Но девочка кинулась, желая сама схватить мяч на лету. Мы столкнулись с ней; оба смутились и отвернулись.
– А где же мяч? Перикл, куда упал мяч? Мяч упал в большой бассейн и мирно плавал там, покачиваясь. Мы подбежали к бассейну. Перикл, четырехлетний мальчик со странно вытянутой головой, говорил рассудительно:
– Вот, не надо было кидать мяч так высоко. Теперь нужно вызвать раба с шестом: пусть он достанет нам мяч, а то во что же мы будем играть?
Но как тут было не показать мою ловкость? Я подобрал полы хитона и прыгнул в бассейн – там было мелко. Девочка схватила меня за руку:
– Что ты делаешь, Алкамен? Скорее назад! Я освободил руку, шагнул к мячу, схватил его и победно поднял над головой. Но девочка продолжала кричать, заламывая руки, а мальчик громко плакал, глядя широко раскрытыми глазами куда-то сбоку от меня. Я перевел взгляд туда: ко мне приближалась огромная рыба, и хищная пасть ее была усеяна тысячью острых зубов. В сердце мне как будто холодная игла вонзилась... Я и сейчас еще, если закрою глаза, ясно вижу физиономию этой рабы, которая – о боги! – улыбалась!
Меня охватило оцепенение, а рыба подплыла совсем близко. Тут я не помня себя кинулся из воды и успел выскочить перед самой пастью рыбы. Девочка дрожала от пережитого страха, выжимала воду из полы моего хитона. Мальчик крепко обхватил мяч, будто хотел уберечь от рыбы и его.