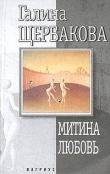Текст книги "Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой"
Автор книги: Александр Щербаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
И, между прочим, Николай Крутиков забрал эту Тоню, «почти своего человека». И началось…
«-…Неудобная у тебя кровать. Я совсем не сплю.
– А у меня изжога от твоих голубцов.
– Не мои – магазинные.
– Магазинные? Ну, ты даешь! Чего ж это мы едим магазинные? Капусты, что ли, нет? Или там – начинки?
– Три дня нигде нет капусты.
– Странно…
– Не веришь, что ли?..
Тошно им было обоим. От неумения сблизиться, понять друг друга. И пришла мысль, что совершили они оба ошибку». («Сентиментальный потоп»).
И только уже в момент состоявшегося разрыва нежданно случившийся потоп, жесткая коммунальная стихия совершила коммуникативное чудо.
«Было так страшно, что они в отчаянии сели рядом на стоящую в воде кровать, потому что ноги их не держали. Было ободрано и – тихо, тихо… И в этой тишине они вдруг услышали друг друга, потому что оба были славные, хорошие, оглохшие в шуме люди.
– А я все равно хотел обои менять, – сказал Николай. – Ты какие хочешь?
– Мне все равно, – сказала Тоня. – Я только не люблю, когда салатовые.
– Я тоже, – сказал он. – Салат, он зеленый, холодный. Не для семьи. И надо поискать дверные ручки, шпингалеты. Этим столько лет…
– Я поищу, – сказала она. – Поезжу.
И тогда он ее обнял.
Она прижалась к нему и заплакала».
Ну, а вот у Владимира Ивановича случился полный облом.
«В дверях стояла широкая баба в перекошенной юбке и спортивной адидасовской куртке со следами выдранной с мясом молнии. У нее были набрякшие глаза («Базедова болезнь», – подумал Владимир Иванович) и сильно обвисший подбородок.
– Извините, – сказал он. – Ольга Михайловна дома? – Как легко вспомнилось отчество, на раз.
– Ну, – ответила баба.
– Я тут проездом. Я ее одноклассник. Хотел встретиться. Когда она будет?
– Кто? – спросила тетка, и в голосе ее был какой-то странный ядовитый смешок.
– Ольга Михайловна. Оля…
– Заходи, – сказала баба. Она повернулась спиной, и он увидел, что юбку ее крепко защемили ягодицы, и было в этом заде даже что-то величественное в его полном равнодушии к миру смотрящему.
И он покорно шел за этим телосложением, испытывая перед ним даже некую робостью.
– Ты как был дурак, Вовка, так им и остался, – говорила идущая впереди него природа…»
Надо ли объяснять, что опустившаяся, глушащая стаканом водку баба и была той Олей.
«…Все-таки он поднял на нее глаза. Она стояла к нему боком, смотрела в окно, и ягодицы по-прежнему крепко держали ее юбку. Он резко отвернулся от этой картины, но заметил, как разлапистая ладонь незаметно смахнула с лица слезинку. Ему тоже захотелось плакать».
Что, страшно?! Еще как. А писатель Галина Николаевна честно сказала:
– Это я про тебя написала.
Без тени юмора. Она написала не про меня, а для меня. Как бы глядя в мой безрадостный завтрашний день. Я злился на нее. Но больше – боялся. Боялся закаменевшего бледного лица.
Кажется, объяснил сам себе историю с неотвеченным письмом? Но… опять вспоминаю: «я потеряю опору, я окажусь в пустоте и мне будет совсем худо…»
А сейчас и мне от этого худо. И ничего не вернуть.
Почему-то на память приходит школьное. «Я оглянулся окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала». Пусть простит меня Александр Николаевич Радищев, великой души человек, за использование найденной им потрясающей словесной формулы. Так вот, окрест меня очень многие люди живут по жребию, доставшемуся им, так сказать, при типовой раздаче: есть человек – получи свою нормальную, справедливую среднечеловеческую долю. И есть люди с судьбой – индивидуальной, заготовленной провидением именно для них. Но, в отличие от получающих свой удел «в общем порядке», прет-а-порте, им приходится, такое уж правило, эту свою модельную судьбу еще выискать в мировой кутерьме. И не факт, что, разысканная, она гарантирует тебе нечто славное, счастливое, безбедное. Нет, только твердое конечное чувство, что ты прожил именно свою жизнь. Но это – не мало.
И потому так много ищущих. А поиск – это слишком часто путь проб и ошибок. Оглянувшись окрест, я увидел, что нашедших обычно окружает немалое число потерпевших от их поисков.
Это меня озадачивает. Мне не ясно, как к этому относиться. Но честно: я благодарен провидению за подаренную судьбу. В комедии Островского про женитьбу Бальзаминова купчиха Клеопатра Ивановна мудро говорит: «Разве можно знать божью планиду! У всякого человека есть своя планида…» А мне было дано понимание: вот она, в моих руках, нить моей божьей планиды.
II
Собирались наскоро.
Обнимались ласково.
Пели, балагурили. Пили, да курили.
День прошел, как не было, не поговорили.
Виделись, не виделись.
Ни за что обиделись.
Помирились, встретились, шуму натворили.
Год прошел, как не было, не поговорили.
Так и жили наскоро.
И дружили наскоро.
Не жалея, тратили. Не скупясь, дарили.
Жизнь прошла, как не было, не поговорили.
Так бесхитростно обрисовал наше бытие один из самых моих любимых поэтов Юрий Левитанский.
Повторяя мысль какого-то приметливого англичанина – жизнь человека состоит из потерь (human life is made up of losses), я ныне полагаю, что главная потеря как раз и заключается в том, что «не поговорили», не договорили – ни в дне, ни в году, ни в жизни. Просек я эту истину, когда ушла из жизни моя жена Галя. Но я знаю, что эта мудрость никому никогда не поможет. Ибо в каждом дне всегда есть что-то под номером один – обниматься, петь, балагурить, обижаться, мириться, тратить, дарить… Все прочее, «надстроечное» – это потом, потом…
Когда?
Мне повезло главным человеком своей жизни избрать сочинительницу, рассказчицу, которая оставила в виде букв на белых бумажных листах большую, бо̀льшую часть своей души, своих сомнений, страхов, надежд… И получилось – можно говорить, можно вести диалог, беседу.
Вообще-то отчасти мы и при ее жизни все-таки поговорили. Был у нас такой небольшой предзакатный безветренный, тихий период. Казалось: все неотложное, наконец, в прошлом, все плохое уже произошло, бояться неизбежного глупо. «Главное – дойти до края своими ногами», – говорила Галя. Но это уж – не наша воля и забота. Мы, радуясь своим неожиданно счастливым дням и не стыдясь их, говорили вслух: «Подольше бы так, подольше…» То был единичный, несравненный промежуток… душевного покоя, которое мы подманиваем каждое утро своего разумного существования, обычно безуспешно.
Его конец пришел, как возмездие, 7 июля 2009 года. В виде моего инсульта. Правда, было еще его малое продолжение перед уходом Гали в марте 2010-го. Об этом, может быть, – чуть позже.
Вот тогда мы «чуток» (расхожее бытовое слово Галины) и поговорили.
Что запомнилось (не по степени важности).
В 1975 году я возвратился из командировки в США. Привез, конечно, кучу грошовых сувениров и один дорогой для меня подарок от любезных американцев, узнавших, что я люблю джаз, – двойной виниловый альбом Луи Армстронга. Какое же было для меня расстройство, когда я узнал: Галя в числе всяких презентуемых родственникам и друзьям бессмысленных заокеанских диковинок отдала и эти пластинки. Конечно, я наорал на нее, раскрыл ей глаза на ее дремучесть в области свинга (что было святой правдой), но что сделано, то сделано, как одно время говорили молодые, «поздняк метаться». И вот через десятки лет, уже в зрелые годы не брежневского, а путинского застоя, я вернулся к этому «делу» и выразил, наконец, глубину постигнувшей меня тогда обиды.
Стало легче.
Не помню, как мы вышли на тему начала нашей ростовской поры.
То время стало естественным продолжением моего «челябинского периода», когда я пребывал в состоянии влюбленности – причем, неистовой (что вообще-то, по моему собственному пониманию, противоречит моей натуре). Галина значилась как замужняя женщина, алгоритм ее жизни не мог зависеть от моих обстоятельств, ее же планида предписывала однозначный путь – в Ростов-на-Дону. Значит, и у меня иного выбора не было…
Город этот оказался счастливым для нас. «Урожайным» на друзей. Удачной площадкой для прыжка в высоту в профессии. А главное – там мы связали свои судьбы желанными оковами брака. Там появилась на свет наша долгожданная дочь (долгожданная – потому что Галине пришлось для этого пройти немаленький курс лечения; помню, руководила главными медицинскими моментами в рождении дитяти родная сестра самого популярного ростовчанина, великого футболиста Виктора Понедельника, а сама она была авторитетнейшей величиной по части акушерства).
Однако не об этом речь. В одном из наших неспешных «осенних» разговоров вдруг выяснилось, что мы не очень четко представляем добрачные обстоятельства жизни друг друга. И то сказать. Припомните, из чего состоят разговоры влюбленных на свиданиях в театральных драмах (и комедиях)? Из чего угодно – только не из транслирования житейской информации. Так же – и в действительности. Зато уже в семейной жизни текущее обывание заполняет почти все ее пространство, да так, что даже на какое-нибудь воспоминание о нашем существовании до того, не остается и минуты.
И вот у нас уже в 2010 году случился вечер воспоминаний. Не уверен, на самом деле Галина не знала обстоятельств моего пришествия в Ростов или их погребли в памяти напластования десятков лет? Удивительным блеском неподдельного интереса светился ее взгляд, когда я рассказывал о нем. О том, как в поисках работы обходил редакции газет, потом стал вкалывать учеником токаря на заводе «Ростсельмаш» и одновременно писал материалы для газеты «Комсомолец». А она там уже работала; тем удивительнее показалась просьба рассказать, о чем они были! Воистину, «так и жили наскоро». На «подробности мелких чувств» (так спустя много-много лет она назовет одну из своих книг) просто не хватало – нет, не времени, а самой жизни. Я верил и знал, что она хочет как можно скорей соединиться со мной; ей же надо было только полагаться на то, что я со своей стороны для этого делаю все необходимое. Вдавайся она тогда (в дополнение к своим заморочкам) в детали – где я жил, на какие шиши, что конкретно собираюсь предпринять и т. д., – она бы, не исключено, тронулась умом.
Ростов – интересный город. Если Москва слезам не верит, то уж он тем более. С «чисто московскими» (а потом и всероссийскими) нравами там можно было столкнуться еще в 1960 году. Приходишь в редакцию, точно зная, что в штате есть незанятые места, просишься на работу. Отвечают: «Придите завтра». На другой день: «Знаете, вы нам ужасно подходите, но, к сожалению, нет вакансий». И так везде. За этим не было какой-то особой зловредности. Просто чувство: а с какой стати брать человека с улицы, за которым – никого и ничего?
Но Ростов к тому же непредубежденный город. Три (только три!) заметные газетные публикации – и вот ты сотрудник областного радио и телевидения. Конечно, тут и время было интересное, «способствующее»: хрущевская оттепель («форточка»), страна, можно сказать, впервые, пусть и осторожненько, вдохнула воздух свободы.
В конце ноября 1960 года, в проливной вечерний, а можно сказать ночной, дождь я приехал в этот город. В апреле 1962-го женился на любимой женщине. Летом того же года стал ответственным секретарем областной газеты, в которой моя только что обретенная жена «доросла» до завотделом. Обаятельный Ростов сквозь пальцы глядел на возможную опасность семейственности. А в первые же дни следующего года наша новенькая «ячейка общества» обрела свое первое жилье (это была и первая квартира, которую за всю свою историю получила редакция донской молодежной газеты). Тогда в нашей журналистской компании была заложена традиция «полового новоселья»: ввиду отсутствия у новоселов какой-либо мебели, пир устраивался на полу, на расстеленных газетах свежего номера, принесенных из типографии.
Конечно, уж такие-то достопримечательные детали мы могли в подробностях воспроизвести друг другу и через многие десятки лет. Однако Галя вспомнила любопытное обстоятельство другого свойства, относившееся к нашему великому переселению с Уральских гор на просторы Тихого Дона. Оказывается, когда она только появилась в городе, бдительный редактор ростовского «Комсомольца» Владимир Дмитриевич позвонил в редакцию челябинской молодежки: просто так, в порядке любознательности. И тамошний редактор Иван Сергеевич сказал ему: ни в коем случае не брать на работу Галину, она бузотерка, неблагонадежная, от нее смута в коллективе. А еще Иван Сергеевич сказал то, о чем его никто не спрашивал: в Ростове может появиться некто Щербаков, его брать тоже не надо, и, кстати, у него с Галиной – предосудительные отношения.
Должен сказать: Иван Сергеевич – хороший человек, царство ему небесное. И Галю правильно охарактеризовал – но… при взгляде с другой стороны. Бузотерка: вечно заступается за какую-то справедливость; неблагонадежная: чуть что – «мы за все в ответе»… И насчет предосудительных отношений – святая правда. Разбивать семью – действительно грех.
Считаю образ действий Ивана Сергеевича абсолютно адекватным моему вероломству, с которым я написал заявление об уходе. Мне было сказано: относительно меня у редактора особые планы. И я внутри себя плакал, когда писал свое заявление. Не от потери неких туманных перспектив, мне и так в редакции было хорошо, а потому что жалко было разрушать какую-то надежду славного и расположенного ко мне человека.
Но у меня не было иного выхода!
Иван Сергеевич маленько просчитался в одном: он наверняка был уверен, что разговор тет-а-тет двух редакторов останется между ними и не будет известен ни Гале, ни мне. Но Ростов отнюдь не то место, где обретаются «суровые челябинские мужики», и любопытная информация об эффектной женщине, вдруг нарисовавшейся в ораве молодой пишущей братии, быстро распространилась не только по «Комсомольцу», но и по редакциям других городских и областных газет. Трудно сказать, помешала она или, наоборот, помогла нашему укоренению на казачьей земле, питавшей Михаила Шолохова, Виктора Мережко, других известных знатоков женской натуры и любовного морока. Но настроение Галине тогда, по ее словам, испортила изрядно.
На этот раз, в истории с телефонным звонком, уже Галя поражалась тому, что я вроде как и не ведал о ней. «Я же тебе писала, – говорила она. – И даже рассказывала, помнишь, в Свердловске?..» Тут-то я и понял причину этой забастовки моей памяти.
До поры до времени меня не очень волновало, что мои учебные дела потихоньку отставали от академических показателей моих однокашников: как-нибудь там догоню. И в июле 60-го мой курс выпустился без меня. Ну, и ладно. Но в конце лета дама моего сердца сказала:
– Не валяй дурака. Оканчивай университет. Недоучка мне не нужен.
Возможно, это было сказано полушутя. Как в известной советской песне военной поры: «Когда вернешься с орденом, тогда поговорим». Однако это был как раз тот момент, когда решилось, что Галина уезжает в Ростов-на-Дону. Тем самым предопределялось дальнейшее течение и моей жизни. И я не знал, суждено ли мне еще будет увидеться с любимым Уралом, и тем более – с любимым УрГУ. Получалось так: канитель с образованием завершать немедленно – или, может, никогда.
Действительность предоставляла очень жесткие рамки. Редакция могла дать отпуск с середины сентября, а в октябре кончался последний срок выдачи дипломов в 1960 году. Только под гипнозом любви можно было броситься в эту авантюру. Несколько экзаменов и зачетов, два спецсеминара, курсовая работа за пятый курс, теоретическая часть к практической дипломной работе «Фельетон», два госэкзамена.
Но… представьте себе, 1 ноября в кабинете ректора мне в числе десятка таких же «хвостистов» выдали новенький диплом и университетский знак. Конечно, этого бы не получилось, если бы на нашем факультете не были участливые преподаватели, многие сами журналисты, которых можно было упросить поработать вне расписания и даже вне вузовских стен.
Должен сказать, что из этих критических октябрьских суток надо было еще вычесть 12 часов, которые были посвящены… Гале. Она для завершения каких-то своих отъездных хлопот приехала на три дня в Челябинск, а в один из них мотнулась в Свердловск, и мы провели его вместе. Вот тогда-то она мне, видимо, и рассказывала про звонок из Ростова в Челябинск.
Но разве мне в тот день было до таких деталек?..
…Гораздо более меня впечатлила беседа с Галиной на совсем иную тему. Этот разговор случился в конце января 2010 года. Издательство «Эксмо» предложило тогда Гале выпустить большой, на 600 страниц, том рассказов. От автора требовалось сочинить лишь маленькое предисловие. И мы вдвоем вместе однажды за утренним чаем придумали и, можно сказать, проговорили его. Как в таких случаях выражаются, осталось только сесть и написать. Но у автора что-то засбоило. День шел за днем, а он все не брался за свою шариковую ручку. На мои напоминания Галя отмахивалась:
– Ой, да напишу я, напишу. О чем говорить, какие-то две странички.
Однако ее литагент Володя Секачев уже дважды звонил, спрашивал: ну, когда же, когда…
И в тот раз я как-то вскользь подумал вот о чем. В течение многих лет ее литературные успехи всегда вызывали у меня самые живые чувства, они как огоньки освещали дальнейший путь жизни. Мне казалось это естественным. Но вот что странно: у самой писательницы при профессиональных удачах градус радости был намного ниже моего, а то и вообще переваливал за минусовую черту.
– Никому, Санечка, это не нужно. Кто все это будет читать?
– Да ведь все твои книги расходятся.
– А вот это никто не проверял. Может, их куда-то увозят на макулатуру.
– Что, по-твоему, в издательствах дураки сидят?
– Нет, просто очень добрые люди, они боятся меня огорчить.
И такая чистосердечная грусть, ну просто мультяшный ослик Иа.
Десятки подобных диалогов случились у нас за долгие годы. Сейчас, когда мне больше не с кем спорить на эти темы, я вспоминаю их с улыбкой. А тогда нередко злился и… обижался.
Подобная реакция произошла у меня и в ответ на историю с предисловием к рассказам. И я тогда, помимо чего-то прочего, сказал писательнице то, что давно жило внутри меня, но никогда не оформлялось словами и даже мыслью. Тебе Бог дал сочинительский дар, говорил я, от которого ты получаешь и счастье, и страдание. А чтобы этот дар явился вовне, Бог в какой-то мере, пусть небольшой, применяет в качестве инструмента меня.
И чтобы уж совсем стало ясно, я добавил фразу, которая, скорее, была просто грубостью:
– Писатель Галина Щербакова – это в какой-то мере и мой проект.
Она посмотрела на меня. Это был взгляд из какой-то такой глубины, какую я не видел никогда.
– Санечка, разве я этого не знаю?
…То, что вы только что прочитали, я написал 15 августа 2012 года. А на следующий день получил на почте два больших пакета из Израиля, от Людмилы и Бориса Коварских. Людмила – это Люка, младшая сестра Гали. В пакетах были 14 писем, которые Галина отправила своим родственникам, когда те уехали из России на ПМЖ в 1994 году и которые Коварские сберегли во всех разнообразных обстоятельствах жизни на новой для них земле.
И у меня вдруг случилось четырнадцать неожиданных свиданий с ней за один день. И каких! В большинстве случаев на каждом из них узнавал что-то… новое о человеке, о котором, думал я, знал все.
Вот, к примеру, написал о том, как наблюдал много раз случаи, можно сказать, патологической неспособности автора радоваться собственным достижениям. А прочитал эти письма – и развел руками…
«Ваш отъезд, – писала она сестре, – встряска, которую я, конечно, еще не пережила и переживу ли… Хожу и разговариваю с тобой, ищу тебя, в общем тоскую. …На меня возник клёв в журналах и издательствах, который я рассматриваю как моральную компенсацию за ваш отъезд. Как говорится, нет худа без добра. Повестушку про тетю Таню – помните? – взял «Новый мир». А некое изд-во, обожравшись Стаутом и Чейзом, взяло у меня все, что было, что есть и что будет. Это ничего не значит. Журнал может полюбить другого, а изд-во может лопнуть, но в момент, когда я, Люка, ищу тебя по квартире, такой интерес мой организм поддержал. Хотя я и так бабахнулась в криз, а, не будь ласки по авторскому подлежащему, могла бы бабахнуться глыбже».
«…я веду сейчас абсолютно ненормальную для возраста и необычайно сладкую для души жизнь: графоманничаю с утра до вечера. Мне – как бы ни было тяжело, а у меня просто болит рука рабочая – это состояние нравится, я впадаю в абсолютно радостное одиночество и не тягощусь им. Началось все с того, что в литературе оказалась нужна – тьфу! тьфу! тьфу! – а главное, начиная с повести о тете Тане, я как-то легко перешла в какое-то другое состояние – я знаю, я умею, я не боюсь.
Надо сказать, что подвигу (в смысле продвижению) я обязана и собственным детям. Я, Люка, сделала печальное, но и радостное открытие сразу. Радостное потому, что лучше знать, чем не знать. Мама моим детям нужна победительная, чтоб можно было стоять на крыльце Дома кино и гордо кричать: «Моя мама сценарист».
Я писала Сашке своему всякие письма, длинные, короткие, истерические, жалобные и очень его раздражала (так мне кажется). Потом стала писать коротенькие писульки и обидела мальчика. Когда же я написала, что у меня все хорошо, что я на плаву, что у меня болит пальчик, но это не считово, выяснилось: это самое то! Мама – молодец. Вот так все и сошлось одно к одному: состояние души, маленькая пруха и желание детей видеть маму, у которой все о`кей. Нате вам, паразиты, сказала я. Такая и буду.
…На дачу в этом году не еду – буду работать. Только бы не подвела физика и химия организма. Так как писать мне надлежит про любовь, я сочиню такую, что всем и не снилось. Я теперь знаю, как…».
Оказывается, и такой была моя Галя! Но раскрывалась такой она не мне, а родной крови – сестре.
Бог ты мой! Как я мог забыть, что одним из самых первых вожделений юной Галины Руденко было желание стать артисткой! Она признавалась, что ей нравилось быть учительницей, потому что школьный класс ей казался подобием театрального зала, перед которым она являла… школьные литературные образы. Да и в обычной жизни она всегда преображалась, рассказывая – изображая! – какие-нибудь даже самые заурядные случаи повседневности. Короче, как нам разъясняли похожую ситуацию братья Меладзе в популярной песне, «она была актрисою, и даже за кулисами играла роль, а зрителем был я». Играла роль человека, привычно и спокойно воспринимающего свои столь естественные (!) успехи.
И чему удивляться? Разве я сам перед нею в каких-то случаях не изображал «крутого мэна»? И разве мне это не помогало выходить с меньшими потерями в иных трудных ситуациях? Другое дело – во мне нет ни капли артистических данных, и Галя в моих стараниях в чем-то превзойти самого себя наверняка видела мою бесталанную игру. Но никогда, никогда это не показала. Настоящая женщина.
Ну, а я? Всю жизнь помня, что живу со стихийной актеркой, и питая расположение к этому ее свойству, именно вот в этом пунктике жизни – моей причастности к ее писательскому существованию – позабыл о столь явной ее черте. И теперь знаю, почему. Этот пунктик был для меня слишком жгучим в жизни. На нем испарялось мое чувство юмора.
Да, вот оно, еще одно подтверждение старинной акиомы: мы знаем только то, что ничего не знаем. И не о чем-то там хитромудром, а о людях, с которыми живем. Именно об этом и писала сестре Галина еще в одном своем донесении о нашем московском житье-бытье. Ее простодушному признанию придает ценность то, что оно принадлежит уже признанному мастеру своего дела, пользуясь выражением Юрия Олеши, «инженеру человеческих душ».
Тут нужно пояснить. В Москве жили близкие родственники Галины, тетя, сестра ее мамы, с мужем. Ируся и дядя Коля, крупный стройбанковский финансист (начальник Управления финансирования строительства предприятий химической, нефтяной, газовой промышленности) и ответственный прокурорский чин. Но главное было в другом. Ируся и дядя Коля были страстными поборниками коммунистической идеи, а мы приехали в столицу уже внутренне завзятыми антисоветчиками. А тут еще август 68-го… У всех нас хватило ума соблюдать внешнюю родственную благопристойность. Но… Наши «старшие» девять лет, пока Галина безуспешно осаждала редакции издательств и журналов своими повестями и романами, совершенно искренне считали ее тунеядкой. «Кто тебе сказал, что ты писатель? – терпеливо поучала племянницу Ируся. – Ты сначала заработай хорошую пенсию, а тогда уж и пиши что твоей душе угодно».
Однако все наши идейные, да и вообще любые противоречия смехотворны перед лицом времени. Пришла пора ухода старших. У Ируси она была тяжелой, с переломом шейки бедра. Дядя Коля прожил без нее два года. Мы, понятно, их обихаживали, как могли, и проводили с миром и… любовью. Спросите: откуда она взялась? От знания. Вернее: от познания. От познания определенного, единичного человека. Смею предположить (и тут, думаю, многие со мной не согласятся, но это так), таким познанием даже близких людей мы, как правило, не обладаем.
Вот оно, письмо Галины.
«Последнее время стал сдавать дядя Коля. И то, что он позволяет приносить себе молоко, хлеб, доказательство тому. Ему помощь извне дается необычайно трудно. Я же ловлю себя на странных чувствах – посещения его даются мне легче, чем покойного Ф. Он контактен, чистоплотен, абсолютно в здравом уме, много читает из моих рук, а главное, политически не агрессивен. То есть просто старый старик, которому помогать не противно, а даже приятно. Господи! Каким же персонифицированным злом он был для меня когда-то. Я же помню это очень хорошо. А вот сейчас, Люка, ни одна струна не вздрагивает во мне старым гневом. Я его просто жалею. А вот Ф. раздражал невероятно своей злобой, ненавистью.
Мы не знаем ни себя, ни других. Я в этом убедилась еще на одном трагическом примере. Помнишь такого, Л.Б.? Две недели тому назад он повесился в своей лондонской квартире. Абсолютно благополучный, удивительно уравновешенный, имеющий с моей точки зрения все, он, оказывается, был глубоко несчастен. А уезжая, звонил, беспокоился о Щербакове, который искал тогда работу, а надо было – как я теперь понимаю – говорить о нем самом. Вспоминая этот звонок, а он звонил и Катьке (наша дочь. – А.Щ.), задним числом соображаю: он прощался.
Ну и что такое это наше знание о людях? Да ничего! Понять бы себя, но и тут сплошная топь…
Будете смеяться, но я тут, по случаю, стала читать «Коран». И он мне понравился! Никакой агрессии, никакой ненависти, мягкая такая мудрость. Никаких призывов к газавату.
Да! Еще одна подробность к тезису о непознаваемости человека. Наш любимый Рязанов, не сносив башмаков, стал вводить в свет новую будущую жену. Да я разве против? Конечно, надо жениться, ведь не старик еще, мужик! Но неужели, неужели нельзя было удержаться от гласности? Даже не от совместного проживания, черт с вами, а от введения в круг новой партнерши, не дождавшись даже полугода? Пожилые дамы в шоке, а я все о том же – ничего не знаем, не дано знать о другом.
А я о себе еще добавлю: я к этому незнанию всегда еще прибавляю собственную фантазию о человеке, а потом разбиваюсь мордой об то, что было под моей фантазией.
Ну, ничего, дорогие, ничего! Главное же процесс… Процесс постижения собственной дури и исторжения ее».
Ну, да. Вот только знать бы, что есть дурь, а что не дурь. Наша привязчивая, возможно, врожденная суеверность («в литературе оказалась нужна – тьфу! тьфу! тьфу!») – уж точно не разумность. Ну, а вот исходящая от пишущего субъекта вечная тревожность, смутность, неуверенность ни в чем («Это ничего не значит. Журнал может полюбить другого, а изд-во может лопнуть», «А вот это никто не проверял. Может, их куда-то увозят на макулатуру»), в которых мы существовали со дня ухода Галины с государственной службы? Избавление от этой круглогодичной нервической дрожи пришло лишь на тот малый описанный мной промежуток предзакатного душевного покоя, который воспринимался как нечто райское. А теперь я думаю, да нет, скорее уверен в этом, то наше умиротворение было знаком завершения: исполнено предназначение, судьба Галины состоялась. И она была угадана – в том числе мною – верно, в соответствии с провидением, со знаками высшей силы, расставленными на нашем скоротечном пути.
Но если такое завершение равно покою, то что тогда это – вечно мучившие нас тревоги и смятения, казавшиеся помехами жизни и капризами несовершенных божьих тварей? Не есть ли они порождение тех же импульсов, которые называются творческими, то есть единственными, способными создавать? И тогда – те тревоги и смятения не напрасны?..