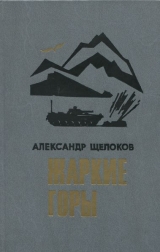
Текст книги "Жаркие горы"
Автор книги: Александр Щелоков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Бурлак замолчал. Как он ни бодрился, воспоминания заставили его разволноваться. Полудолин понял состояние комбата и решил сменить тему. Спросил:
– Как ты в армию попал? Мечта с детства?
Бурлак улыбнулся. Он понял, почему Полудолин уводит разговор в сторону, и был даже благодарен ему за это.
– Нет, – сказал он. – О военной службе в то время я не думал. Хотел стать геологом. Но все переменилось быстро. После того собрания со мной разговор завязал наш завхоз Сергей Максимович Петренко. Старик тихий, спокойный. Стулья, скамейки, сад вокруг дома – все на его попечении находилось. А потом я узнал, что в войну он батареей командовал. В кавалерийской дивизии. Орден Александра Невского имел. Таких орденов я что-то немного за свою жизнь видел. Сергей Максимович слушал мое выступление и поддерживал его на все сто. Все годы – от шестого до десятого класса – он во мне развивал интерес к офицерской службе. И преуспел. Наставил, наладил. Он же составил протекцию в военное училище. Представляешь, там его сын начальником был.
– Может, кончим вечер воспоминаний? – спросил Полудолин, взглянув на часы. – Уже отбой был. Пора отдыхать. А у меня к тебе еще один вопрос…
Беспокойство, возникшее еще днем, не оставляло Полудолина. Причина, как ему казалось, была очень серьезной.
После обеда майор зашел в роту капитана Ванина. В канцелярии командир вел «душеспасительную» беседу с солдатом. Тот стоял, на две головы возвышаясь над командиром, смотрел на все сверху вниз, но вид у него был грустный.
– О чем разговор? – спросил Полудолин.
– Извечная тема, – уныло пояснил Ванин. – Все о «неуловимых мстителях». Рядовой Остальский у нас в них прочно застрял.
– Что это значит?
– Так у нас говорят. Есть три категории бойцов. Первая – солдаты. Если скажут: «Иванов – солдат», значит, с таким в огонь и в воду. Он не подведет. Вторая – студенты. Эти поначалу сильны больше в теории. Объяснят запросто разницу между первой и второй мировыми войнами. Растолкуют устройство атомной или нейтронной бомбы. Но вот вырыть окоп полного профиля – для них дело мудреное. Однако в первую категорию переходят довольно быстро. Третьи – «неуловимые мстители». Это лапша домашнего приготовления. Жертвы, извините, дамского воспитания. Кавалеры без значка «ГТО».
– У меня есть значок, – сказал Остальский упрямо. Должно быть, не раз он утверждал это и теперь не хотел отступать.
– Не нужен мне ваш значок, Остальский, – сказал Ванин раздраженно. – Поглядите на себя. Поглядите… Ни силы у вас, ни выносливости.
Солдат хлюпнул носом.
– Бедная Лиза, да и только, – вздохнул капитан. – Вы ведь, ребята, кино смотрите. Неуловимыми мстителями восхищаетесь с раннего детства. Ах, какие они хваты! Ах, какие ловкие! А такое любование – дурман. Вроде наркомании. Видите, что бегает по экрану сопляк и взрослых вокруг пальца обводит. Ну, герой! И каждый думает, что он тоже на такое способен. А на деле? Вон, Остальский, ваш шанс стать героем. Глядите! Там. – Капитан показал рукой за окно. – Вон, за горушкой, душманы. Ми пойдем им навстречу. Жаль одного: мы еще туда не дошли, чтобы на головы духам скатиться с горы, а вы уже сникли от усталости. Разве не так?
– Не резко вы его? – спросил Полудолин спокойно. Его несколько настораживала острота, с какой Ванин бросал солдату упреки. Испытание для самолюбивого человека могло стать крайне неприятным.
– Может быть, и резко, товарищ майор, – согласился капитан. – Могу и мягонько, с извинениями. Жаль, правда, от этого мало что изменится. Даже если замолчу, истина сохранится одна. Это там, дома, слова «в гробу я тебя видел» чаще всего ничего не значат. Сотрясение воздуха, и все. А здесь у них смысл конкретный. Я действительно, и даже не раз, кое-кого в гробах видел. Хотя этого совсем не хотел. Даже наоборот. И всякий раз переживал. Дома такой «мститель» ноги таскал бы и жил минимум до семидесяти. А здесь такой фокус не проходит. В горах выживает мужик настоящий. Не сопля, извините, а гвоздь. И нужна ему крепость для самого себя. Чтобы умел в один бросок уложить всю быстроту и силу. А какая быстрота у нашего друга Остальского? Какая сила? Где они?
Ванин кивнул на солдата, стоявшего с опущенной головой, унылого, бледного.
– Юра наш ни бегать, ни груз носить. Так, ни с чем пирог. Хошь – ешь, хошь – брось. И за все это большое спасибо добрым педагогам, которые снабдили его значком «ГТО». Больше того, убедили человека, что все можно получить без труда – и значок, и удостоверение к нему. Как мы умеем печь показатели! Это фантастика! Родине нужны значкисты? Получай, Родина! Дадим каждому по значку – и немощному, и хилому. Нам для Отечества ничего не жалко. – Ванин махнул рукой обреченно. – Вы, Остальский, маме заранее письмо напишите. Я его к ящику приложу. Вот, мол, так и так. Прошу в моей кончине винить меня самого. Прошел по горам два десятка верст и умер от усталости. Что сморщились? Не нравится? А я ведь правду говорю. Голую, понимаете ли, правду. Без фигового листка, без плавок на бедрах. Здесь война.
Полудолин ушел из роты в некотором смятении. Он понимал, что капитан Ванин прав. Но как-то не вязалось со всем опытом прошлой жизни, что солдату можно вот так, прямо в глаза, сказать, что ждет человека незакаленного завтра. Ждет неизбежно, неотвратимо.
Болевая точка затаилась в душе, не давала покоя. И он решил во что бы то ни стало поговорить с Бурлаком об Остальском. Выбрав подходящий момент, сказал:
– А у меня к тебе еще один вопрос…
– Может, отложим до завтра? – предложил Бурлак, тоже поглядывая на часы.
– Давай сегодня обговорим. Спокойней спать буду.
– Ну, давай.
В это время в дверь негромко постучали.
– Войдите, – разрешил Бурлак.
В штаб вошел капитан Морякип.
– Медицина готова, – доложил он с порога. – По всем статьям.
– Хорошо, спасибо, – сказал Бурлак и предложил: – Наливай чайку. Чтобы не пропадала заварка.
– Благодарю, я уже зарядился, – сказал Морякин.
– Тогда садись. Чувствуй себя как дома, – произнес комбат и повернулся к Полудолину: – У тебя вопрос был.
– Беседовал сегодня с Ваниным. И теперь мысль как заноза в мозгу. Есть у него солдат Остальский. Юрий, кажется. Ротный считает – не выдержит он выхода. Что с таким делать? Может, в тылу оставить? Или попробовать при удобном случае в Союз отправить?
Лицо Бурлака окаменело. Глаза сузились, стали злыми.
– Еще один гуманист. – И обратился к Морякину: – Как, доктор, считаешь? Не создать ли нам общество сохранения хилых? Я – «за». Только председателем может оказаться Хайруллохан. Он на такие случаи свой взгляд имеет.
Морякин мрачно вздохнул. Обернулся к Полудолину:
– Мы, Валентин Фирсыч, на эту тему уже не раз имели беседу с комбатом. Что поделаешь? Загоняет общество себя в тупик, а где управа? Будто нарочно – чем цивилизованнее все, тем глупее поведение отдельных лиц.
– Вы о ядерной войне? – спросил Полудолин.
– При чем здесь война! – в сердцах сказал Морякин. – До нее, извините, еще дожить надо. А мы творим и видим зло каждый день. Посмотрите вокруг…
– Смотрим, – заинтересованно сказал Полудолин.
– Раньше матери рожали по десять – двенадцать детей…
– Раньше – это когда? – спросил Полудолин с подначкой.
– Когда нас не было с такими вопросами. Представляете – двенадцать ребят. Из них пять – семь умирали. Оставшиеся получали бытовую иммунизацию. Такую, что инфекция гибла, попав на любого из них. А сейчас?
– А сейчас? – переспросил Полудолин и невинными глазами посмотрел на Морякина.
– Сейчас те, кто решил завести не собачку, а ребенка в доме, заводят один экземпляр. По науке это называется уникумом. Вы небось тоже из однодетной семьи?
– Нас трое, – сказал Полудолин. – Тут у вас, доктор, промах.
– Вот! Победа разума над природой. Ваше счастье! А у тех, кто имеет по одному ребенку, и забота одна – трястись над уникумом всю остатнюю жизнь. А жизнь недоделок не прощает. Это не строительная комиссия исполкома. Да и медицина в охиление человечества вносит свою лепту. Новые снадобья. Новые методы лечения. И живет одинокое дитя еле живое. Благо если само потом решит завести собачку, чтобы не плодить опенков. Сколько матерей пролили слезы, страдая за детей! Но разве не сами они виноваты?
– Доктор прав, – сказал Бурлак. – Ты задумайся, комиссар, что комбинация «мама, папа и один сын» – отрицательное социальное явление. Родят одного. Берегут чрезмерно. Растят дохляка. Делают все, чтобы он вдруг не стал здоровым. В школе унижаются. Доказывают учителям, что дитяти физкультурой заниматься нельзя. Берегут от лыж, от бега, от лопаты. Кашку в ротик с ложечки. Смотришь, здоровый мужик. Коломенская верста без фуражки. Сердце нормальное, легкие – всё при нем. А сам хиляк и хлюпик. Ни ста метров пробежать, ни подтянуться на перекладине.
– Значит, что-то надо для таких делать, – сказал Полудолин. – Служить таким в армии…
– А ты что, – перебил его Бурлак, – хочешь, чтобы мы здесь людей поделили на две категории? Граждане первого сорта – служите в армии. Граждане второго сорта – вам постелька. Так, что ли? Нет, такое не пройдет. Каждому положено нести равную ношу общественных обязанностей. И коли не готов, все равно неси.
– Не слишком ли жесток такой подход?
– Да, это жестоко. Но предельно справедливо. Если уж говорить всерьез, я бы освободил от предстоящего выхода Кулматова.
– Почему? – спросил Полудолин с недоумением. – Он, насколько знаю, хороший солдат.
– Вот именно, хороший. А раз так, значит, на него можно валить больше, чем на других? Знаешь, как такой принцип используется бездельниками? «Чем тише везешь, том меньше кладут» – вот их девиз. И мы иногда у таких на поводу идем. Стараемся догружать тех, кто и без того везет, хорошо. Получается, что трудиться в полную силу бывает просто нерентабельно…
Полудолин стоял молча. Только пошевеливались мускулы на щеках, будто он жевал, не раскрывая рта. Когда Бурлак кончил, он сказал:
– Слушай, комбат. Только не прими за подхалимаж. Нее, что ты говорил сегодня, – для меня целый курс академии. Курс, которого там не было.
Бурлак улыбнулся и многозначительно хмыкнул:
– Если это не азиатская хитрость, звучит приятно.
Полудолина намек на хитрость задел.
– Какой еще смысл можно вложить в мои слова? Какую хитрость тут подстроишь?
– В Азии все можно, товарищ майор, – сказал Морякин многозначительно. – Если, конечно, умеешь мысль формулировать. Например, так: маленький дурак рядом с большим – великий мудрец.
– Ну, вы, профессор, даете! – покачал головой Полудолин. – Надо же! Я и додуматься не смог бы!
– Что касается Кулматова, – произнес Бурлак задумчиво, – тут дело было бы справедливым. – Комбата, должно быть, все еще беспокоила какая-то мысль. – Мужик через неделю уходит в запас. А сам на рожон лезет в любом деле.
– Оставим его, – предложил Полудолин. – И весь разговор.
– Да?! – сказал Бурлак. – Плохо ты Кулматова знаешь. Не взять его в рейд – значит оскорбить смертельно. Тут-то и начнется настоящий разговор. Оставить его. Надо же!..
Тени базарного дня
Что такое восточный базар? Один европеец, побывавший в базарном кишлаке в базарный день, так излагал свои впечатления:
«О! Восточный базар! О! Симфония форм, красок, запахов, звуков! Горы арбузов. Завалы дынь. Пирамиды груш. Россыпи винограда. Ко всему, как песок на берегу реки, – кишмиш, хурма, мандарины, фейхоа. Зеленое, оранжевое, красное, желтое – все собралось рядом, все в одном месте. А над этим морем цвета – запахи перца, тмина, шафрана, гвоздики, лаванды. О! Восточный базар!»
Азиат, если он азиат по рождению (скромно скажу – вроде меня самого), лишь улыбнется подобному дилетантскому впечатлению.
В самом деле, если базар – это лишь горы фруктов и овощей, раздолье южных пряностей, что же тогда назвать бахчой?
Нет, уважаемые, нет и нет! Горы арбузов, сладко-струйные запахи, шум, гам, суета – это только внешнее, может быть, важное, но вовсе не самое главное на восточном базаре.
Если восточный базар – это только изобилие форм и цвета, что же тогда клуб новостей в этом мире под прекрасным серпом полумесяца?
Если базар всего лишь расширенное торжище, что же тогда цирк под открытым небом? Где найдешь другой такой прекрасный театр?
Если базар – гудящая толчея, в которой каждый ищет для себя свой товар, где же тогда на земле место радостных встреч, арена споров, клуб задушевных бесед?
Конечно, для человека, который приобретал торговые навыки в просторных залах универсамов, восточный базар – стихия просто непостижимая. Скованный гипнозом фиксированных цен, такой покупатель не понимает прелестей настоящего вольного торга. Да разве покупка сама по себе доставляет удовольствие понимающему человеку? Как бы не так! Очарование базара таится в самом процессе торговли.
Вот подходит европеец к продавцу гранатов. Красивые, плотные плоды, один к одному, лежат пирамидкой и буквально кричат о своих достоинствах: «Ах, как мы хороши! – и беззвучно взывают: – Купи!»
«Сколько?» – задает традиционный вопрос покупатель. А торговец – Плешивый Ахмад – так зовут его на базаре – большой шалун и шутник. Он мгновенно понял – перед ним дилетант, дитя каменных магазинов и железных универсамовских корзин. Ко всему продавец заметил, что внимание торгующих коллег уже сосредоточилось на нем. Каждый думает: «А как этот Плешивый Ахмад поведет себя с этим ференги?» Значит, есть шанс, потеряв выручку с одного граната, враз увеличить свою славу веселого остроумца.
И торговец заламывает невероятно дикую цену. Такую, что можно на нее не один гранат купить, а все остальные, лежащие рядом.
Европеец конечно же не дурак. Он понимает: цена заломлена несусветная. Но он сбит с толку серьезностью продавца, не знает, что же ответить, и отходит под веселый смех окружающих: «Ах, как этот шутник Плешивый Ахмад срезал надменного иностранца в больших умных очках! Ах, как он ему выдал!»
С человеком Востока на восточном базаре такая шутка никогда не пройдет. Допустим, Плешивый Ахмад все же рискнул и заломил невероятную цену. И тут же схлопотал бы такое, отчего весь ряд коллег-торговцев рухнул бы со смеху. «Э, уважаемый, – мог ответить покупатель, – вы, вероятно, хотите мне вместе с незрелым гранатом всучить за одну цену и вашу перезрелую тещу. Снизьте цену в сто раз, и я возьму гранат вместе с вашим ишаком».
После такого ответа появляться на базаре Плешивому Ахмаду не стоило бы вообще. Славу шутника за собой надолго сохраняет лишь тот, кто знает, где, когда и с кем можно шутить.
А как торгуются на восточном базаре! Как клянутся, доказывая, что цена на товар столь низка, что приносит продавцу одни убытки. И как ловко опровергает подобные доказательства другая сторона. И как потом обе стороны бьют по рукам, утверждая сделку!
Да только из-за одной такой минуты, когда торжествуют оба – и продавец и покупатель, стоит прийти на торжище, поспорить, поторговаться, шлепнуть ладонью о ладонь, чтобы услыхать знатный щелчок заключенного договора.
Базар – не просто площадка, отведенная кишлаком для торговли.
Базар – сам кишлак, чаще всего возникающий вокруг базара, в месте, где сталкиваются потоки караванных путей.
Взгляните на карту Азии, и вы увидите, что базары здесь – история, политэкономия, этнография, вместе взятые, помноженные одно на другое.
Вот кишлак Джумабазар.
Джума – значит народ. Джума-а – собираться. Джума – это и день недели – пятница. Время сбора для служения аллаху. Джумат – так называют мечеть.
В пятницу родился пророк Мухаммад.
В этот день мусульманам по преданию аллахом ниспослан Коран.
На пятницу назначено начало Страшного Суда.
Разве стольких событий не достаточно, чтобы объявить день праздничным?
А теперь представьте, каким бывает базар в Джума-базаре в день джумы!
Есть на картах и местечко с названием Базарджай. Джай – по-тюркски «место». По-пуштунски слово звучит мягче – дзай.
Базарджай – базарное место, торжище. Разве можно придумать более точный, более говорящий адрес для караванов, бредущих через пустыни в поисках выгодных и удобных рынков?
Возникая, новые базары сразу стараются громко о себе заявить.
Вот кишлак Янгибазар. Янги означает «новый». А слово «базар» старое, старей не бывает. Кому не захочется побывать на новом базаре! И дело сделано. В кишлаке Янгибазар уже кипит веселый торг.
Переводчик-востоковед капитан Черкашин шел по кишлачному базару. Он знал Восток с детства, понимал тонкости и традиции торга, умел отбрить язвительного на язык шутника-продавца, мог и по рукам ударить, выбрав себе что-нибудь подходящее. Короче, знал, умел, мог, но бывать на базарах в последнее время ему приходилось нечасто. А в тот день просто повезло.
На базар он попал в особый для кишлака Мегри базарный день благодаря случайности. В десять утра Черкашина вызвал начальник штаба. Спросил, будто сам не знал совершенно точно, о чем спрашивал:
– Когда едешь в крепость?
– В двенадцать тридцать.
– Отлично! До двенадцати тебя ангажируют. Приехал майор Мансур из ХАД. Просит отрядить тебя ему в помощь. Иди, он ждет у капитана Маслова.
ХАД – служба афганской государственной безопасности. Раз просят о помощи, значит, неспроста.
Майор Мансур, круглолицый крепыш лет тридцати, вечно усталый и всегда бодрый, неизменно озабоченный и постоянно веселый, встал навстречу Черкашину.
– Здравствуй, рафик Черкаш!
Майор неплохо говорил по-русски и пользовался любой возможностью, чтобы расширить языковую практику. Черкашин, в свою очередь, говорил с Мансуром только на пушту.
– Дело есть, дорогой товарищ, – продолжал майор Мансур. – Надо, чтобы ты пошел с нами на базар. Сегодня торговый день. Есть сведения, что появилась группа террористов. Разведчики. Так их просто на базаре не выявишь. Им нужен советский офицер. Тогда они сами на него выйдут.
– Кого вы конкретно ищете?
– Кривого Маруфа. Есть такой тип. Я правильно эта сказал – тип?
– Правильно. Но я такого не знаю. Каков он?
– Не знаешь – не скажу. Тебе лучше и не знать. Увидишь – забеспокоишься. Он сразу поймет. Потом, как я думаю, сам Маруф на базаре не будет. Его люди придут. Через них самого Маруфа найдем.
– Все понял, – сказал Черкашин, несколько обидевшись. – Только учти, у меня времени мало, рафик Мансур.
– Час есть? Этого хватит. Они тебя быстро найдут.
– И, как у нас говорят, «перышко в бок»?
– Нет, товарищ, не так. Им нужен живой человек. Они его увести хотят. Потому, увидят тебя, круги делать будут. Потом…
Мансур замялся, не найдя нужного слова, но на пушту все же не перешел. Он просто с шумом потянул воздух носом, показывая, что будут делать душманы.
– Обнюхают, – подсказал Черкашин.
– Точно, обнюхают. Этого будет достаточно. Мои люди все время рядом. Крепкие люди. У них глаза широко открыты. Ты не опасайся совершенно.
Слово «совершенно», должно быть, очень понравилось Мансуру, и он повторил:
– Ты совершенно не опасайся. Понимаешь?
Черкашин понял и пошел на базар.
Теперь, толкаясь в толпе, он боками ощущал, что здесь совершенно не безопасно. Его тискали, затирали, закручивали, Он внимательно вглядывался в лица, но так и не заметил ни опекунов, обещанных майором, ни подозрительных лиц, из числа тех, кто должен был его «обнюхивать».
Базар жил своей, ни с чем не сравнимой жизнью. Суетился простой люд. Всюду поспевали торговцы мелким товаром. Их кормила неуемная увертливость, умение раньше других оказаться рядом с тем, кто даже случайно забрел на торжище. Авось и подойдет кому-то их немудреное барахло. Одному зажигалка «Ронсон», бывшая в употреблении, но все еще блестящая и почти как новая. Другому – пачка лезвий «Жиллет». Третьему – батарейка к транзистору. Конечно, даты выпуска и срока годности на ней не указано, но ведь дешево продается, и, если аллаху будет угодно, батарейка эта может оказаться совсем неплохой.
Солиднее выглядели торговцы товарами, имевшие собственные лавки и мастерские. Они либо сидели у открытых дверей каморок, забитых всяческим барахлом, либо, прислонившись к косякам, стояли рядом, степенные, суровые, полные достоинства и понимания своей значимости в этом неугомонном мире.
Черкашин остановился возле мастера-медника, работавшего возле своей лавчонки. Тот сидел прямо на земле, подстелив под себя обрывок старой, потертой кошмы, и выбивал из листа металла веселую, звонкую чашку. Между ног мастера стояла толстая чурка с вырезанным углублением, которое напоминало полусферу. Полость была тщательно отполирована, и мастер – остад – вбивал в неё металлический лист. Бил он быстро и точно, резкими, внешне легкими движениями. Брал не силой, а мастерством. Молоток тюкал и тюкал, и Черкашин даже уловил нехитрый мотив, который, веселя себя, выстукивал медник: тюк, так, так, чи-чи, тюк-тюк-тюк. Под ритмичный бой молотка можно было свободно приплясывать или петь протяжную, заунывную песню. Подумалось, что, должно быть, узбеки назвали кузнеца именно из-за ритма, выбиваемого им в работе, тактакачи – слово как стук.
Пробившись сквозь водоворот толпы, Черкашин выбрался на место, где не было большой давки. Длинным рядом здесь сидели торговцы случайным товаром. Нужна одна пуговица – здесь ее наверняка найдешь. Гвоздь, винт, шайбу, порошок для крашения одежды – все можно сыскать в этом ряду, если поглядеть повнимательней.
Замурзанные мальчишки возились у арыка. Мимо проскрипела арба с ленивыми колесами. Ее тащила облезлая кобыла с длинным, никогда не подрезавшимся хвостом.
Солнце ярилось, и даже в тени деревьев не скрыться от жары.
У дувала стоял верблюд. Огромными, отрешенными от забот мира сего глазами глядел он на окружающих и лениво шевелил челюстями, что-то пережевывая.
Нищий, обтерханный, тощий, с красными слезящимися глазами, протянул к Черкашину сухую дрожащую руку. Капитан, стараясь не встречаться с просящим взглядом, положил на ладонь монету. Рука цепко сжала подачку. Нищий склонился в поклоне и пробормотал еле слышно:
– За вами, ференги, ходит нехороший человек. Очень нехороший.
Он тут же распрямился и гордо отошел. Монетка исчезла в обрывках одежды.
Черкашин огляделся, но не заметил ничего подозрительного. Почему же нищий заметил то, чего не способен распознать он сам? Стало зябко от предчувствия невидимой опасности.
Неподалеку Черкашин заметил торговца необычным товаром. Расстелив на земле изрядно вытертый, некогда цветной коврик (об этом свидетельствовали блеклые зеленые и красные пятна нитей), сидел седой старик в очках. Он выложил перед собой целую кучу старых монет – медных, в цветах от красного до черно-зеленого и просто черного; серебряных – тусклых и светящихся благородным блеском; медно-никелевых – серых, прошедших через множество рук и кошельков, и совершенно новых, сияющих своей нетронутостью.
С деланным безразличием – надо же было как-то растянуть время – Черкашин присел на корточки и начал перебирать монетки.
Продавец сидел не шевелясь, со спокойствием монумента. Он ничем не пытался помочь любопытному, будто не был заинтересован в покупателях.
Капитан взял в руку американский медный одноцентовик с профилем президента Линкольна. Новенький, с датой текущего года, битый Денверским монетным двором, о чем свидетельствовала маленькая буква «д», помещенная на блестящем поле. Откуда и какими путями, из каких душманских рук попала эта заокеанская блестка в кучу монет на кишлачном базаре? А вот большие, как пуговица от пальто, сто перуанских солей. Потускневшая в долгих странствиях, монета могла стать темой целой диссертации. Как пройден ею огромный путь от Анд до Гиндукуша? Ну, если не диссертация, то по крайней мере тема для приключенческой повести.
И вдруг Черкашин заметил тяжелый толстый кружок, покрытый густой патиной. С трепетом, хорошо знакомым первооткрывателям – археологам, геологам, коллекционерам, – он взял этот небольшой серебряный диск пальцами. Благородный металл, тронутый временем, удивительно красиво подчеркивал рисунок монеты. Весь круг занимала голова прямоносого мужчины в шлеме воина. Полутона прекрасно оттеняли малейшие детали рисунка.
Сдерживая удивление, Черкашин перевернул монету. Реверс оказался более потертым. Но все равно ясно просматривалась фигура бога или властителя, сидящего на высоком троне. В одной руке он держал жезл, на другой сидел сокол.
Черкашин понял – это эллинская тетрадрахма. Возраст, как минимум, две тысячи триста лет. Две триста! Ошибка почти исключалась. Во-первых, голова на аверсе – это Александр Македонский. Во-вторых, в этих краях нет такого потока коллекционеров, ради которых стоило бы изготовлять подделки.
Черкашин держал в руке монету, ощущая острое желание с кем-то поделиться радостью находки. И тут же, будто угадав его желание, из-за спины кто-то подал голос:
– Прекрасная вещь, уважаемый рафик шурави. Не боюсь ошибиться – это Искандер. Великий полководец и царь.
Черкашин обернулся. Перед ним стоял невысокий пожилой мужчина в поношенном сером костюме и суконной шапочке. Он смотрел на монету острым взглядом, хотя явно интересовался самим Черкашиным. Капитан лопатками ощутил опасность. И все же набрался выдержки, кивнул головой, вежливо ответил на приветствие. Вызывать подозрение незнакомца неожиданной насторожённостью он просто не имел права.
– Уважаемый Мутташокир знает толк в старых монетах, – сказал незнакомец, словно бы рекомендуя торговца. – Если вы знаток старины, обратите свой благородный интерес на эти дирхемы.
Мужчина нагнулся, взял с коврика плоский тонкий диск.
– Вы узнаете, что это?
С трудом преодолевая неприязнь, сдерживая растущее напряжение, Черкашин ответил:
– Нет, сожалею, но таких монет не знаю. Что это?
Он пытался держаться как можно естественнее. И все же невольно отодвинулся в сторону, так, чтобы не подставлять старику спину. Тот его маневр словно бы и не заметил. Приподняв монетку двумя пальцами, он оглядел ее и прочитал надписи:
– Это, уважаемый господин, дирхем династии Караханидов. 423 год хиджры. Вот надпись: «Тобгач Бугракарахан Али». – Мужчина покрутил монетку. – А вот еще имя: «Али ибн ал-Хасан. Фи вилаяти хан ал-Аджел Кутб ал-Дауда».
Черкашин слушал вполуха, а сам искоса поглядывал на майора Мансура, которого заметил шагах в трех от себя, возле торговца медными тазами. Их взгляды встретились. Всего секунду они смотрели один на другого, и тут же Мансур с безразличием отвел глаза. Черкашин понял: ему пока ничто не угрожает. Тогда он стал слушать слова, к нему обращенные, более спокойно. А мужчина говорил таким тоном, словно рекомендовал ему собственный товар.
– Красивая вещь, уважаемый. Живая история Средней Азии. Караханиды – это Бухара, Кушани, Фергана. Тюрки из племени ягма. И в то же время арабские надписи: «Ибн ал-Хасан». Обратите внимание на это движение культур. А вы знаете, что рушило в те времена великие ханства?
Черкашин, прежде чем ответить, еще раз осмотрелся. Никого подозрительного рядом не было. Ответил спокойно:
– На мой взгляд, империи и ханства всегда рушили междоусобицы.
Старик пристально взглянул на капитана поверх очков.
– Вы молоды, – сказал он с некоторой долей удивления, – но суждения ваши поистине мудры. Междоусобицы – это бич народов. Они лишают сильные нации силы, разума, живой крови. Лев, пожирающий самого себя с хвоста, – вот символ такой войны.
И тут же, будто испугавшись чего-то, старик оставил тему. Передавая Черкашину монетку, он сказал:
– Кстати, уважаемый, в мире многое бывает связано между собой теснее, чем видит непосвященный глаз. Вас не интересовало, откуда произошло название монет мусульманских стран – дирхемы?
– Нет, – сказал Черкашин. Он хотя и втягивался в разговор, но ни на секунду не терял осторожности. – Я не задумывался над этим. Впрочем, если и задумаюсь, все равно не скажу: мало знаю монеты Востока. Больше занимался русскими монетами и антикой.
– О, антика здесь как раз и нужна. Слово «дирхем», уважаемый, произошло от названия эллинской драхмы. Обратите внимание – даже звучания схожи.
– Действительно, – признал Черкашин. – Сейчас я это чувствую, но раньше не задумывался над этой связью. Непросто бывает проследить судьбу слов.
– А вы обратите внимание и на такой факт. Пути новых слов часто совпадают с путями войны или торговли. Металлические драхмы шли на Восток с фалангами Искандера Зулькарнайна – Александра Македонского. Но драхма как слово не была завоевательницей. Она поселилась в наших краях и сменила свое имя, чтобы стать местной.
Черкашин мельком взглянул на часы. Стрелки показывали – пора спешить. Немного поторговавшись, он купил тетрадрахму и дирхем Караханадов.
– Вы приобрели хорошие вещи, – сказал ему старик. – Мне было приятно поговорить с вами. И ваш пушту, уважаемый шурави, безупречен.
Они вежливо распрощались. Черкашин двинулся к выходу. На этот раз он постарался миновать толпу и пошел мимо фруктового ряда, где народу толклось поменьше. Неожиданно к нему подошел майор Мансур. Взял Черкашина за локоть, стиснул его.
– Спасибо, рафик Черкаш.
На этот раз майор Мансур говорил на пушту. Видимо, не хотел, чтобы на базаре слышали, что он знает русский.
– Успешной была охота? – спросил Черкашин.
– Очень. Спасибо тебе. Ребята взяли два следа. Ты был хорошей приманкой, рафик Черкаш.
– Скажи честно, это тот, который разговаривал со мной о монетах?
Майор Мансур засмеялся. В его смехе звучали радостные, беззаботные нотки.
– Нет, Черкаш. То был поханд [10]10
Поханд – профессор (дари).
[Закрыть]Абдулхан. Большой ученый. Уважаемый человек. Историк.
Черкашин почувствовал легкое разочарование. Знать бы, кто с ним беседовал, задал бы несколько давно интересующих его вопросов.
– Если хочешь, – предложил Мансур, – я тебя с ним познакомлю поближе.
– Спасибо, – поблагодарил Черкашин искренне и спросил: – Кто же все-таки были те двое?
– Рафик Черкаш, – они отошли далеко от базара, и теперь майор Мансур перешел на русский, – не берите на себя чужие заботы. Вы были совершенно безопасны. Для меня это главное. А кто те двое, я скажу потом, когда мы сами узнаем.
Черкашин понял, что продолжать этот разговор неудобно.
– Я пошел, – сказал он, протягивая майору руку.
– Вас довезут, рафик Черкаш. Вон за арыком стоит человек. Он ждет вас.
Они обменялись рукопожатием. Черкашин перепрыгнул через арык и подошел к приземистому круглоголовому крепышу, который стоял, прислонившись к двуколке.
– Здравствуйте, мир вам, – сказал возница, увидев Черкашина. – Садитесь, уважаемый, дорога нам известна. Я отвезу.
Унылый конь стоял, склонив голову и безвольно опустив уши. Жара донимала даже животное. Только хвост, живший, казалось бы, самостоятельно от недвижного тела, неутомимо мотался из стороны в сторону. Надоедливые мухи тем не менее не обращали внимания на беспокойное помело и копошились на крупе коняги густыми гроздьями.








