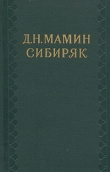Текст книги "Наброски и очерки Ахал-Текинской экспедиции 1880-1881"
Автор книги: Александр Майер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
– Вы ночью не ошибетесь дорогой в ущелье? – спросил барон Александра Ивановича.
– Скорее ошибусь найти свой карман, чем это ущелье, да и труда нет особенного – оно третье отсюда, идя под холмами.
– Далеко ли приблизительно? – полюбопытствовал барон.
– Днем – час ходьбы без предосторожностей, ночью – более полутора, так как ущелье очень узкое, каменистое, в некоторых местах заросшее ежевикой и шиповником; если нет часовых у входа, то мы можем пробраться в ущелье, но там придется ползти довольно долго, в иных местах по воде; выходит оно на красивую и плодородную поляну, а на пригорке, против входа в ущелье, разрушенная крепостца; текинцы, вероятно, расположились около крепостцы. Будь вместо моих охотников кавказские милиционеры или пластуны – я мог бы подобраться так близко, чтобы без выстрела броситься в штыки или пташки, но ведь наши солдаты, безукоризненные относительно мужества и других качеств, здесь не выдерживают сравнения даже с казаками; каждый из них наделает больше шуму, чем 20 текинцев, подползающих к нашему лагерю в Бами!.. Вот еще что, господа, я теперь же дам вам краткую диспозицию: подойдя к ущелью, если вход не занят, я с десятью отборными, ловкими людьми поползу вперед; если вы, моряк, хотите, можете идти со мной; вы, барон, командуете остальными людьми и следуете за мной, ползком же, шагах во ста. Чем ближе мне удастся подойти, тем лучше, но во всяком случае ваши люди не должны стрелять ранее моего залпа, после которого я брошусь в штыки; добежав до нас, они могут открыть огонь, иначе в такой кромешной темноте перестреляем друг друга... Если у входа часовые или секрет, то мы, расправившись с ними, пойдем прямо в ущелье, оставив у входа пять или четыре человека... Главное – не горячитесь, а в особенности это касается до вас, сухопутная рыба, – обратился Александр Иванович к моряку. – Ну, а теперь пора и подыматься!
Отдав фельдфебелю приказание к подъему без шума, Александр Иванович прочел выстроившимся охотникам наставление о том, как они должны вести себя. Отряд тронулся.
Неприятная вещь, читатель, идти ночью по незнакомой местности в неприятельской стране, где из-за каждого камня, оврага или прямо с земли может подняться враг, враг страшный своею ловкостью, знанием местности и, главное, неожиданностью своего появления.
Нервы в таком напряженном состоянии, что малейший шум, шум собственных шагов или камня, покатившегося из-под ног, заставляет вздрагивать человека, днем совершенно покойно идущего в огонь, в рукопашный бой и на тысячу других опасностей!
Главную роль, по моему мнению, играет сознание, что враг, при своей изощренности чувств, видит, чует меня, я же не знаю о его близости! Случалось не раз, что испытанные солдаты ночью открывали огонь, огонь неудержимый по воображаемому неприятелю; сильное напряжение нервов ведет к галлюцинациям; довольно одному принять какой-нибудь камень за неприятеля и выстрелить, чтобы открылась беспорядочная пальба неизвестно по ком, куда...
Голос офицера не слышится в этой трескотне, и иногда много выпускается патронов солдатиками, для которых в такие моменты стрельба составляет нравственную поддержку против воображаемого врага.
Отряд подвигался очень медленно, точно в царстве теней мелькали безмолвные, черные силуэты; нигде не вспыхивал веселенький огонек закуренной папиросы, изредка слышался шум оступившегося человека, звяканье дрогнувшего оружия, нечто вроде сердитого ворчанья – и снова все смолкало, и медленно, осторожно двигалась эта темная кучка вперед... Моряк, шедший рядом с Александром Ивановичем, вдруг почувствовал, что последний крепко сжал его левую руку, дергая вниз. Оба остановились и стали вслушиваться. Мертвое молчание царило в степи, и вместе с тем можно было различить много звуков в этой тишине; люди, часто бывавшие по ночам или днем в лесу или в степи, поймут меня, о чем я говорю. Воздух наполнен звуками, объяснить появление которых трудно; эта абсолютная тишина степи вместе с необъяснимым, странным происхождением вечного, непрерывного голоса природы, является чем-то особенно поэтическим, особенно сильно действующим на душу!..
Командир охотников и моряк не были новичками в распознавании этих постоянных звуков от случайных, являющихся иногда нарушителями торжественного молчания безлюдных степей, гор и лесов... Едва слышно, как легкое дыхание или шелест ветра, донесся до их слуха шум... Солдаты, видя остановку обоих офицеров, тоже стали и старались даже остановить дыхание, чтобы не мешать слушать. Сознание обстоятельства, что этот шум может только исходить от врага, делало их бдительность из ряда вон выходящей... Снова послышался этот же звук, и Сл-кий шепнул моряку: "Ржание лошадей!" Последний не обладал таким тонким слухом и с видом сомнения покачал головой. Александр Иванович прилег на землю, гардемарин последовал его примеру, и между ними завязался чуть слышный разговор:
– Откуда могут быть лошади? Значит, мы наскочили на другую шайку?
– Вероятно... Интересно знать, донеслось ли ржанье из ущелья или же из степи? То есть в движении ли отряд неприятеля или на бивуаке? Если в движении – то нам удобнее дожидаться его здесь, прилегши; если же ржанье из неприятельского бивуака, то надо двигаться! – С этими словами Александр Иванович приложил ухо к земле и стал слушать...
Прошло около минуты, показавшейся моряку очень долгим промежутком времени...
– Ничего не слыхать, – прошептал, подымаясь, командир охотников. Пойдем дальше, вход в ущелье близко, там увидим.
Снова бесшумно начали двигаться эти люди, так настойчиво преследовавшие свою цель. Жутко было на душе! Каждому казалось, что неприятель, быть может, с теми же предосторожностями движется на них; до боли в глазах всматривались люди вперед, судорожно сжимая свои винтовки!
Наконец впереди послышалось журчание ручейка – верный признак близости ущелья, составлявшего исходный пункт этого тяжелого ночного странствия! Шагах в ста вправо чуть виднелось темное пятно входа в ущелье, более резко выделявшееся, чем мрачная линия гор, параллельно которой двигался отряд.
Казак Фома с другим товарищем по оружию и с саперным солдатом, следуя шепотом отданному Александром Ивановичем приказанию, двинулись ползком вперед по берегу ручья к темному пятну, скрывавшему, быть может, последний час их жизни...
Вечностью тянулось время для их лежавших товарищей, ожидавших с минуты на минуту, что мрак озарится молнией выстрелов и безмолвная степь наполнится криками и шумом борьбы...
Послышался шорох, и косматая папаха вернувшегося невредимым Фомы коснулась уха Александра Ивановича.
– У входа никого нет, ваше б-дие, а дальше, в ущелье, должно, текинцы, потому как будто огонь просвечивает и шум слыхать...
– Ты далеко заползал в ущелье?
– Шагов с пятьдесят; трудно очень ползти, каменья и шиповник мешают! Огонь только ясно видать, да далече, ваше б-дие!
Охотники двинулись, значительно успокоенные, вперед. Главная опасность миновала – вход не был занят.
Вот наконец и вход в ущелье, узкий, наполовину заросший; журчит вода, громадные каменные стены исчезают в вышине из глаз, мириады мигающих звезд льют свой слабый свет в это, подавляющее человека своею дикостью место; на каждом шагу камни, острые, угловатые, шиповник, рвущий платье и тело, холодная вода, по которой в иных местах приходится ползти, – вот обстановка, в которой находился отряд, двигавшийся вперед, после того как четыре охотника остались у входа. Точно искра мелькает впереди огонек, даже, кажется, и не один... Чу! Теперь совершенно ясно послышалось ржание лошади, на которое отозвалось еще несколько и... гортанный, хриплый несомненно человеческий – окрик! Совершенно невольно кто-то из ползших вздрогнул, и проклятое ружье звонко ударилось о камень... Сердце замерло, как будто все окоченели...
Услышали, наверное, услышали!.. Вот сейчас бросятся в ущелье... Нет, все тихо по-прежнему... И снова ползут охотники, сдерживая дыхание, боясь, что стук собственного сердца выдаст их, а оно, как назло, стучит громко, громко... Не от страха, нет, а из боязни спугнуть эту человеческую дичь! Если в числе моих читателей найдется завзятый ружейный охотник, он без сомнения поймет это ощущение, испытанное им много раз, хотя бы на охоте за дикими козами, когда много часов в горах приходится гоняться и подползать, еле дыша, против ветра к этим чутким животным. Ощущение совершенно одинаковое: опасность на заднем плане, страсть охотника преобладает над всем остальным!
Вот наконец ущелье расширяется, оно делает поворот и... глазам охотников представляется поляна, на которой среди десятка костров сидит неприятель; до него еще далеко: шагов триста, пожалуй, будет, стрелять нечего и думать; подползти всему отряду тоже немыслимо, услышат.
Двадцать пять человек оставлены под командой барона, а Александр Иванович с моряком и одиннадцатью нижними чинами продолжает двигаться с тысячью предосторожностей... Проползши какие-нибудь пятнадцать шагов, останавливаются и лежат не шелохнувшись... Счастье, что огонь освещает только небольшое пространство, а охотники по опыту знают, что текинцам неосвещенное пространство должно казаться от близости огня еще темнее. Немалое спасибо и лошадям, которые довольно часто отвлекают внимание неприятеля в другую сторону своим ржанием...
Близко, совсем близко подползли... Ясно видны лица девяти человек, сидящих около довольно плохо горящего костра; косматые бараньи шапки и халаты освещаются вспышками пламени; вот один встал, видна кривая пташка, болтающаяся на боку... Неужели в эту сторону?.. Один из охотников кладет уже руку на замок берданки, собираясь взвести трубку... Нет, текинец остановился и, нагнувшись, шарит что-то на земле, где виднеется не то седло, не то переметная сума... Вернулся назад, что-то говорит товарищам... У других костров слышны разговоры, курят трубки, пекут чебуреки (лепешки)... Охотники подвинулись еще немного... Меньше ста шагов было до неприятеля, а прицелиться все-таки трудно, проклятой мушки не видать!.. Командир опять пополз вперед; один из охотников зацепился патронной сумкой за камень и зашумел... Два текинца у ближайшего костра повернули головы и смотрят... Один приподнялся даже и прислушивается... И смотрит бестия прямо так-таки в глаза, думается зашумевшему солдату, лежащему как пласт. Нет, успокоились, слава тебе Господи!.. Да что же это командир не целится? Ведь он сказал что шепнет, когда стрелять, ведь этак до того дотерпишься, что и прицелиться нельзя будет – руки ходуном будут ходить от волнения...
Ну, наконец-то командир бесшумно приподнял локоть левой руки с винтовкой, нажимая спуск, взвел курок на второй взвод, чтобы не щелкнул, и скорее вздохнул, чем сказал – целься! Вот и моряк приподнял свою "магазинку" и наводит в живот старика текинца, потому на близком расстоянии здорово вверх бьет ружье!..
Сердце окончательно хочет выскочить... Но вот Александр Иванович крикнул: "Пли!" Звон в ушах, толчок в плечо, затем крик "ура-а!", и с штыками наперевес ринулись охотники к первому костру... Вся поляна как будто охнула и застонала... Из ущелья слышались голоса бегущих на подмогу охотников барона; крики: "Урусс, урусс! Алла, Магомет!" – смешивались с нашим "ура!" и криками: "Коли!" Но текинцы не любители штыка, все это продолжалось несколько мгновений; когда барон прибежал с людьми и мог открыть огонь, то залп им был сделан во мрак, на звуки топота и криков удиравшего неприятеля; из мрака сверкнуло несколько ответных выстрелов: штук пять пуль где-то далеко зажужжало в вышине; одна щелкнула близко в землю, взвизгнула и улетела в пространство...
У костра лежало четыре тела; один лежал ничком и вздрагивал плечами: правая нога равномерно то вытягивалась, то подбиралась, руки запустил в землю и храпел тяжело, бессознательно... Фельдфебель вынул из кобуры револьвер, приложил ему к затылку и выстрелил. Нога перестала двигаться, плечо конвульсивно вздрогнуло, одна рука вытянулась... искра жизни потухла!
Старик текинец упал в костер головой, и неприятный запах жженых волос и мяса распространялся вокруг, ворот халата тлел... Солдатики оттащили тело за ноги в сторону... Шагах в пятнадцати от потухавшего костра виднелась темная масса – текинец, зарубленный Фомой, ударившим его шашкой наотмашь слева направо по горлу... Фома теперь вытирал свою шашку о полу халата убитого им текинца... Впечатление всей картины было дикое, заставлявшее трепетать непривычного человека, но охотники относились очень равнодушно к этому зрелищу; многие уже жевали недопеченные чуреки, вытащенные ими из золы и, быть может, обрызганные не одной каплей крови только что убитых... Охотники рассеялись по поляне и шарили около костров; текинцы оставили много разного добра: несколько переметных сум, с дюжину седел, три ружья, в числе которых оказалась наша берданка с переделанной на туркменский манер ложей и с двумя подсошками для стрельбы лежа на земле; все было собрано в одну кучу; Александр Иванович все переписал, седла отдал для поддержания огня в потухавших кострах, затем лично расставил посты, отдал приказания фельдфебелю и, исполнив все свои обязанности, приняв все меры предосторожности, чтобы маленький отрядец не подвергся в свою очередь участи текинцев, с видимым удовольствием опустился на бурку, на которой лежали уже барон и моряк в облаках табачного дыма, вознаграждая себя за долгий пост в отношении курения.
– Сравнительно удачно подползли, – заговорил моряк.
– Мне кажется, что убитых больше, чем четверо, – сказал Александр Иванович, – ведь наш первый залп был из двенадцати винтовок по девяти текинцам, кучкой сидевшим, да и с близкого расстояния; не может быть, чтобы мы угостили только четверых; были, наверное, и раненые, может быть, даже опасно, но эти дьяволы до невозможности выносливы и живучи; успели добраться до лошадей и были таковы! Авось потом восчувствуют!
– Я другого мнения, – возразил моряк, – те четверо, что остались на месте, были лучше освещены огнем костра, поэтому все выстрелы и были в них направлены; конечно, на этом расстоянии бердановская пуля пробьет и двух навылет, но ведь это будет случайность – убить двух одним выстрелом! Если текинцев до завтра не зароют, то стоит посчитать раны на убитых.
– Весьма возможно; только не стоит возиться с этой падалью! Я их приказал оттащить шагов за полтораста и бросить; завтра рано уходим и зарывать не стоит; шакалы и орлы займутся и без нас похоронами и дезинфекцией!
– Может быть, товарищи убитых вернутся похоронить их, – заметил барон.
– Пусть возвращаются, лишь бы не сегодня, то есть не ночью – людям отдых нужен. Однако, господа, не мешало бы закусить малую толику!
– Я уже распорядился, – ответил барон, – у нас есть кусок свинины, коробка сардинок, еще кое-что найдется. Чуреков много осталось после текинцев, я велел три штуки хорошенько допечь, и десерт нашелся в одной переметной суме – сушеный инжир и абрикосы.
– Черт возьми! Вот так пиршество, – вскричал гардемарин. – Еще бы бутылочку вдовушки Клико распить по поводу победы нашей, и тогда не осталось бы желать ничего лучшего.
– Ну, этого-то нет, а бутылочка кахетинского красного вина найдется, я его нарочно приберег для этого торжественного случая...
Через двадцать минут около бурки, где закусывали три офицера, пылали с треском два изрубленных текинских седла и веселый говор далеко разносился вокруг. Солдатики лежали у костров, жевали чуреки, запивая их чаем, и посторонний зритель никогда бы не подумал, что час тому назад здесь разыгралась кровавая сцена – так мирна, добродушна была картина... Чудная, теплая ночь; мириады звезд южного неба кротко лили свет на эту поляну, где живые подкрепляли свои силы, готовясь к тяжелому завтрашнему походу, а мертвые отдыхали вечным сном, избавившись навсегда от трудов походной жизни...
Кончили закусывать, разговор становился менее оживленным, веки опускались на утомленные глаза – усталость начинала сказываться.
– Ну можно теперь Богу помолиться, да и спать, – проговорил Александр Иванович, подымаясь с бурки и потягиваясь. – Горнист! На молитву!
Охотники выстроились, и звук горна, быть может, впервые огласил эту поляну...
– На молитву! Шапки до-лой!
Далеко в ночном воздухе разносилось пение сорока голосов...
Торжественно лились звуки молитвы в мертвой тиши долины и отзывались эхом в горах... Набожно крестились солдаты, не зная, переживут ли эту ночь, увидят ли когда-нибудь свою родину или нет...
Нигде нельзя быть так расположенным к молитве, как в пустыне...
В величественных храмах, под громадными сводами, перед богато убранными иконостасами, в разнокалиберной толпе ваше внимание отвлекается, и религиозное чувство до известной степени парализуется; в пустыне же, под небесным сводом, горящим миллионами звезд, в мертвой тишине необозримой степи или в виду гигантских гор, после боя или перед боем – человек сознает себя таким маленьким, ничтожным, жизнь его так ненадежна, что душа его, его ум – все преклоняется перед грандиозностью природы, и он молится, молится горячо...
Окончилась молитва. Послышалась команда:
– На-кройсь!
Александр Иванович подошел к фронту своих "головорезов".
– Спасибо вам, молодцы, за сегодняшнее дело!
– Рады стараться! – понеслось по поляне, отдаваясь эхом в горах.
– Я передам генералу, как молодецки вы себя вели, и буду просить о наградах.
– Покорно благодарим! – загремело в ночной тишине.
– Ну а теперь разойтись и ложиться спать!
Костры потухли, изредка слабо вспыхивая; поляна погружалась во мрак, силуэты двух равномерно движущихся часовых то сближались, то расходились; слышалось похрапыванье, в некоторых местах тихий разговор еще не уснувших, вспыхивал огонек папиросы или трубочки; в наступившей тишине журчанье ручья явственно доносилось до ушей еще бодрствовавших людей, число которых все уменьшалось, и вскоре ручей напевал свою непрерывную, мелодическую песенку для одних часовых, продолжавших свою прогулку взад и вперед...
Едва только вершины гор были освещены нежно-розовым светом восходящего солнца, а поляна еще расстилалась в сумраке, в ожидании момента, когда дневное светило выглянет из-за хребта Копет-Дага и зальет ее ярким светом, как охотники поднялись и стали собираться в дорогу, на поиски новых приключений... С песнями оставили они место вчерашнего боя, потянулись по ущелью, вышли в степь, с которой подымался легкий туман, разгоняемый лучами солнца, и повернули по дороге к Арчману... Славно было идти "белым рубахам" на утреннем свежем воздухе... Трубочки дымились во рту у солдат, слышались остроты и шутки, и едва ли кто помнил, что за собой они оставили на поляне четыре уничтоженные жизни, для которых уже не светило это яркое солнце, не зеленели кипарисы на вершинах гор и открытые, стеклянные глаза которых не видели этого чудного голубого неба!.. Впрочем, недолго смотрели эти мертвые глаза... Вокруг по скалам расселись громадные орлы-стервятники; в нерешимости сидели они, опасаясь приблизиться к этим, в странных позах, лежавшим людям. Но вот один, посмелее, слетел и опустился на песок шагах в сорока, и хочется ему узнать, в чем дело, – и страшно! Подошел поближе, грузно переваливаясь на своих коротких, сильных, с громадными когтями, ногах... Нет, не шевелятся... Подождал и, взмахнув крыльями, налетел и клюнул в это потемневшее запрокинутое лицо с зияющей раной на горде... Через минуту орлы рвали свою добычу...
Наступит ночь – шакалы докончат работу этих пернатых разбойников, останутся, быть может, на поверхности кости, которые через несколько времени занесутся песком, и ничто не будет напоминать о том, что на этой поляне отданы четыре жизни в борьбе за свою землю и свободу... Сколько бы подобных историй могли рассказать вершины гор Копет-Дага, от которых не укрывается благодаря их высоте никто и ничто, но они молчаливо прячут свои вершины в голубом небе, стараясь не видеть "урусса – белую рубашку", шаг за шагом проникающего в эти долины и ущелья, составлявшие еще недавно неотъемлемую собственность храбрых сынов степей и гор – текинцев! Пройдет десяток лет, и в местах, где прежде только паслись стада джейранов, пройдут безопасные дороги и Копет-Даг потеряет свою дикую прелесть... Бог с ней, с этой цивилизацией, особенно когда она распространяется при помощи картечи и штыка и выражается созданием становых, урядников и кабаков!..
6. Ночь в Эгян-Батыр-Кала
Босфор, обливаемый голубым светом луны, отражает в себе белые минареты и залитые огнями фасады дворцов великой столицы Востока. По зеркальной поверхности бесшумно скользят каики, оставляя за собой фосфорически блестящий и переливающийся след; чудным рубиновым светом горят огни Леандровой башни; гиганты пароходы выделяются черной массой, и их высокие мачты, дрожа в зеркале воды, тянутся как фантастически длинные руки к этому городу – предмету корыстных желаний многих наций, который чудной панорамой раскинулся на необъятную длину по проливу... Террасами подымаются изящные, легкие постройки в разных стилях и сверкают огнями; рядом с ними минареты, тонкие как иглы, белыми линиями резко выделяются на фоне южного неба... Мраморное море омывает белые стены Сераля в Стамбуле, переливаясь серебром под лучами луны, заглядывающей в этот дворец – жилище многих сотен красавиц, так поэтично воспетых лордом Байроном в его "Дон-Жуане".
Но вот... слышится голос вахтенного унтер-офицера.
– Ваше б-дие! Полночь!..
Замечтавшийся вахтенный начальник, хотя бы, к примеру, ваш покорный слуга, встрепенулся, все иллюзии пропали, и он отдает распоряжения, соответственные наступившему моменту. Через минуту, сдав вахту, он спускается вниз, в кают-компанию, куда из трех кают доносится самый прозаический храп товарищей. Внизу душно, в каюте едва можно вытянуться, не спится ему, а тут еще луна засматривает в иллюминатор и широкой голубой полосой освещает шкаф... Мысли одна за другой наполняют голову, самые разнообразные воспоминания стесняют одно другое. Ни с того ни с сего в памяти вырастает, как живой, обезьяноподобный учитель латинского языка, а вслед за ним вспоминается вчерашняя неудача с оттяжкой, брошенной вместо палубы за борт, при спуске брам-реи... А луна все еще заглядывает в иллюминатор... Мысли невольно обращаются снова к этой чудной ночи, и, виденная незадолго перед этим картина с точностью фотографии воспроизводится в воображении... По логической связи мыслей является воспоминание о других подходящих картинах природы; как наяву вырастают перед глазами темные своды леса, через густые ветви которого тут и там серебристой змейкой пробивается луч луны, фантастически манящий наружность куста, наполовину им освещенного, из которого льются соловьиные трели, сливающиеся с мелодичным шумом вечно торопящегося в море Немана. Воображение работает как калейдоскоп: лес пропал – уже его место заступили гигантские Альпы, вершины которых горят и искрятся тысячами переливов снежной поверхности, ярко залитой светом полной луны... Под ногами серебряной струйкой извивается Эч; замок Габсбургов, разрушенный беспощадным временем, но горделивый даже в развалинах, как белое привидение выступает на краю бездонного обрыва...
Исчезли и Альпы... Вот развертывается перед глазами степь безграничное ровное место; справа – линия высоких, мрачных гор, из-за которых показывается как бы зарево... Оно все расширяется, растет, вот уже виднеется блестящий серп – еще минута и царица ночи выплывает из-за Копет-Дага, озаряя своим матовым, голубым светом всю степь, сверкая на солончаках и белых глиняных башенках, освещая кучку людей в белых рубахах, с винтовками на плечах, молчаливо и сосредоточенно куда-то пробирающихся... Вспомнилась эта картина – и померкли перед ней все остальные... Снова встает в памяти вся походная жизнь с ее лишениями, опасностями и увлекающей прелестью, и картина за картиной рисуются в голове... Я уже не в душной каюте, нет, я на просторе... Снова веду задушевные беседы с боевыми товарищами, я снова в горах подстерегаю текинцев, снова слышится свист пуль в пороховом дыму и музыка и стоны раненых, льется кровь... И страшно и хорошо! Сердце усиленно бьется, и мечты прошлого принимают размеры галлюцинаций... Но вот резкий звон колокола разрушает все очарование – бьет пять склянок – два с половиной часа пополуночи. Опять я в каком-то ящике; луна уже светит, в каюте темно... и пора спать, читатель! Впрочем, ранее чем предаться отдыху, не мешает вам объяснить, для чего я так издалека начал этот рассказ. Какая нужда была мне описывать картину Босфора и сообщать нить воспоминаний, доведшую меня снова в Ахал-Теке? Сделано это мною для того, чтобы выяснить, насколько можно, тот психологический процесс, который совершается внутри человека и заставляет его при созерцании какой-нибудь картины вызывать в памяти многие другие, пока воображение не остановится на чем-нибудь особенно интересующем этого субъекта, и тогда является уже последовательное, законченное воспоминание... Я, о чем бы ни думал, чтобы ни видел, но все-таки почти всегда закончу приведением себе на память той эпохи моей жизни, которая является для меня исполненной высшего интереса и увлечения – похода, очерками которого я, вероятно, уже успел изрядно вам надоесть и намерен надоедать еще и теперь; итак, вооружитесь терпением и мужеством и последуйте за мной в те благодатные места российского государства, куда Макар телят не гонял, но где происходили события довольно интересные...
В укреплении Бами царствует какая-то особенная суматоха, проявляющаяся главным образом в бегании взад и вперед офицеров, таинственно шушукающихся между собой, в волнении размахивающих руками, с нетерпением сдвигающих белые шапки на затылок, чтобы удобнее утереть рукой обожженное, вспотевшее лицо и снова торопливо устремиться куда глаза глядят, до встречи с новым товарищем, когда снова начнется оживленный разговор, дополняемый жестами...
Около глиняной стенки, огораживающей маленький садик, где стоит кибитка "Белого генерала" – Михаила Дмитриевича Скобелева, сформировалось несколько групп офицеров, разговор ведется вполголоса.
– Так вы говорите, что генерал при вас сказал "деду", что завтра пойдем? – спрашивает казачий сотник в белой папахе артиллерийского капитана с красивым худощавым лицом, оттеняемым длинными черными усами.
– Да, да... только я не разобрал куда, – отвечает капитан, вглядываясь через пролом в стене внутрь дворика, где между ординарцами и вестовыми произошло какое-то движение.
– Кажется, генерал выходит, – послышался говор между офицерами, и многие стали машинально оправляться.
Тревога оказалась фальшивою: вышел не генерал, а один из его офицеров – казачий офицер. Он моментально был окружен со всех сторон офицерством и засыпан вопросами:
– Голубчик К-лов, кто идет завтра? Мы идем? Кто остается? На сколько дней брать провианта? Пойдет генерал до самого Геок-Тепе?..
Несчастный хорунжий походил на зайца, нагнанного сворой собак: один держал его для привлечения к себе внимания за шашку, другой за кинжал; товарищ его, казачий сотник, с легкостью и нежностью медведя старался повернуть его лицом к себе, держа за левое плечо, в то время как ротный командир Самурского полка добродушно ломал его правое плечо, добиваясь узнать, пойдет ли вперед его рота. Казалось, что бедному молодому человеку суждено погибнуть не от вражеского оружия, а от излишнего припадка любопытства своих же товарищей, но он употребил военную хитрость.
– Тише, господа, генерал идет! – испуганным тоном проговорил он... Это подействовало, и его отпустили, чем он немедленно воспользовался, чтобы ускользнуть и исчезнуть между палатками и кибитками.
– Господа, пойдемте выпить водки, все равно ничего не узнаем теперь, чего же торчать на жаре! – предложил артиллерийский капитан.
Все согласились, и скоро перед двориком не осталось никого; солнце поднялось уже высоко и жгло невыносимо, так что все попряталось по палаткам, откуда и доносились оживленные споры о предполагавшемся движении и о будущих делах с неприятелем.
Надо пожить, читатель, не один месяц в палатке на походе, чтобы уметь понять то волнение, которое ощущается при известии о давно желанном движении навстречу неприятелю! При одной мысли, что можешь не попасть в экспедиционный отряд, человек начинает бесноваться и считать себя самым несчастным созданием. Является скверное чувство зависти, желчь бушует; оставляемый хорошо сознает, что ведь это необходимая мера, что сколько ни волнуйся, а этому не поможешь, что товарищи, идущие вперед, перед ним ни в чем не виноваты, но он зол на них и немало нужно времени, чтобы успокоиться бедняге.
А в данном случае рекогносцировка имела особенный интерес: быть в первый раз в деле под командой великого "Белого генерала", так прославившего себя в турецкую войну! Поэтому читатель может себе представить волнение, царствовавшее в лагере и те оживленные, страстные разговоры, которые велись в палатках между задыхающимися от жары офицерами, сидевшими почти в костюмах Адама и закусывавшими чем Бог послал...
Начальники частей, шедших на рекогносцировку, бегали насколько хватало сил и с азартом разносили своих подчиненных, считая это лучшим средством для прибавления им энергии; множество верблюдов было собрано за лагерем в ожидании появления офицеров из каждой части для забрания известного числа "кораблей пустыни" под вьюки; верблюдовожатые приводили в порядок седла или же с самым апатичным видом лежали на раскаленном песку...
В походных кузницах кипела работа; вереницей тянулись лошади, оглашавшие воздух ржанием, слышались удары молота, подковавшего ноги этих четвероногих, не всегда спокойно переносивших эту надоедливую для них операцию, слышался топот, окрики солдат...
В артиллерийском парке шла выдача патронов и снарядов; парковый офицер метался как угорелый, спеша удовлетворить требования своих многочисленных посетителей; у интендантских складов была давка, слышались возгласы, обращенные к интендантскому поручику, с которого пот лился уже в три ручья и который бегал от одних весов к другим с записною книжкою в руках, не обращая внимания на эти отчаянные возгласы!
– Поручик! Ради Бога, велите мне выдать поскорее восемь мешков сухарей! Мне еще надо патроны принимать, некогда! – взывает прапорщик-сапер.
– Послушайте, что же это такое! Мне вместо муки дают ячменя! кипятится самурец, красный от жары и от волнения, как вареный рак.
– Ваше б-дие! Батарейный командир просили выдать поскорее сена! лезет с запискою усач фейерверкер...