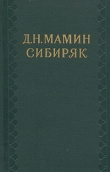Текст книги "Наброски и очерки Ахал-Текинской экспедиции 1880-1881"
Автор книги: Александр Майер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
7. Осада и штурм Геок-Тепе
Однажды в Петербурге попал я на вечер "с генералами" – не с щедринскими действительными статскими советниками, нет, с настоящими генералами – с лампасами и со всеми прочими принадлежностями... Со скромностью, пропорциональной моему маленькому чину, уселся я в угол и весь обратился в слух... Были тут генералы боевые и мирные, были генералы большие и маленькие (насколько генерал может быть вообще маленьким), были почти что Суворовы и были только что оперяющиеся полководцы; были генералы едва-едва цедящие слова сквозь зубы и были говорящие плавно, мерно, торжественно целые тирады в два или три столбца мелкой газетной печати, с блаженством прислушивающиеся к журчанию собственной речи, так и просящейся в хрестоматию образцов русской словесности... О, зачем я не стенограф!..
В воздухе скрещивались гармоничные – "ваше превосходительство!", повторяемые на разные тоны, порой слышалось и "excellence!". Словом, все до того было проникнуто "превосходительным духом", что я, совсем маленький человек, вдруг вообразил, что обладаю уже необходимой частью туалета – с лампасами...
Когда в разговоре вся Европа была покорена присутствовавшими полководцами, причем на долю каждого досталось по крайней мере по одному сражению, а иным и по нескольку (в зависимости от чина) – виноват, впрочем, один старый, почтенный полководец не одержал ни одной победы, так как все время мирно всхрапывал в укромном уголке, тогда дело дошло и до Азии! Не успел я мигнуть, как "их превосходительства" уже делили Китай; через минуту один молодой "генерального штаба" генерал (в Германии такие юнцы не всегда и ротой командуют) занес уже ногу, чтобы перешагнуть Гималаи и собирался провозгласить себя покорителем Ост-Индии, как вдруг кому-то пришла неудачная мысль вспомнить о Михаиле Дмитриевиче Скобелеве и о только что окончившейся Ахалтекинской экспедиции! Мой Создатель, как все встрепенулись! Через пять минут я, прошедший весь оазис, бывший во всех делах, знающий мельчайшие обстоятельства приготовления к экспедиции и ее исполнения, получил такие сведения из уст собравшегося генералитета, что окончательно обомлел; я не мог себе уяснить, нахожусь ли я в обществе русских, которые, как мне кажется, должны радоваться всякому успеху родного оружия, или же я попал в общество ненавидящих нас немцев или венгерцев, злорадно отрицающих все, чем может гордиться Россия. Я с необычным удивлением узнал, что текинцы самый покойный и мирный народ, что отряд пребывал все время не в пустыне, а в настоящем Эдеме, что вода там лучше нашей невской, что если бы мы захотели, то взяли бы Геок-Тепе без выстрела, что потери наши людьми, а равно отбитие у нас знамени и двух орудий было устроено с намерением, чтобы показать небывалую силу неприятеля, что... впрочем, зачем передавать читателю все измышления, которые может породить мелкая злоба и зависть. Перлом всей беседы был вопрос, предложенный одним из присутствующих, будущих Суворовых и Наполеонов:
– Э... что текинцы... Э... вооружены огнестрельным оружием?
К чести остальной почтенной ассамблеи должен заявить, что ответ последовал утвердительный, хотя немедленно же было дано ложное сведение, что большинство ружей – фитильные. Пишущий эти строки имел груды текинского оружия, но ни одного фитильного мултука.
Чем окончилась беседа, не знаю; во избежание разлития желчи я незаметно исчез... Последние, донесшиеся до меня слова были: "Фи! Какие-то халатники... Вдруг салют, выход во дворце!.. Чересчур!.."
Злость меня душила... Душила до того, что если бы я, повинуясь первому впечатлению, вернулся назад и захотел бы высказать этой публике истину о ее суждениях, то не мог бы вымолвить ни слова... Да оно и лучше, что не вернулся!
Читатель, наверное, подумает обо мне: какой неблаговоспитанный молодой человек! Осмеливается так критиковать старших, заслуженных уже людей!
Сознаю свою вину, но заслуживаю снисхождения... Когда эти строки выливаются из-под моего пера, перед моими глазами портрет покойного героя "Белого генерала"...
Не отнесись я так строго к его врагам и завистникам, людям, не годившимся быть в его войсках даже субалтерн-офицерами, – мне бы постоянно чудилось, что эти холодные, обыкновенно бесстрастные глаза моего боготворимого генерала смотрят на меня с немым упреком, обвиняя меня в измене его памяти...
Итак, в тот памятный вечер компетентные судьи наши порешили, что вся наша экспедиция не стоила и гроша медного, что чествование в Петербурге взятия Геок-Тепе было вовсе неуместно, что об этой экспедиции кричали больше, чем следует, и т. д. Пусть будет, по мнению наших доморощенных Наполеонов, это и верно, я же, со своей стороны, нарисую читателю исторически верную картину двадцатитрехдневной осады и штурма "глиняной крепости безоружных халатников"! Авось читатель найдет, что это действительно прибавляет новый лепесток к лавровому венку покойного героя, да и сподвижникам его служит к чести, а не к позору.
Насколько может обнять взор на север, запад и восток – желтая, песчаная равнина... На юг – длинная линия гор, вершины которых посеребрены снегом...
На этой равнине, верстах в пяти от подошвы гор, временами показывается между облаками дыма какой-то длинный неправильный четырехугольник из белых глиняных стен... Близко от него, едва приметны для глаз, тянутся по поверхности земли линии насыпей, по которым непрерывно перебегают дымки... Во многих местах подымаются большие клубы молочного цвета дыма, слышатся глухие раскаты, заставляющие содрогаться землю... Это и есть Геок-Тепе...
Издали нет ничего страшного, думается наблюдателю, воображение которого настроено рассказами в ближайшем от Геок-Тепе пункте Эгян-Батыр-Кала, лежащем в двенадцати верстах. Посмотрим поближе.
Вот, как раз идет транспорт под прикрытием роты и полусотни казаков, присоединимся к нему и отправимся в лагерь, а оттуда – в траншеи...
Грязно... Утром шел снег, а теперь градусов 25 жары и от снега нет и следов, только глинистая почва размокла и на ногах бедных пехотных солдат по пуду глины... Ничего, скоро дойдем, если только на дороге не прихлопнут... Вы с недоверием смотрите? Да, могут и прихлопнуть и даже очень близко отсюда; видите этот мост через арык? Шагах в трехстах отсюда? Ну-с, так вот у самого этого моста нас поподчуют текинцы ядром, и хорошо направленным, за это ручаюсь, так как уже пять раз имел удовольствие слышать его гудение перед самым носом! Вы сдерживаете коня? Не бойтесь, авось и мимо...
Ох, близко проклятый мост!.. Пустили подлецы! Вижу дым орудийного выстрела на стене... Вот оно... Вж-жи... Шлеп... Близко... Что это? Забрызгало глиной физиономию? Ничего, утритесь рукавом, здесь дам нет.
Что – неприятное ощущение? Будет и хуже... Еще минут 15 ходу, и пульки начнут посвистывать... Они хуже, потому что их больше, да и визжат уж очень несимпатично, чересчур дискантом, так и кажется, что нервная барышня взвизгнула над ухом...
А смерть витает очень близко от нас, видите впереди двое солдатиков несут носилки – вероятно, или убитый, или тяжело раненный; легко раненные обыкновенно сами добираются до перевязочного пункта. Интересно их догнать и спросить: наши здесь уже владения, можно безопасно отделиться от колонны, не рискуя попасть в лапы текинцев?
– Кого, ребята, несете?
– Солдатика, ваше благородие, сейчас убило, так в лагерь его несем.
– Где убило, в траншее?
– Никак нет, вот тутотко – близко! Он из лизервных был, помогал, значит, ротному кашевару, и только он это, нагнувшись, подложить хотел полено, как ему вдарит пуля в эфто самое место, – рассказывающий указал себе на темя, – так он, значит, сейчас и помер.
– Ну, бери на себя больше, – обратился он к товарищу, и они оба снова пошли тяжелою походкою вперед, и убитый снова начал раскачиваться с носилками. В его фигуре не было ничего страшного: побледневшее лицо сохранило самое покойное выражение, полуоткрытые глаза не выражали ровно ничего – видно было, что человек кончил жизнь самым неожиданным образом и что этот сюрприз не произвел на него дурного впечатления – так был быстр переход от жизни к смерти... Завидная участь в сравнении с теми, которым приходится отправляться к праотцам с постели... Постно-торжественные физиономии окружающих, стереотипные утешения, что еще смерть далека, когда сам умирающий уже чувствует ее ледяное дыхание, пичкание разными произведениями латинской кухни, только увеличивающими агонию, обязательные фразы напутствия, что, дескать, "там" лучше, когда, может быть, сам субъект, "туда" отправляющийся, находит, что здесь, на земле, гораздо лучше... Все это очень неприятно и злит страшно. Нет, что может быть лучше смерти мгновенной, неожиданной! Я молю судьбу послать мне кончину в бою или за зеленым полем – когда объявлю большой шлем на бескозырях и буду брать последнюю взятку – тогда пусть кончится мое земное поприще! Блаженная кончина!
Вот и лагерь наконец. Масса кибиток, большинство врыто фута на четыре в землю и снаружи обложено мешками с землею, чтобы обезопасить их обитателей от пуль, щедро направленных сюда текинцами. Особенно много их сыплется около наметов (больших палаток) Красного Креста; дня не проходит, чтобы не убили или не ранили кого-нибудь из лазаретной прислуги или из числа же раненых и больных. Обидная вещь! Является легко раненный с простреленной рукой или ногой, вдруг через несколько времени влетает неожиданная гостья и... хлоп! В грудь или в бок! Понятно, приходится умирать...
Один бедняк фельдшер получил пулю в бедро в госпитале во время перевязки раненого; волей-неволей пришлось лечь вместе с пациентами; на другой день бердановская пуля пробила ему навылет легкое, фельдшер и тут крепится – не умирает, да и только; наконец, под вечер третьего дня, ему перебило шейные позвонки, тогда только этот здоровяк порешил, что этого для одного человека слишком уже много, и скончался...
Николай Николаевич Яблочков, инженер строительной части, был ранен утром 30 декабря в грудь, а 2 или 3 января получил в лазарете другую пулю в руку. Доктор Малиновский во время консилиума или какого-то заседания медицинского персонала в лагере был ранен в бок...
За лазаретом тянется довольно длинная линия кибиток армян-торгашей. Торговля идет оживленно. "Хоть накануне смерти поем да выпью чего-нибудь", – думают воины, забежавшие на минуточку из траншеи в "магазин" какого-нибудь Карапетки. Карапетка же думает: "Авось не убьют, так с капиталом вернусь в Тифлис или Нахичевань" – и дерет страшно, непозволительно дерет! Как покажется, читатель, заплатить за бутылку пива пять рублей серебром? Действительно, ведь это только, когда смерть на носу, можно смотреть на деньги как на лоскутки какой-то бумаги, не имеющей значения! А смерть тут как тут, в этой самой лавчонке, где теперь сидят трое офицеров и пьют какую-то бурду, именуемую кахетинским вином, но ни цветом, ни запахом, ни вкусом непохожую на это божественное произведение зеленых виноградников лучшей части Кавказа! А ведь каждый стакан этой смеси уксуса с ваксой стоит два рубля серебром самое меньшее. Довольно этим беднягам иллюзии, что они пьют вино и им подкрепляют свои силы, довольно и этого после пяти бессонных ночей, проведенных под пулями в траншеях, в липкой грязи, под дождем, среди томительного ожидания вылазки и резни!
Карапет сделал из своей кибитки нечто вроде каземата броненосца кажется, ни одна пуля не пробьет уложенных до самого верха мешками стен его лавочки. Много их шлепает в верх кибитки, да те не опасны – никого не заденут, разве шальная, пущенная под углом в шестьдесят градусов к горизонту, ухитрится упасть в средину кибитки, отстоящей от неприятеля на 600-700 шагов, словом, покоен Карапет, покойны его гости...
Вдруг с дребезжащим звоном слетает с полки почти пустая жестяная коробка английских печений, падает стоящая на ней бочка с сельдями, падает и сам Карапет к ногам удивленных офицеров, только что собравшихся еще потребовать бутылку дорогостоящей смеси! Бедняга катается в судорогах по полу кибитки, ударяясь головой и ногами о бочонки, заменяющие стулья...
Кровь заливает его черкеску; пуля как раз угодила на вершок выше его кожаного, усаженного металлическими пуговицами кушака... Офицеры хотят его поднять – он отмахивается руками и страшно стонет, умоляя оставить его в покое... Лучшее украшение его армянской физиономии – полуторааршинный нос побледнел. Близка твоя смерть, Карапет! Вот тебе и деньги твои! Так себе и пропадут все эти кипы засаленных бумажек, спрятанные тобой так тщательно в землю под мешком с сушеным инжиром! Хорошо, если кто-нибудь из твоих сородичей знает твой секрет и хоть десятую долю их доставит твоей семье, а то ведь пропадут все плоды твоего обмана и мошенничества.
Один из офицеров кладет около хрипящего армянина десятирублевые бумажки – плату за выпитое вино, и все трое выходят из кибитки. Группа солдат сидит за мешками в нескольких шагах от кибитки; солдатики провели несколько дней в траншеях и теперь отдыхают, если можно назвать отдыхом сидение в грязи под свистящими пулями... Один наигрывает на гармонике...
– Ребята, тут вот в кибитке ранило маркитанта, снесите его в Красный Крест, – обращается один из офицеров к солдатикам...
Через минуту глухо стонущий Карапетка уже покачивается на руках четверых солдат, а его товарищи маркитанты наводнили кибитку...
Пропал Карапет, пропал его товар...
Сегодня убили его, завтра кого-нибудь другого – пройдет 5-6 дней, и ни одна душа уже не будет помнить, что такой-то существовал когда-то, у каждого слишком много забот о целости и сохранности собственной шкуры...
Вот кибитка артиллеристов 4-й батареи 20-й бригады, заглянуть разве туда?
Предварительно надо согнуться в три погибели: черное отверстие, именуемое дверью, будто сделано только для входа кошек, а не для людей, даже небольшого роста. В довершение неудобства вход закрыт кошмой. После нескольких попыток ваш покорнейший слуга пролезает в кибитку.
– А, моряк, здорово! Откуда Бог принес? – слышится из разных углов.
Народонаселение кибитки очень густое; здесь собрались почти все офицеры 4-й батареи. Представлять их вам, читатель, всех затруднительно, познакомлю вас только с лихим командиром этой батареи – капитаном Полковниковым, который за экспедицию, благодаря своей храбрости и разумному командованию своею частью, получил чин подполковника в 27 лет, Георгиевский крест и золотую саблю. Он – любимец фортуны, пули его не трогают, имеет большой успех у женщин и удивительно счастливо играет в карты – два последних обстоятельства обыкновенно, судя по пословице, не совпадают, но Петр Васильевич в этом случае редкое исключение.
– Ты из траншей к нам забрел? – обращается он к вновь пришедшему моряку.
– Нет, только что вернулся из Самурского (так названо было укрепление Эгян-Батыр-Кала в 12 верстах от Геок-Тепе). – Надо было забрать пожитки людей и посмотреть, что поделывают там наши, оставленные с одним орудием. А что, господа, водки и легкого пыжа у вас не найдется?
– Как не найтись, есть понятно! Эй, Иван! Дай господину моряку водки и пыж, какой найдется!
Для мирного читателя наша, выработанная походом терминология может быть не совсем понятна. Пыжом называется всякая закуска, ибо, как заряд пороха отделяется от пули пыжом, так, обыкновенно, и одна рюмка отделяется от другой куском чего бы то ни было – в крайнем случае сухарем.
Через минуту гардемарин зарядил себя стаканчиком живительной влаги и крепко прибивал этот стаканчик пыжом из сардинок и колбасы.
– Ну, что хорошего видел в Смурском? – спросил Петр Васильевич, видя что моряк прибил уже как следует заряд и принялся крутить папиросу.
– Да ничего интересного! Скучают там бедняки, сильно рвутся сюда, завидуют нам!
– Ну, завидовать-то нечему, – заметил молодой, высокого роста красивый поручик Сущинский, подымаясь с постели и потягиваясь; он направился к столу, где стояла еще бутылка водки и коробка сардинок. Едва он сделал шаг, как все сидевшие в кибитке вздрогнули: что-то сильно шлепнулось в верхний переплет, облако пыли и осколков дерева разлетелось повсюду, и большая, полуфунтовая фальконетная пуля упала к ногам поручика...
– Ну, они подлецы, решительно замышляют меня отправить на тот свет, проговорил поручик, наклоняясь и подымая эту безобразную, призматическую, сильно сплюснувшуюся пулю. – Нынешнюю ночь всадили мне пулю в пальто, которое я свернул и подложил под голову, сегодня же чуть не залепили в голову...
– Да она бы не убила тебя, – сказал совсем молоденький прапорщик, взяв пулю и рассматривая ее.
– Покорно благодарю, если бы щелкнула в голову... Ведь, если даже прямо упала с этой высоты, и то сильно ушибла бы, а то ведь, кроме того, сила еще сохранилась... Нет, это, пожалуй, рана была бы изрядная...
– Зато первого разряда, в голову, – сказал моряк, выпуская клуб табачного дыма ртом и носом.
– Вчера был интересный случай, – заметил, подымая глаза от книги, которую прилежно читал, один из офицеров 19-й бригады, – прохожу я около траншеи перед лагерем, а там выстроена рота, назначенная на ночь на смену туркестанцам в Великокняжескую Калу. Фельдфебель, такой бравый из себя, с двумя крестами, делал расчет людям. Дошел уже почти до средины фронта, солдаты откликаются: первый, второй, первый, второй – вдруг откуда-то шальная пуля хлопнула прямо в переносье одного во фронте уж из числа рассчитанных, и не пикнул – слетел с ног! Фельдфебель сплюнул, выругался и говорит: "Ишь проклятая, только расчет испортила!" – Я его готов был за такое хладнокровие расцеловать...
– Действительно, молодчина, – согласились все.
– Ну, однако, засиживаться-то у вас не приходится, – заметил моряк, подымаясь и подтягивая кушак с висевшей на нем кобурой, откуда торчало ложе револьвера.
– Ты куда? – обратился к нему Петр Васильевич.
– Да к себе, в Охотничью.
– Что, поди, у вас там посвистывает?
– Изрядно-таки, пристрелялись, подлецы, здорово! Да и близко ведь всего восемьдесят шагов. Приходится на ночь бойницы в стене затыкать стреляют на огонь, который просвечивает. На башне уж трех моих стрелков уложили – в глаз каждого... Как только выставишь дуло винтовки, так и начинают пули щелкать около бойницы; сам замечаешь, как они ложатся все ближе и ближе, каждый раз ожидаешь, что влепят тебе в зрачок прямо... Но все-таки у вас в лагере хуже, там по крайней мере на ночь уляжешься себе под стеной, ближайшей к неприятелю, и дрыхни сколько угодно...
– Сегодня утром жаловался Гештель, что наши осколки от бомб падают к вам, – сказал поручик, чуть было не получивший в голову текинского презента.
– Это верно, – подтвердил гардемарин. – Как только увидишь вечером над головой букет этих свистящих и светящихся шариков, так и ожидаешь, что посыпятся осколки в Калу... Неприятно они жужжат, пули куда лучше... Однако, господа, пора мне и к себе. – И моряк крепко пожал протянутые ему руки.
Быстрым шагом прошел он открытое место до кибиток апшеронцев. Но как ни быстро шел молодой моряк, а все-таки около него свистнуло две пули и одна шлепнулась в двух шагах перед ним.
– Ишь подлецы, это ведь для меня специально предназначались, пробормотал сквозь зубы гардемарин и поторопился завернуть за ряд кибиток, ибо молодой моряк не чувствовал никакого желания быть убитым так себе, ни за что ни про что.
– Пойти разве переодеться, – пришла ему в голову мысль, и он повернул налево, к тому месту, где виднелись три отдельно стоявшие кибитки. Еще не доходя шагов сорок, он крикнул во всю мочь:
– Абабков!
Из одной кибитки высунулась голова матроса; увидя гардемарина, обладатель головы показался весь и немедленно перебежал в другую кибитку, в которую вошел и молодой моряк.
– Здорово, Абабков! – поздоровался он с матросом, на физиономии которого выражалось искреннее удовольствие видеть своего барина целым и здоровым.
– Здравия желаю, ваше благородие, – ответил Абабков и прибавил: – а нам сказали, что вы, ваше благородие, будто уж ранены были ночью...
– Наврали, брат Абабков, целехонек, как видишь. Текинцы-дураки еще не отлили для меня пули... А вот дай-ка мне переодеться да расскажи, что тут у вас делается.
– Вы как, ваше благородие, скрозь будете переодеваться?
Вероятно, выражение "скрозь" было уже знакомо молодому моряку, так как он с улыбкой отвечал:
– Да, скрозь переоденусь.
Абабков вытащил из переметных сумм разное белье и начал его приготовлять к переодеванию своего барина. Пока он этим занимается, я отрекомендую его читателям.
Николай Абабков – матрос 1-й статьи одного из кронштадтских экипажей. Он уже старослуживый – кончает десятый год своей службы. Бравый матрос, при этом не дурак и выпить. Отношения его к гардемарину чисто отеческие: проиграется, например, молодой моряк в штосе – Абабков делает ему внушение; вернется ли с товарищеской попойки, переливши за галстук не в меру, – тот же Абабков пристыдит его на другой день. Пользуясь нетрезвым состоянием своего барина, этот образец слуг отбирает деньги, и часть их немедленно идет на пополнение истаскавшегося в походе костюма, и гардемарин к своему изумлению и удовольствию через несколько времени находит новую блузу, заменившую его прежний китель, представлявший уже из себя одну большую дыру, неподдававшуюся больше никакой починке. За эту заботливость Абабков считает себя вправе курить господские папиросы и, в торжественных случаях, надевать галстуки и сорочки своего барина. В праздник Абабков является с неизменным вопросом:
– Ваше благородие, позвольте идти гулять?
– Ты напьешься сегодня, Абабков? – спрашивает его молодой моряк.
– Точно так, ваше благородие, напьюсь, коли только я вам не нужен.
– А деньги есть?
– Коли дадите, ваше благородие, все лучше, потому водка эта самая два с полтиной бутылочка.
– Ну, возьми себе. – И Абабков получает какую-нибудь бумажку в зависимости от состояния финансов гардемарина.
К вечеру Абабкова приносят в истерзанном виде и в состоянии невменяемости; он начинает бушевать.
– Абабков успокойся, не то будешь связан, – слышится из кибитки голос строгого командира – лейтенанта Ш-на. Абабков успокаивается, но усиленно ворчит.
Проходит несколько минут, и снова слышится в матросской кибитке шум, драка и возня.
– Дежурный по батарее! – кричит лейтенант.
– Есть!
– Связать Абабкова, а будет ругаться – заткнуть рот!
– Есть!
Наступает тишина – Николай Абабков уснул.
Утром он является с пасмурной физиономией, иногда даже украшенной парой знаков, известных почему-то в общежитии под названием фонарей, хотя знаки сии вовсе не освещают физиономии, а скорее придают ей мрачный вид.
– Нагулялся, Абабков? – спрашивает гардемарин, ежась под буркой и не решаясь подняться с пригретой постели. Абабков молчит.
– И не стыдно тебе, старому матросу, так напиваться, что тебя связывают?
– А вам, ваше благородие, не стыдно позавчера было, когда вас принесли благородие, Господин лейтенант, на плечах, да еще вам уши оттирали, потому вы как мертвый были?
Начинаются взаимные укоры.
Кончается тем, что Абабков получает на опохмеление некоторую сумму, а сожители гардемарина долго еще хохочут над сценой взаимных упреков.
Этот-то Абабков и собирался теперь переодевать своего барина, действительно сильно нуждавшегося в смене белья, так как, заранее прошу извинения у моих читательниц, все белье обратилось в зоологический сад...
– А что, брат, – обратился гардемарин к своему Санчо Пансе, – не найдется ли воды помыться, не очень горячей, а так – потеплее?
– Никак нет, ваше благородие! Коли угодно вам холодной, сейчас принесу.
– Ну, валяй холодной.
Через минуту молодой моряк, фыркая и ежась, обливался ледяной водой в кибитке. Подобные вещи сходят даром для здоровья только в походе; попробуйте выкинуть такой фокус в обыденной жизни и, наверное, получите тиф или воспаление легких или что-нибудь в этом духе, и получите, пожалуй, даже от силы воображения, что я, мол, простудился. Под выстрелами же неприятеля, жертвами которых на ваших глазах становятся сотни ваших товарищей, вам уж никак не взбредет в голову мысль, что вы можете отправиться к праотцам от другой причины, а не от одной из этих свистящих мимо пуль. Скажи кто-нибудь гардемарину, что он рискует протянуть ноги от этого мытья холодной водой, он расхохотался бы и заявил, что это невозможно. Да и смешно, действительно, бояться простуды в том месте, где пули сыпятся и щелкают о землю градом...
– Вчера у нас, ваше благородие, Тарсукова ранили, – заявил Абабков, старательно вытирая своего барина какой-то тряпкой, некогда бывшею, кажется, чайным полотенцем или салфеткой.
– Опасно? – спросил гардемарин, стараясь расчесать кусочком гребешка волосы, свалявшиеся на голове чуть ли не в колтун.
– Нет, так себе, в ногу наскрозь! Он ставил самовар и только это вышел пощипать лучину, а она его как зыкнет... Спужался, бедный, сильно.
– А что, Абабков, хочется в Кронштадт?
– Известное дело, ваше благородие, хочется! Здесь-то есть настоящая Азия – ничего нет, окромя этих черномазых... Да и дорого все до страсти; виданное ли дело, чтобы бутылка водки четыре рубля стоила. Скажешь землякам, так вить рассмеются все, не поверят! Да и донимают уж очень, ваше благородие, эти самые трухмены – и ночью палят и днем палят – ни минуты, значит, не дадут спокойствия.
– А ты очень боишься, Абабков? – спросил гардемарин, оканчивая свой туалет.
– Как же не бояться, ваше благородие? Разве кому приятно свою жисть окончить, да и еще в чужой стороне?
– А знаешь пословицу: пуля виноватого найдет? – спросил гардемарин, собираясь выходить из кибитки.
– Знаю, ваше благородие, да знаю и другую: береженого Бог бережет; вы не очень высовывайтесь, ваше благородие, оно вернее...
– Стыдно, Абабков, старый матрос и говоришь такие вещи! А еще в претензии, что тебе Георгия не дают! Я ведь видел, как ты высунул голову из кибитки и не хотел выходить, пока не увидел, что я тебя зову! Ну, прощай, Абабков, да смотри не трусь у меня...
– Счастливо оставаться, ваше благородие, – последовал ответ, и Абабков стрелой перелетел в свою кибитку, опасаясь представить собой мишень для текинцев...
Вечерело. Косые лучи заходящего солнца отливали пурпуром на белых стенах Геок-Тепе, на которых уже реже начинали вспыхивать дымки выстрелов; из траншей тоже как-то ленивее начинали стрелять – обе стороны хотели отдохнуть. Но все-таки нет-нет и пуля с пронзительным свистом пролетит над лагерем или вопьется в какой-нибудь мешок с глухим шлепаньем...
Гардемарин направился по траншее к Великокняжеской Кале. Задумчиво шагал он по узкому пути; по дороге попадались траверсы, которые он обходил совершенно машинально, – мысли его были совсем не в Ахал-Теке, не в этих траншеях, начинавших уже окутываться сумраком вечера... Витал ли он мыслью в море, вспоминая разные эпизоды бурного плавания, или голова его была занята приведением на память прошлого, для него дорогого, – не знаю, знаю только, что он очнулся и пришел в себя, столкнувшись носом к носу с первыми людьми какой-то роты, возвращавшейся на отдых в лагерь. Прижавшись насколько мог к брустверу, всматривался молодой моряк в лица двигавшихся мимо солдат. Видно было, что люди утомлены, что нервы напряжены до крайности; с какой-то суровою молчаливостью проходили они мимо, звякая штыками винтовок, часто цеплявшихся в этой тесноте друг за друга.
Осунувшиеся, потемневшие, закопченные лица мелькали в глазах гардемарина... Казалось, каждое лицо выражало желание или скорее покончить эту тяжелую осаду, или присоединиться к тем многим сотням товарищей, которые уже успокоились под покровом этой желтой необъятной степи...
Рота прошла, и моряк поторопился добраться до входа в Великокняжескую Калу.
Едва держащиеся, все простреленные стены окружали четырехугольник, переполненный солдатами всякого рода оружия. Во многих местах были костры. Вправо от входа шла небольшая стенка, с проделанными в ней амбразурами для двух картечниц и двух горных орудий. Неподалеку стоял верх от желомейки, человек пять матросов лежали около картечниц. К ним-то и направился гардемарин, выйдя из траншеи, ведшей в эту Калу.
– Где господин Голиков? – обратился он к одному из матросов, обтиравшему патроны, приготовленные на ночь.
– Здесь, ваше благородие, под верхом, – отвечал матросик, указывая на верх желомейки, из отверстия которой действительно торчали чьи-то ноги, как теперь заметил гардемарин.
– Сейчас вылезу, подожди, – послышался замогильный голос. Ноги пришли в движение и начали понемногу показываться из этого своеобразного жилища; показалось туловище, облеченное в какую-то куртку шоколадного цвета с обрывками мичманских погон на плечах, наконец явился на свет Божий и затылок с надвинутой фуражкой. Фигура стала на четвереньки, поднялась и сделала пируэт.
– Вот и я собственной персоной, дрожайший камарад, – приветствовала эта особа, выползшая из своего жилища ракообразным способом.
– Пришел вас проведать, – сказал гардемарин, обменявшись крепким рукопожатием со своим товарищем по оружию.
– Ничего, живем еще, пока не убили... Не хотите ли рюмочку божественного напитка? А? С холоду не мешает ведь? – И, не дожидаясь ответа, Евгений Николаевич Голиков нырнул под верх и явился с бутылкой "божественного напитка".
– Стаканчика-то нет, еще сегодня был, да какой-то милый армеец, с ловкостью молодого гиппопотама, танцующего в посудном магазине, раздавил его своим седалищем... Ну, да не беда, душа меру знает, можно и из горлышка. Я как хозяин покажу вам пример. – К словам присоединилось действие, и послышалось довольно продолжительное бульканье...
– Валяйте... Преполезно, я вам скажу, от всех болезней помогает... Вот вам и сухарь на закуску. Теперь вы рассказывайте, где были, что делали, куда направляетесь.
Гардемарин сообщил вкратце о своих приключениях. От внимательного взгляда Евгения Николаевича не скрылось, что его молодой товарищ чем-то озабочен.
– Что, батенька, с вами? – спросил он, похлопывая своей широкой ладонью по плечу товарища.
– Глупая хандра какая-то напала, сам не знаю с чего... Устал я от этой жизни... Каждый день резня, резня... Каждую секунду нервы в страшном напряжении... Ежеминутное ожидание смерти – все это доведет до апатии, до хандры...
– Вот те на! От вас ли я это слышу, гард? Вчера или третьего дня еще целых пять часов сам же сидел под бруствером без обеда, чтобы подстрелить пару-другую текинцев, а сегодня пустился в миндальничание! Плюньте вы на свои нервы и будьте мужчиной. Ну, убьют – опять же наплевать! Взгляните на меня – всегда я весел бесконечно...