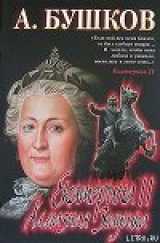
Текст книги "Екатерина II: алмазная Золушка"
Автор книги: Александр Бушков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Перед нами – не прожекты и мечты, а реальнейший план конкретного переворота, расписанный до мельчайших деталей. Следует обратить особенное внимание на то, что Екатерина намерена произвести переворот в союзе с мужем Петром (упоминание о двух великих князьях – это как раз упоминание о Петре и Павле). Шансы были велики – в конце-то концов, шестнадцать лет назад Елизавета свергла правительницу Анну Леопольдовну, имея под рукой неполную роту солдат и кучку офицеров с придворными. Тем более задачу крайне облегчало то, что переворот должен был состояться не при здоровой, энергичной и полной сил Елизавете, а при умирающей, уже не способной ничем и никем руководить, давать отпор. Не зря в числе заговорщиков появляются столь близкие к Елизавете люди, как Разумовский и офицеры привилегированнейшей лейб-кампании. Наверняка никто из них не стал бы участвовать в заговоре против здоровой Елизаветы, но, прекрасно видя, что императрица умирает, они из простого житейского расчета постарались бы наилучшим образом устроиться при новых монархах...
Елизавета была окружена множеством агентов «молодого двора», старательно докладывавших Екатерине о состоянии императрицы. О чем Екатерина опять-таки сама писала англичанину: «Вчера среди дня случилось у императрицы три головокружения или обморока. Она боится, очень пугается, плачет, огорчается, и когда спрашивают у нее, отчего, она отвечает, что боится потерять зрение. Бывают моменты, когда она забывается и не узнает тех, которые окружают ее. Говорят, однако, что она хорошо провела ночь... Мой хирург, человек очень опытный и разумный, высказывается за апоплексический удар, который сразит ее безошибочно. У меня имеются три лица, которые не выходят из ее комнаты и которые не знают, каждый в отдельности, что они меня предупреждают, и не преминут в решительный момент сделать это».
В связи с этими планами – имевшими все шансы на успех – возникает любопытнейший вопрос: что Екатерина намеревалась делать потом, при успехе? Собиралась ли она уже тогда отстранить мужа и править единолично?
Увы, точной информации о таких подробностях нет и никогда уже не будет. Меж супругами к тому времени, как я уже писал, произошел окончательный разрыв, так что подобные планы Екатерина вполне могла строить.
Правда, это еще не значит, что ей удалось бы претворить их в жизнь. «Пять гвардейских офицеров», о которых она упоминает – это, безусловно, не братья Орловы, которых тогда рядом с Екатериной еще не было. Кто они – и кто такие эти лейб-кампанцы – сегодня уже вряд ли можно установить точно. Но, в любом случае, вряд ли Екатерина чувствовала себя настолько сильной, чтобы сразу после взятия власти попытаться избавиться и от мужа...
Тем более что сторонники у него имелись крайне серьезные. Иван Шувалов, фаворит Елизаветы, участвовал, достоверно известно, в организации какого-то оставшегося непроясненным заговора против Петра – параллельно с тем заговором, что замышляла Екатерина. Однако его двоюродный брат, Петр Шувалов, генерал-фельдцехмейстер (начальник всей артиллерии), наоборот, был всецело на стороне Петра и, кроме своего служебного положения, располагал еще и конным корпусом в 30 000 человек, который создал за свой счет. Корпус этот так и именовался «Шуваловский», и не стал бы слушать ничьих приказов, кроме своего командира.
Кроме того, сторону Петра решительно держал и двоюродный дядя обоих Шуваловых, граф Александр Иванович, к тому времени десять лет руководивший конторой, чье полное наименование (да и сокращенное тоже) в российской империи наводило ужас практически на любого – Тайная розыскных дел канцелярия...
Как бы там дело ни обстояло, какие бы потаенные намерения ни питали участники заговора, какие бы свои игры ни вели втихомолку в стороне от игры главной, все это решительное предприятие сорвалось по независящим от его инициаторов причинам: Елизавета взяла да и выздоровела. Здоровье у нее, как выражался Дюма касаемо Атоса, было гвоздями прибито к телу. Никакими «излишествами нехорошими разными» подточить его не удавалось – как ни старалась сама Елизавета, безусловно укоротившая жизнь морем разливанным вина и неисчислимыми балами...
Тогда этот заговор (или, как в восемнадцатом столетии принято было выражаться, комплот), тихонечко скончался естественной смертью. Но всего через год возник новый – опять-таки из-за новых апоплексических ударов у Елизаветы...
В письмах к английскому послу Екатерина в числе своих верных сообщников упоминала Апраксина. Именно он и сыграл в последующих событиях одну из главных ролей – и оказался одним из двух козлов отпущения (правда, обоих нисколечко не жалко).
Итак, Россия все же послала войска против Пруссии, как ни старался второпях переломить ситуацию служивший уже другим господам и другим «системам» канцлер Бестужев. Он просто-напросто угодил в собственную ловушку: так долго и старательно разжигал в Елизавете ненависть к Фридриху и приручал ее видеть в прусском короле исчадие ада и главного противника, что Елизавета по-настоящему этими идеями прониклась. И теперь тому же Бестужеву никак невозможно было прийти к императрице и как ни в чем не бывало, с честнейшими глазами заявить:
– Ошибочка вышла, матушка, уж прости старого дурня. Фридрихус, король Прусский, надобно тебе знать, вовсе не твой первейший супостат, а человек очень даже приличный, нам с ним интересы высокой политики велят не то что замиряться поскорее, а самую сердечную дружбу завесть...
Поздно было! Он сам столько лет заводил Елизавету, и она теперь не могла идти на попятный...
Итак, Степан Федорович Апраксин, обладатель высшего воинского звания «генерал-фельдмаршал» и кавалер высшего ордена Российской империи Андрея Первозванного. Именно он был назначен главнокомандующим русскими войсками, действовавшими против Фридриха. Присмотримся поближе...
Хотя Апраксин достиг высшего воинского звания, военачальник из него был никакой. Весь его военный опыт укладывался в два года военных действий против Турции, в 1737–1739 гг., когда он был в чине всего-навсего секунд-майора (тогдашнее майорское звание делилось на две ступени: секунд-майор и премьер-майор). Он, правда, отличился при штурме Очакова, за что был сделан «полным» майором и получил поместья, но все равно, этого маловато, чтобы не то что считаться полководцем, но и попасть в фельдмаршалы...
Секрет в том, что Апраксин долго служил в Семеновском полку, одном из двух престижнейших – но своим возвышением обязан был опять-таки не этому, а тесной дружбе с влиятельнейшими при дворе персонами: канцлером Бестужевым, Алексеем Разумовским и Иваном Шуваловым. И высший орден империи отхватил благодаря этим связям. Меж тем, современники, что примечательно, относились к выскочке скверно, его чуть ли не в глаза именовали «неженкой», «рохлей» и даже «трусом»...
Однако, когда встал вопрос о главнокомандующем, назначили именно Степана свет Федоровича. Не удивительно – с такими-то покровителями...
Отзывы участников Семилетней войны с российской стороны единодушны: это был не главнокомандующий, а наказание Божье. Хорошо еще, что под его началом служило немало толковых генералов, они и ковали победу, сплошь и рядом игнорируя идиотские распоряжения обладателя Андреевской ленты...
В августе 1757 г. состоялось победное для русского оружия сражение при гросс-Эгерсдорфе. Путь на Кенигсберг, древнюю столицу Пруссии, был открыт – сам Фридрих в то время воевал далеко оттуда, на юге и западе, и Кенигсбергу ничем помочь не мог. Армия приготовилась к марш-броску...
И тут к Апраксину примчался курьер от Бестужева с Екатериной – у Елизаветы снова удар, и доверенные врачи ручаются, что на сей раз она точно не выживет!
О войне с пруссаками Апраксин забыл моментально: теперь подчиненные ему полки были гораздо нужнее в России. Этот заговор уже состоялся без всякого участия и ведома Петра – поскольку императором намеревались провозгласить малолетнего Павла Петровича, за которого, разумеется, должна была управлять государством его матушка.
Апраксин, несомненно, хорошо представлял, какие награды и пожалования можно огрести, оказавшись на нужной стороне в такой момент...
И началось никому не понятное отступление, больше всего похожее на паническое бегство, словно не пруссаки, а именно Апраксин был разбит наголову. Пятнадцать тысяч раненых и больных Апраксин попросту бросил. Велел бросить, заклепав предварительно, восемьдесят пушек. Бросали все – запасы оружия, боеприпасы, амуницию, топили в реке баржи с продовольствием, оставляли обозы. По пятам Апраксина шел с небольшим отрядом прусский генерал Левальд и подбирал богатейшие трофеи, заодно ломал голову, что у русских произошло и откуда этакое массовое помешательство – потому что, на взгляд любого непосвященного в петербургские дворцовые интриги наблюдателя, так драпать после несомненной победы могли только рехнувшиеся умом...
В русском лагере думали кое-что похуже. Молодой генерал Петр Панин украдкой покинул штаб Апраксина и верхом помчался в столицу, опережая отступающие войска.
Пока он скакал, пока Апраксин отступал чуть ли не бегом, превратив отлично оснащенную, вооруженную и снабженную всем необходимым армию чуть ли не в стадо... Елизавета, вдруг, вопреки эскулапам, выздоровела!
Тут к ней и ворвался Панин, с порога рявкнул сохранившиеся в истории слова:
– Матушка, измена! Руби головы!
В самом деле, при подобных обстоятельствах общественное мнение (и вовсе не обязательно простонародное) склоняется прежде всего к тому, что такое поведение нельзя объяснить иначе как изменой. Моментально родились сплетни (дошедшие до нашего времени и попавшие в исторические романы), будто Апраксин попросту хапнул немалую взятку от Фридриха. Молва даже разносила захватывающую историю со всеми подробностями: будто бы Апраксин засунул полученное от прусского короля золото в бочонок, для маскировки напихал туда селедок (по другой версии, налил постного масла) и отправил супруге с верным человеком. А тот будто бы оказался не таким уж верным – золото вытащил и присвоил, благо в сопроводительном письме говорилось только о селедке (постном масле). Апраксин, якобы, прибыв домой, первым делом, не успев сапоги от пыли отряхнуть, поинтересовался у супруги:
– Как селедочка?
– Объеденье! – ответила супружница. – Почитай, всю уже доели. Что ж так мало прислал, Степушка?
Тут Апраксин, согласно легенде, побледнел, затрясся и возопил:
– А золото где же?
И, узнав от супруги, что никакого золота ей не передавали – ни монеточки! – упал и умер от огорчения...
На самом деле все было совершенно иначе. Апраксин, как легко догадаться, не только до дома не добрался, но и в столицу не успел доехать – посланные навстречу хмурые господа из Тайной канцелярии повязали его перед Петербургом... Не пряниками же угощать?
Апраксин оказался в самом что ни на есть идиотском положении – он твердо рассчитывал, что императрица умрет, власть сменится, и никому ничего объяснять не придется, наоборот, будут сплошные похвалы и награждения.
А объяснять-то и пришлось... Апраксин, одурев от страха, нес всякую чепуху: что у него, дескать, не было ни сил, ни средств, порох кончился, лошади померли от бескормицы, пушек не хватало, из Петербурга присылали дурацкие указания, не имевшие ничего общего с реальной военной обстановкой...
Его пока что не пытали – не было высочайшего распоряжения – но те самые хмурые господа из Тайной канцелярии грамотно и аргументированно доказывали, что брешет генерал-фельдмаршал, как сивый мерин...
В Петербурге наконец-то арестовали канцлера Бестужева и его сообщников. Екатерину пока что не тронули, она какое-то время пребывала в невероятном расстройстве чувств, видя перед собой если не плаху, то, по крайней мере, палаческий кнут и необозримые сибирские просторы (Елизавета в гневе бывала не самой доброй императрицей в мире...) Но старая лиса Бестужев перед арестом успел сжечь все до единой уличающие бумаги – о чем через верных людей и сообщил Екатерине. Екатерина воспрянула...
Следствие велось активнейшим образом – под руководством самой Елизаветы, из-за позорного бегства Апраксина выставленной перед всей Европой неведомо даже и кем...
Но не было улик, ни единой. Апраксин талдычил про неблагоприятные обстоятельства, Бестужев молчал как рыба. Молчали и остальные арестованные по делу: бывший учитель русского языка Екатерины Ададуров, бывший ювелир Екатерины Бернарди, бывший адъютант Разумовского Елагин. Отчего-то никого из перечисленных не пытали, что довольно странно – во времена Елизаветы пытка была еще в большом ходу. Не исключено, что круг заговорщиков был гораздо шире, и те влиятельные лица, что оставались в стороне, втихомолку обеспечили самое гуманное ведение следствия (подобное в истории известно).
Ну не было у Елизаветы ни единой улики против этой компании, хоть ты тресни! Разве что пара-тройка совершенно пустяковых писем Екатерины к Апраксину, которые при самой извращенной фантазии за улики все же сойти никак не могли...
И императрица заколебалась. Она вызвала Екатерину, самолично учинила ей допрос – но Екатерина от всего отпиралась, не моргнув глазом, разыгрывала оскорбленную невинность и даже попробовала показать характер: ну, коли так, то отпустите вы меня, Елизавета Петровна, назад в Германию!
Присутствующему здесь же Петру эта идея пришлась весьма по вкусу. Но Елизавета все еще колебалась. Понять ход ее мыслей легко: прямых улик нет, надежных показаний нет, ни с того ни с сего высылать на родину великую княгиню, мать наследника престола... Положительно, Европа не поймет!
И она Екатерину оставила в прежнем высоком положении, посчитав, что та полностью оправдалась.
Нужно было что-то делать и с Апраксиным, так и сидевшим под следствием. До сих пор можно встретить утверждение, что под замком его держали три года. На самом деле – всего девять месяцев. В конце концов Елизавета вызвала Шувалова и спросила:
– Ну, как там фельдмаршал? Молчит?
– Молчит, – уныло кивнул «великий инквизитор».
– Ну что ж, – задумчиво промолвила Елизавета. – Может, и нету за ним ничего? Коли молчит, остается последнее средство – освободить...
Шувалов поехал туда, где сидел под арестом Апраксин, вызвал подследственного к себе и с превеликим сожалением – такой клиент из рук выскальзывает! – молвил:
– Ну что ж, Степан Федорыч, последнее средство осталось...
Он, конечно, имел в виду освобождение. Но Апраксин решил, что сейчас его уж непременно подвесят на дыбу и начнут гладить по спине горящими вениками (был в те времена такой метод активного следствия). Побелел, грянулся со стула на пол, и, когда его подняли, он был уже неживой...
Лично мне его нисколько не жалко.
Бестужева держали под следствием гораздо дольше, в конце концов, ничего не добившись, приговорили к смертной казни «за оскорбление ее императорского величества». В императрицыном указе по этому поводу говорилось о «гордости и жадности» Бестужева, о том, что он не исполнял монаршие указы, «неправо докладывал великому князю и наследнику и его супруге», да вдобавок «старался злостнейшими клеветами отвращать их от любви и почтения к ее императорскому величеству». Все это были общие слова – конкретики, как ни бились, накопать не удалось.
Елизавета, свято придерживавшаяся своего принципа никого не казнить смертью, приговор заменила на лишение всех чинов, званий и орденов и ссылку в Можайскую деревню. Легко отделавшийся Бестужев так обнаглел, сидя в своей деревне, что даже сочинил книжку под название «Стихи, избранные из священного писания, служащие к утешению всякого христианина, невинно претерпевающего злоключения». Невинной жертвой он явно считал себя...
На его место назначили Михайлу Воронцова, человека незаурядного: во взятках никогда не был уличен, дипломат опытный (между прочим, дядя Елизаветы Воронцовой). Отказался после переворота присягать Екатерине до тех пор, пока не узнал о смерти Петра. Был другом и покровителем Ломоносова, после смерти которого поставил на его могиле мраморный памятник. Честен и непродажен!
И еще много, много лет российские и зарубежные историки будут объяснять отступление Апраксина самыми разнообразными причинами, кроме участия в заговоре Екатерины и Бестужева. Только в 1910 г., когда опубликуют переписку Екатерины с Уильямсом, истина будет окончательно установлена.
Война продолжается, Екатерина, очищенная от всех подозрений, остается супругой великого князя, Апраксина давным-давно схоронили, Бестужев в ссылке сочиняет книжку...
Но Екатерина от своих замыслов вовсе не отказалась! Благо у нее появилась надежная опора...
На сцену Большой Истории пока еще робко, осторожными шагами, малость содрогаясь с похмелья, выходят братья Орловы!
Глава шестая
Питерские пролетарии
В свое время рассказывали, что родоначальником семейства Орловых был простой стрелец Иван Орел, прозванный так за храбрость. Вместе с другими он участвовал в знаменитом стрелецком бунте, приговорен к смерти – и, шагая к плахе, преспокойно откатил ногой только что снесенную голову своего предшественника, чтобы не валялась на дороге. Находившийся тут же Петр I был не на шутку удивлен таким хладнокровием и Орла помиловали. Иван – уже Орлов – выслужился в офицеры, стал дворянином и дедушкой сподвижников Екатерины.
Братьев было пятеро. Первое место следует отвести, разумеется, Григорию. Личность была примечательная – вполне соответствовавшая разгульному и не боявшемуся лишней крови восемнадцатому столетию...
Воевал храбро. Умом, правда, не блистал, даже наоборот. Французский посланник Дюран, знавший его лично, оставил такую характеристику: «Природа сделала его не более как русским мужиком, каким он и остался до конца. Он развлекался всяким вздором, душа у него такова же, каковы у него вкусы. Любви он отдается так же, как еде, и одинаково удовлетворяется как калмычкой или финкой, так и хорошенькой придворной дамой. Это прямо бурлак».
Действительно, малый был незатейливый – но ярок, колоритен, любимец гвардии: буян, дуэлянт, гуляка, картежник, верный товарищ, храбрец!
Екатерине он стал известен благодаря нашумевшей амурной истории. Будучи адъютантом помянутого Петра Шувалова, всей российской артиллерии командира, Орлов носил от него любовные записочки шуваловской пассии, княгине Елене Куракиной. Особа была исключительно красивая – и нрава самого легкомысленного. Орлов же никогда перед дамами не робел. Так что очень быстро всему Петербургу стало известно, что шуваловский адъютант, плюнув на субординацию, самым наглым образом замещает начальника в спальне прекрасной Елены. В конце концов узнал и Шувалов. Выгнал адъютанта к чертовой матери и всерьез собирался законопатить в Сибирь – но не успел, потому что умер. Быть может, от огорчения – хотя кому-кому, а уж ему-то следовало бы заранее знать, что собой представляет Леночка Куракина.
Одним словом, Орлов в Петербурге этой историей прославился чрезвычайно. И где-то пересекся с Екатериной – которую, по свидетельствам современников, тут же стал преследовать самым бесцеремонным и недвусмысленным образом, не испытывая особенного почтения перед титулом великой княгини. Справедливо рассудил, что и великой княгине хочется от этой жизни маленьких радостей – многие уже были наслышаны и про Салтыкова, и про Понятовского. В общем, Екатерина сопротивлялась недолго. Ну, и завязалось, продолжилось, понеслось...
В конец концов Екатерина от него забеременела и рожать собиралась уже в то время, когда на престол взошел Петр III, а она была императрицей. Беременность удалось скрыть до самого последнего момента – тогда дамы носили те самые фижмы – огромные колоколообразные юбки на каркасе. Но вот роды были связаны с нешуточным риском – законный супруг мог войти в любую минуту...
Выручил преданный камердинер Екатерины Василий Шкурин – зная, что Петр обожает смотреть пожары и ни одного не пропускает, он, когда подошло время, поскакал по Петербургу, чтобы, не ожидая милостей от природы, самому что-нибудь поджечь. Но, как назло, подходящего объекта не было, а время поджимало... тогда верный Шкурин, не колеблясь, запалил с четырех концов свое собственное жилище. Петр уехал смотреть на пожар, а Екатерина благополучно разрешилась от бремени.
Младенца быстренько унесли доверенные люди, и судьба ему выпала, в общем, не самая проигрышная. Жил безбедно, под деликатным наблюдением Екатерины, после ее смерти Павел I пожаловал Алексею Бобринскому (так его называли) графский титул и официально провозгласил в сенате своим братом. (Шкурин потом получил за верную службу более тысячи крепостных, или, как тогда говорили, «душ»).
Этот – достоверный отпрыск Екатерины и Григория Орлова. Говорили, что у них был еще один сын (которого молва именует Галактионом). Будто бы его произвели в офицеры и послали учиться в Англию, но он там умер от сифилиса. Третий сын якобы умер еще в юности (впрочем, его отцовство приписывают и Потемкину). Болтали и о двух дочерях, воспитывавшихся при дворе и выданных потом за генералов. Но сведения обо всех четырех крайне сомнительны – как и слухи о том, что Екатерина тайно обвенчалась с Орловым...
Сразу за ним справедливо будет поставить Алексея – тоже гвардеец, тоже буян, дебошир, завзятый карточный игрок, тоже храбрый солдат и любимец гвардии. Великанского роста (все пятеро Орловых были сущими богатырями). В гвардии у него были два прозвища: Алехан и Балафре. Второе по-французски означает «Меченый», «Рубленый» и произошло из-за жуткого шрама на щеке.
История этого шрама сама по себе примечательна. Жил-поживал, буянил-дебоширил в Петербурге бравый гвардеец Шванвич, единственный, кто мог продержаться на кулаках против брательников Орловых, поодиночке взятых. Уступать не хотела ни одна из сторон, и после многочисленных стычек было выработано этакое джентльменское соглашение: ежели где-нибудь в кабаке, бильярдной или ином заведении Шванвич встретит кого-то из Орловых одного, тот, не задираясь, послушно убирается восвояси, оставив Шванвичу все купленное за свой счет: и вино, и веселых девок. Если же двое Орловых где-нибудь застанут Шванвича, убирается на все четыре стороны уже Шванвич. Какое-то время все шло распрекрасно, но однажды произошел сбой. Шванвич застал Алексея Орлова в одиночку – и в соответствии с «пактом» велел ему сматывать удочки. Алексей послушно направился к двери, но тут в заведении объявился один из его братьев, и теперь уже Шванвичу приказали исчезнуть и не отсвечиваться. Он сопротивлялся, заявляя, в общем резонно, что сначала-то Орлов был один, это потом второй пришел, так что ситуация соглашению не вполне соответствует... Однако братья без лишних церемоний вдвоем его быстренько победили и выкинули на улицу. Обозленный Шванвич дождался, когда Алексей выйдет – и рубанул его саблей от души, определенно хотел убить, но оставил лишь шрам. Не вполне джентльменский поступок, конечно, но в те времена вытворяли и не такое...
Алексей был гораздо тоньше братца, гораздо более умен.
Остальные трое – Владимир, Иван и Федор – честно признаться, не заслуживают детального рассмотрения. Все они тоже участвовали потом в перевороте, исправно служили на самых разных постах, военных и гражданских, Федор и Владимир дослужились до генеральских чинов, Иван, самый из пяти простой, сразу после переворота вышел в отставку и мирно жил в своих имениях. Но ничего мало мальски интересного о них, честное слово, и рассказать нечего: самые обыкновенные послужные списки и биографии. Люди непримечательные.
Но, если вернуться в 1762 г., пятеро братьев Орловых были силой нешуточной! Как раз из-за своей популярности в гвардии. И, что особенно важно, к ним как нельзя лучше подходила, уж простят меня коммунисты за цинизм, классическая формула о пролетарии, которому нечего терять, кроме своих цепей, а приобрести он при удаче может весь мир...
С этой точки зрения Орловы были классическими пролетариями – им, оказалось, совершенно нечего терять! Батюшка их, ветеран многих сражений, состояния и поместий себе не составил, дни закончил всего-то нижегородским губернатором, полковником армейской пехоты, в генерал-майоры произведенным уже при выходе в отставку. То немногое, что после него осталось, пятеро братьев-гуляк уже давным-давно пустили по ветру, не имели никаких других источников доходов, кроме жалованья – а на него особенно не разгуляешься, ежели в округе столько кабаков, веселых девиц и карточных столов. Ни одна собака братьям уже не хотела давать в долг... чем не пролетарии?
А люди, повторяю, были отчаянными, как на подбор, и готовыми на все, лишь бы взмыть над своим нынешним убогим существованием. И тут оказывается, что Гришка состоит в полюбовниках не кого-нибудь, а самой великой княгини, которая, о чем уже давно шепчутся, не прочь спихнуть с трона опостылевшего муженька и пребывать на оном в одиночестве...
Вот это шанс, ребята! Аж зубы сводит! Риск, конечно, жуткий, но, с другой стороны, кто не играет, тот не рискует, а помирать, братцы, только раз!
Ядром любого заговора являются либо мечтающие о карьере азартные люди, либо обиженные. А обиженных имелось предостаточно – собственно, вся гвардия. Петр III уязвил ее до глубины души тем, что собирался отправить на войну, словно обычную, сиволапую армейскую пехоту. После Петра I, за редчайшими исключениями, касавшимися не всех гвардейских полков, а крохотной их части, гвардия не воевала вообще. Ей и так было хорошо: почетная и неопасная служба в столице, превосходство в чинах над простыми армейцами, парады, торжественные марши. И что же, месить грязь за тридевять земель от дома, подставляя лоб пулям и ядрам?!
Так что гвардия затаила на императора угрюмую, мрачную злобу. И сторонников у братьев Орловых накапливалось все больше и больше, это уже была не праздная болтовня под водочку, а конкретные планы с ясной целью...
К заговору помаленьку подключаются и персоны гораздо более весомые, нежели гвардейские поручики: Разумовские, митрополит новгородский Дмитрий Сеченов, известный дипломат Никита Панин и его брат, Петр, генерал, популярный в армии герой войны с Пруссией. И князь Репнин здесь, и состоящий при академии наук статский советник Теплов, человек не особенно великих чинов, но ученый, образованный, имеющий большое влияние на гетмана. Тут же – восемнадцатилетняя княгиня Дашкова (между прочим, родная сестра Елизаветы Воронцовой).
Правда, эта соплюшка никакой такой особенной роли в заговоре не играет – это ей только так кажется, что она тут самая главная персона. Так, суетится вокруг и около, простодушно полагая себя главной пружиной дела – но главное подготавливают совсем другие люди, о чем юной княгине не сообщает даже законный супруг (в отличие от нее, заговорщик серьезный и матерый, даже раньше Орловых предлагавший Екатерине поднять свой полк в ее поддержку – но тогда было еще не время, и Екатерина отказалась...)
Любой серьезный переворот требует денег. Екатерина поначалу обращается к французскому послу барону Бретейлю – но этот редкостный болван ее прозрачных намеков откровенно не понимает и не дает ни копейки (потом будет локти на себе кусать, когда его за редкостный идиотизм будут чуть ли не матом крыть в Париже: такой шанс упустил, дубина!).
На сцене появляется английский (снова Англия!) негоциант по фамилии Фельтон – у него Екатерина и занимает через своего агента итальянца Одара сто тысяч рублей. Именно эти деньги от имени «матушки» Орловы начинают понемногу раздавать гвардейцам в виде безвозвратных ссуд – с соответствующим агитационным обеспечением. Этот метод пропаганды у гвардии имеет большой успех...
Центром заговора становится не какой-нибудь кабак и даже не великосветская гостиная, а дом датского банкира Кнутсена, у которого квартирует Григорий Орлов. Банкир, в общем, в курсе. Злые языки потом будут втихомолку уверять, что Кнутсен впутался в это пахнущее плахой предприятие исключительно оттого, что Григорий ему задолжал чертову уйму денег – и вернуть их датчанин мог лишь в случае успеха предприятия. Сплетни эти чрезвычайно похожи на правду, поскольку лишены всякой романтики и основаны лишь на житейском расчете...
Петр III ничего не замечает, но обстановка накаляется, накаляется... Два нетерпеливых гвардейца, Пассек и Баскаков, даже приходят к Екатерине с предложением не мудрствовать, а попросту прирезать Петра. Петр с Елизаветой Воронцовой каждый вечер прогуливается в парке, на правом берегу Невы, по Петровской набережной – как обычно, без всякой охраны, даже без свиты. Ткнуть его кинжалом – проще простого, они, Пассек с Баскаковым, готовы лично...
Екатерина их отговорила – ей, надо полагать, вовсе не улыбалось оказаться замешанной в такую откровенную уголовщину. Если дело сорвется, получится очень уж неприглядно...
Кое-что все же просачивается, в заговор уже вовлечена масса народа, начинают болтать... К Григорию Орлову кто-то приставляет соглядатаем некоего Перфильева, но Орлов его, отнюдь не светоча сыска, моментально вовлекает в свои кутежи и успешно нейтрализует...








