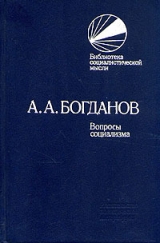
Текст книги "Вопросы социализма (сборник)"
Автор книги: Александр Богданов
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 44 страниц)
К своему идеалу рабочий класс идет через борьбу, но идеал этот – не разрушение, а новая организация жизни. И притом невиданно новая, неизмеримо сложная и небывало стройная. Следовательно, культура боевого сознания сама по себе не дает главного средства решения задачи; необходима выработка идеологии социально-строительной. В этом направлении уже идет пролетарская наука, в этом же направлении должно развиваться пролетарское искусство тем с большей энергией и скоростью, чем больше рабочий класс будет приближаться к осуществлению своего идеала.
В современной пролетарской поэзии у нас резко преобладает агитационное содержание. Среди тысяч стихотворений, призывающих к классовой борьбе и прославляющих победы в ней, среди сотен рассказов с обличением капитала него прислужников тонет все остальное. Это надо изменить. Часть не должна быть целым. Всестороннее углубление в жизнь, правда много труднее атаки для прорыва неприятельской линии; но в деле социализма оно еще необходимее, потому что только всестороннее понимание жизни, ее конкретных сил и ее путей даст опору для всеобъемлющего практического творчества в ней.
Граждански-агитационное сужение поэзии неблагоприятно отражается на самой ее художественности, которая, по существу, и есть ее организующая сила. Развивается господство шаблона, – как удержаться оригинальности в тысячах повторений? – и притупляется сочувственное восприятие, сливающее массу с поэтом…
Агитационное сужение художественных идей сказывается также в том, что капиталистов и примыкающих к ним буржуазных интеллигентов изображают в таких тонах, словно эти люди лично злые, жестокие, бесчестные и т. д. 69 Такое понимание наивно и противоречит коллективистическому методу мышления. Дело вовсе не в личных свойствах того или иного буржуа, и не против отдельных лиц должно направляться революционное чувство, революционное усилие. Дело – в позициях классов, и борьба ведется против социальной системы, против коллективов, с ней связанных и ее защищающих. Капиталист лично может быть даже и благороднейшим человеком; но, поскольку он представитель своего класса, его действия и мысли будут необходимо определяться его социальной позицией. Для сознательного пролетария даже в момент боевого столкновения он – враг не как личность, а как слепое звено в цепи, которую сковала история. Для победы над старым миром полезнее понять его в лучших его представителях и в высших его проявлениях, чем воображать, что там все злые люди и дурные мотивы…
В близком родстве с тем же агитационным сужением творчества находится одна недавно возникшая теория, по которой пролетарское искусство непременно должно быть «жизнерадостным» и восторженным. К сожалению, она имеет несомненный успех, особенно среди наиболее молодых и неопытных пролетарских поэтов, хотя иначе как детской назвать ее нельзя. Гамма коллективно-классового чувства не может и не должна быть так ограничена. Без сомнения, трудовому коллективу свойственно живое и яркое ощущение своей силы, но не надо забывать, что и сила иногда терпит поражения. Искусство должно быть прежде всего до конца искренним и правдивым, именно как организатор жизни: кого и что может организовать тот, кому не верят?
В мае нынешнего года вы читаете в рабочей газете такие стихи:
Иду я в сияньи солнца и весны…
Цветами алыми горит простор.
Сбылись несбыточные сны,
И души ввысь вознесены,
Как мощные вершины гор.
Какие дни, какой простор
В полях, в змеящихся ручьях,
В хрустальных зорях, в думах вечеров.
В крикливо-гулких поездах,
В улыбках лиц, в гирляндах слов —
Как бисер в алых лепестках цветов,
Сверкает радость в наших днях,
До дна, до недр своих глубин
Я алой радостью и солнцем напоен…
и т. д.
Это – те дни, когда в нашей стране действительно «сбылись несбыточные сны», и притом весьма «злые» сны – немецких империалистов, чему пролетариат не имел силы помешать. Это дни тяжелых испытаний и бедствий нашей революции, дни свирепого надругательства над нашими братьями на Украине, Кавказе, Финляндии, Прибалтике, дни мучительного утомления от огромных, подавляющих задач в нашем краю, дни разрухи и голода, дни полного расцвета всего проклятого наследия войны. Да, отчаянье недостойно борцов; но фальшь розовых очков еще более их недостойна: она – отрыв, бегство от действительности, лживая маска того же отчаяния…
Это низводит пролетарскую поэзию до уровня той, которая ставила своим девизом:
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…
Нет, не сладкие славословия, а непреклонная воля и стоическая гордость – вот что нужно окруженному врагами со всех сторон пролетариату:
Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinae.
«Пусть рушится мир, он бестрепетно встретит удары обломков». Древний поэт-индивидуалист знал, что есть истинное мужество. Тем более должен знать это поэт нового коллектива.
Во всей своей регулирующей работе наша критика пролетарского творчества должна постоянно иметь в виду одно: дух трудового коллективизма есть прежде всего объективность.
III
Критика пролетарского искусства со стороны его формы должна преследовать одну вполне определенную и ясную задачу: полное соответствие этой формы с содержанием.
Художественной технике пролетариат должен, конечно, прежде всего учиться у своих предшественников. При этом, естественно, является соблазн – брать за образец самое последнее, что выработано старым искусством. Тут легко впасть в ошибки.
В искусстве форма неразрывно связана с содержанием, и именно потому «последнее» не всегда бывает наиболее совершенным. Когда общественный класс выполнил свою прогрессивную роль в историческом процессе и склоняется к упадку, тогда неизбежно упадочным становится содержание его искусства, а за содержанием следует, приспособляясь к нему, и форма. Вырождение господствующего класса обыкновенно совершается на основе перехода к паразитизму. Следом за ним идет пресыщение, притупление чувства жизни. Из нее выпадает главный источник нового, развивающегося содержания – социально-творческая деятельность; жизнь пустеет, теряет «разумный», т. е. именно социальный, смысл. Пустоту стараются заполнить исканием новых и новых наслаждений, новых и новых ощущений. Искусство организует эти искания: с одной стороны, по пути возбуждения угасающей чувственности уходит в декадентские извращения; с другой стороны, по пути утончения и изощрения эстетических восприятий начинает до крайности усложнять и массой мелочных ухищрений стремится изукрасить свои формы. Все это не раз наблюдалось в истории, при упадке разных культур – восточных, античной, феодальной; наблюдалось и за последние десятилетия, на почве разложения буржуазной культуры: большинство направлений декадентствующего «модернизма» и «футуризма». Русское буржуазное искусство плелось за европейским, как и сама наша буржуазия, худосочная и дряблая, умеющая отцветать без настоящего расцвета.
Учиться художественной технике в общем и основном следует не у этих организаторов жизненного распада, но у великих работников искусства, порожденного подъемом и расцветом ныне отживающих классов, – у революционных романтиков и у классиков различных времен. А у «последних» можно учиться только мелочам, в которых они, правда, нередко большие мастера, – но и то с осторожностью, с оглядкой, чтобы, соприкасаясь с ними, не набраться зародышей гниения.
Печально видеть поэта-пролетария, который ищет лучших художественных форм и думает найти их у какого-нибудь кривляющегося интеллигента-рекламиста Маяковского [158]158
Несомненные сила и талант Маяковского, конечно, не в этих специфических особенностях его формы. – Прим. 1924 г.
[Закрыть]или еще хуже – у Игоря Северянина, идеолога альфонсов и кокоток, талантливого воплощения лакированной пошлости. У нас были великие мастера, которые достойны быть первыми учителями форм искусства для великого класса.
Простота, ясность, чистота формы этих великих мастеров – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Толстого – всего больше соответствуют задачам нарождающегося искусства. Конечно, новое содержание выработает неизбежно и новые формы; но исходить надо из лучшего, что было. Из новейших же надо изучать близких по духу и художественно-устойчивых, как Горький, а не далеких и изменчивых, которые то приходят к пролетариату, то уходят, как Андреевы, Бальмонты, Блоки и пр.
Наша рабочая поэзия на первых шагах обнаруживала пристрастие к правильно-ритмическому стиху с простыми рифмами. Теперь она проявляет все больше склонности к свободным ритмам и сложно переплетающимся, новым, часто неожиданным рифмам. Тут явно сказывается влияние новейшей интеллигентской поэзии; вряд ли его можно приветствовать. Новые формы труднее; борьба с ними – лишняя затрата сил, отвлекающая от главного, от выработки и развития художественного содержания.
Пусть будет даже некоторое однообразие в правильности. У него есть основания в самой жизни. Рабочий на заводе живет в царстве строгих ритмов и простой, элементарной рифмы. Среди «стального хаоса» станков и движущих машин переплетаются волны разных, но в общем механически-точных ритмов; при этом непрерывность более мелких и частых пересекается более редкими и тяжелыми, как цезурой или рифмой в стихе. Эти звуки своими бесконечно повторяющимися ударами выковывают по своей мере словесные образы, в которых работник с артистической натурой стремится вылить свои переживания.
Впоследствии, когда работнику станут более доступны ритмы живой природы, где меньше механической повторяемости и правильности, это однообразие сгладится само собою. Но преодолевать его путем подражания поэтам чуждой среды и обстановки – задача лишняя, увеличивающая трудности там, где их и без того много. Не случайно лучший до сих пор поэт-рабочий, Самобытник, не пошел по этому пути.
Самая трудная для молодой поэзии форма – это стихотворение в прозе. Отказываясь от рифмы и от явного ритма звуков, оно требует зато тем более строгого ритма образов, а в то же время и достаточной стройности звуковых сочетаний. Эти требования далеко не вполне выдерживаются в работе А. Гастева «Поэзия рабочего удара», где преобладают как раз стихотворения в прозе. Тут сказалась неопытность молодого творчества, увлекающегося на слишком трудные пока еще для него пути, может быть, просто по незнанию их действительных трудностей. Наша критика может дать большое сбережение художественных усилий, выясняя скрытые трудности разных форм, вопрос, которым мало интересуется старая теория искусства.
Насколько вообще необходимо новым работникам искусства знание его теории, тому живой пример – издательское недоразумение с произведением Бессалько «Катастрофа» 70 . Книжка названа «романом», тогда как на деле это – большой рассказ. Различие этих форм, довольно смутное в обычных теориях словесности, наша критика может выяснить сравнительно легко и точно. Постановка и решение организационной задачи в рассказе имеет эпизодический характер; в данном случае автор хотел показать, как дезорганизуется разнородный по составу революционный коллектив в обстановке крайнего угнетения и невозможности действовать. Если бы автор ставил и решал задачу в систематической форме – выяснял бы происхождение и развитие разных элементов революционного коллектива, условия, временно связавшие их воедино, объективную необходимость разложения и распада, и притом именно по таким, а не иным направлениям, то это был бы роман. Дело, разумеется, не в объеме: маленький роман может быть меньше большого рассказа.
Наша критика на своем живом деле создаст шаг за шагом новую теорию искусства, в которой найдет себе место и все богатство опыта старой критики, пересмотренное и заново систематизированное на основе высшей точки зрения все-организационной.
Надо заметить, что в иных случаях критика формы совершенно неотделима от критики содержания, фактически переходит в нее. Это особенно относится к вопросу о художественных символах. Такой символ есть живой образ, который служит особого рода знаком для целого ряда других связанных с ним образов, средством одновременно и организованно ввести их в сознание. Так, Тень отца Гамлета есть символ глухих отзвуков преступного дела, постепенно распространяющихся в социальной среде и раскрывающих его тайну. Великий Город в «Зорях» Верхарна есть символ всей организации капиталистического общества и т. под. Но, как живой образ, а не голый знак, такой символ имеет и свое собственное содержание, которое воспринимается притом в первую очередь: Тень есть призрак, Великий Город – какая-то столица. Это содержание само подлежит всем законам искусства и соответственной критике. Если бы, например, Тень отца Гамлета вела себя не так, как в народной фантазии полагается вести себя призракам, то получилась бы грубая нехудожественность. «Синяя птица» Метерлинка, при всей глубине своей идеи, не была бы великим произведением, если бы ее символы сами по себе не составляли красивой, стройной сказки, которая так нравится детям.
Наша критика, разумеется, должна касаться символов и с этой стороны, начиная с самого выбора символов.
Наше жестокое, грубое время – эпоха мирового милитаризма в действии – подсказывает художникам часто жестокие и грубые символы. Напр., положим, рабочий-беллетрист, чтобы особенно резко и строго выразить идею отказа от всего личного во имя великого коллективного дела, символизирует ее в убийстве героем любимой и сочувствующей ему женщины. Критика должна сказать, что такой символ недопустим: он противоречит самой идее коллективизма, женщина для коллективиста – не просто источник личного счастья, а действительный или возможный член того же коллектива. Или, напр., увлекшийся поэт [159]159
В. Кириллов. – Ред.
[Закрыть], желая выразить готовность бороться со старым миром до конца, не останавливаясь ни перед какими самыми страшными и тяжкими жертвами, угрожает:
Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы 71 .
Наш рецензент правильно, но слишком мягко по этому поводу заметил, что тут – «психология, а не идеология»; т. е., что поэт, отдаваясь потоку своего чувства, забыл о социальной организующей роли искусства. Это – символ в духе солдата, а не рабочего. Солдат может и должен бомбардировать Реймский собор, если там находится или предполагается неприятельский наблюдательный пункт, но что заставляет поэта выбрать этот гинденбурговский образ? Поэт мог бы только сожалеть о столь жестокой необходимости, но не воспевать ее. Когда само творчество настолько плывет по течению, это не возвышает его. Пролетарий никогда не должен забывать о сотрудничестве поколений, которое противоположно сотрудничеству классов в настоящем, – он не имеет права забывать об уважении к великим мертвецам, которые проложили нам дорогу и завещали нам свою душу, которые из могилы протягивают нам руку помощи в нашем стремлении к идеалу.
В вопросах формы искусства, как и в вопросах его содержания, наша критика должна постоянно напоминать художнику об его ответственной роли как организатора живых сил великого коллектива.
IV
Критика является регулятором жизни искусства не только со стороны его творчества, но и со стороны восприятия: она – истолковательница искусства для широких масс, она указывает людям, что и как они могут взять из искусства для устроения своей жизни, и внутренней и внешней.
По отношению к искусству старого мира наша критика принуждена даже и ограничиться этой задачей: регулировать его развитие она не может. Но по отношению к новому, нашему искусству та и другая задача одинаково насущны и огромны.
Тут дело вовсе не только в том, чтобы раскрыть символы, когда они могут быть непонятны, объяснить то скрытое в образах, чего, может быть, и сам художник не сумел бы для себя точно формулировать, сделать все выводы, до которых сам он, может быть, не успел дойти. Критика должна также указать и те новые вопросы, которые выступают на основе результатов, достигнутых произведением, и те новые возможности, которые из него исходят. Но самое важное – критика должна ввести для массы новое произведение в систему классовой культуры, в общую связь пролетарского мироотношения, в живых образах, конкретных и потому частных, найти и показать мировой смысл, раскрываемый все-организационною точкой зрения.
Здесь лежит путь, на котором наша критика сама превращается в творчество.
Простота или утонченность?
Художественное творчество свободно. Предписывать, навязывать ему простоту формы или требовать утонченности было бы нелепо. Но если мы знаем, из какого жизненного содержания художник исходит, для какого материала он ищет формы, то, опираясь на научную теорию, вполне возможно заранее определить, какая из двух тенденций является естественной в данном случае, а следовательно, и наиболее соответствующей задаче; а отсюда получатся выводы о вероятности успеха и неуспеха работы, идущей в том или другом направлении. Таким способом научная критика может облегчить искания художника.
Пролетарская поэзия только нарождается; в своем развитии она неизбежно должна выработать новые, свои собственные формы; они еще не определились, они – предмет исканий. Но уже известно, по крайней мере в своей общей характеристике, ее основное содержание. Оно – вся жизнь рабочего класса: его миро-чувствование, миропонимание, практическое мироотношение, стремления, идеалы. Это именно то, что новый художник должен выражать, организованно воплощать в образах, создавая из их ткани новую живую связь для своего классового коллектива, связь, способную дальше расти и расширяться до общечеловеческой. Таково содержание, для которого требуются формы.
Исходить в выработке своих форм пролетарскому художнику приходится во всяком случае из чужих, из тех, которые даны старой культурою; иначе нельзя, потому что других нет: каждый класс учится у своих предшественников, чтобы, пользуясь их средствами, развить свою силу, свои новые средства труда и творчества – и тогда, конечно, отбросить прежние. Но старое многообразно: где учиться, чего искать? И здесь выступает, в ряду других, вопрос о простоте и утонченности: та и другая широко представлены в художественных формах прошлого и настоящего. Практически решить в пользу простоты, значит, учиться, главным образом, у великих мастеров прошлого, отделенных от нас рядом десятилетий, иногда целыми столетиями, таких, как, положим, Пушкин, Лермонтов, Байрон, Шиллер, Гете, и у тех, кто из позднейших ближе к ним в этом. Новейшие же школы старой культуры, сосредоточиваясь особенно на разработке формы, довели ее до такой сложности и утонченности, о каких и не помышляли их великие предшественники; стоит только сравнить хотя бы русских модернистов – Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого и других – с их общим учителем – Пушкиным.
Итак, вот новое содержание, входящее в жизнь; оно огромно по масштабу, исходя из миллионных масс; оно грандиозно по значению, заключая в себе невиданно революционную тенденцию в труде и борьбе всего человечества: оно ново, неразработанно, намечается грубо, проявляется сурово, стихийно. Как бы громадными глыбами обрушивается оно на старую жизнь, потрясая ее в самих основаниях. Что же, возможно вместить его в утонченные, филигранные формы, до которых довели свое искусство художники отживающего, внутренне пустеющего, мельчающего мира? Достаточно отчетливо поставить вопрос, чтобы ответ был ясен? Конечно нет. Только в могучей простоте форм найдет новый художник решение своей задачи; он не ювелир, он кузнец в мастерской титанов.
Валерий Брюсов издал, под названием «Опыты», сборник образцов поэтической техники. Первый же из этих образцов начинается так:
Моря вязкий шум,
Вторя пляске дум,
Злится – где-то, там…
Мнится: это к нам
Давний, дальний год
В ставни спальни бьет…
и т. д. – рифмы в каждом слове. А дальше – стихи с рифмами в середине, в начале, трехсложными, пятисложными, семисложными, с меняющимся ударением и т. д.; самые необыкновенные размеры, стихотворения в виде треугольника и такие, которые можно одинаково читать от начала к концу или обратно и пр. и пр. Мыслимо ли с подобными ухищрениями совместить не то что великое, а сколько-нибудь значительное, даже хоть просто разумное содержание? И если даже не идти до таких крайностей, но вообще стремиться к усложнениям и тонкостям формы, то не будет ли это неизбежно лишней растратой сил, ослабляющей дух работы и тем самым принижающей ее смысл? Разве не придется поэту, ради каких-нибудь трудных звуковых соотношений, жертвовать внутренней жизнью образов и идей, подбирая слова к словам? Форма художественная, как и всякая иная, имеет организационное значение. Это не что иное, как способ стройно сочетать элементы содержания, т. е. организовать его материал. Всегда и всюду способ организации зависит от подлежащего ей материала; форма не может не зависеть от содержания. И если усложненность формы соответствует содержанию уже развитому, но мельчающему, упадочному, то простота, характеризующая великих мастеров, связана именно с содержанием грандиозным и развивающимся или высоко развившимся, но еще не приходящим в упадок. Гете и Шиллер, а у нас Пушкин, Лермонтов отразили нарождение и рост новых сил жизни, подъем буржуазной культуры, оттеснявшей и подчинявшей себе старую, феодально-аристократическую. И с этой стороны они, конечно, более родственны работникам нарождающейся пролетарской культуры, которая, в свою очередь, должна сменить всю прежнюю, растворивши в себе ее лучшие элементы.
Как развитие капитализма заключало в себе нарождение и рост не только капитала, но и пролетариата, так и буржуазная культура в своей восходящей фазе скрывала в себе, хотя еще тогда и неуловимые, зародыши и возможности иной, высшей культуры. Капитализм развивал связь мирового сотрудничества; и как ни маскировалось оно его анархической борьбою от сознания людей, но великие организаторы чувства и мысли силою своего гения разрывали иногда эту завесу и поднимались до предчувствия, до смутного понимания коллективистического идеала. Поразительнее всех Гете. Он изобразил в «Фаусте» скитания человеческой души, которая ищет гармонии с миром, стройно-целостного существования. В чем же оно его, после долгих усилий и многих попыток, наконец находит? В труде, и труде не для себя, а на пользу коллектива, человечества. Тут еще нет, разумеется, завершенной формы коллективизма, нет идеала товарищеской связи, но есть такое приближение к нему, которое выходит далеко из рамок буржуазного сознания. Более того, Гете способен был возвыситься до коллективистического понимания труда вообще, и даже там, где для индивидуалиста оно всего более недоступно и неприемлемо, – по отношению ко всему делу своей собственной жизни. Вот что говорил он о себе за два месяца до смерти:
«Что такое я сам? что я сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, подмечал. Мои труды вскормлены тысячами различных людей, невеждами и мудрецами, умными и глупыми; детство, зрелый возраст, старость – все приносило мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свой жизненный строй; часто я снимал жатву, посеянную другими. Мое дело – труд коллективного существа, и он носит имя Гете» [160]160
Приведено в печатающейся теперь работе тов. Лихтенштадта (Мазина), убитого в прошлом году на северо-западном фронте Заглавие: «Гете Борьба за реалистическое мировоззрение». Работа во весь рост рисует фигуру Гете, как великого натуралиста и передового мыслителя своего времени.
[Закрыть].
Много ли даже теперь найдется социалистов, которые умели бы так объективно понимать роль своей личности в процессе труда и развития общества? И не ясно ли, что для нас, коллективистов, такие гении прошлого являются лучшими учителями, несравненно более близкими и родными, чем их вырождающиеся эпигоны?
Есть и новейшие великие поэты, близкие пролетариату, хотя и не являющиеся пролетарскими поэтами, – поэты трудовой демократии, социалисты-интеллигенты: бельгиец Верхарн 73 , латыш Райнис 74 . Их связывает с рабочим классом общий идеал; но стать прямыми выразителями и организаторами пролетарского художественного сознания они не могли, потому что воспитались и выросли в ином мире. И они, конечно, для наших молодых пролетарских поэтов учителя гораздо лучшие, чем все наши новейшие декаденты, модернисты, футуристы и пр., хотя бы и перешедшие со вчерашнего дня на сторону революции [161]161
Верхарна у нас еще более или менее знают по переводам Вал. Брюсова и других; Райнис же совсем мало известен – есть немногие переводы в «Латышском сборнике», изд. Горького. Но теперь печатается большая монография о нем тов. П. Г. Дауге, которая ближе с ним познакомит нашу публику. [ Дауге П. Г. (1869–1946) – один из основателей Латвийской социал-демократической партии, историк, публицист, доктор медицины. После II съезда РСДРП – большевик. Переводчик и издатель трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, И. Дицгена. После Октябрьской революции – нарком просвещения Латвии, затем на руководящей работе в органах советского здравоохранения Имеется в виду его книга «Райнис – певец борьбы, солнца и любви» (М., 1920). – Ред.].
[Закрыть].
Посмотрите, каковы даже крупнейшие из этих эпигонов, до чего они неустойчивы и ненадежны в своем содержании. Во времена спокойно-реакционные они заняты всецело индивидуальными переживаниями – эстетическими, эротическими, мистическими и т. д. Вспыхивает война, и они уже кровавые патриоты; приходит революция – и они охвачены пылом борьбы за высшие идеалы; затем злая реакция – и снова эротика, вплоть до всевозможных извращений, мистика, теософия и пр. и пр. Зинаида Гиппиус, лучше чем кто-либо их знающая, потому что сама принадлежит к их поколению, так характеризовала их поведение во время войны:
Хотелось нам тогда, чтоб помолчали
Поэты о войне.
Чтоб пережить хоть первые печали
Могли мы в тишине…
Куда тебе! поделались зверями:
Война, войне, войны!..
И крик, и клич, и хлопанье дверями, —
Не стало тишины…
А после вдруг – таков уж их обычай —
Военный жар исчез:
Изнемогли они от грозных кличей,
От собственных словес.
И юное довременно состарив,
Идут, бегут назад,
Чтоб снова петь в тумане прежних марев
На прежний лад…
Вопрос о «тишине», интересующий утомленную поэтессу, сам по себе, конечно, маловажный, помог ей хорошо оттенить постоянное стремление этих поэтов идти «по линии наибольшего шума». А когда линия оканчивается, они поворачивают туда, где, в сущности, и лежат источники их поэзии, к «туману прежних марев», к смутным переживаниям разлагающейся интеллигентской души. Так было с их зоологическим «военным жаром», будет и с революционным пылом, потому что это не случайность: таков уж их обычай, вернее, их социальная природа. И все юное быстро старится в их устах, всякое, даже великое содержание становится мелким и эфемерным в их ювелирно-отделанных формах… И у них-то учиться пролетарским поэтам?
И, однако, это бывает. Что же тогда получается? Вот маленькая брошюра, издание Московского Пролеткульта, – поэма М. Герасимова 75 «Мона Лиза». Герасимов по своему прошлому настоящий индустриальный пролетарий, металлист. Дарование поэтическое у него, несомненно, есть; это видно по его прежним произведениям, да и в той же «Моне Лизе» немало ярких и живых образов, стройных и звучных сочетаний слов. Но это – типичный продукт ученического подчинения тем поэтам, которые, хотя учились у великих мастеров, выражавших великое жизненное содержание, сами, за недостатком такого содержания, посвятили себя всецело на служение форме. Вл. Ходасевич 76 , разбирая стихотворную технику Герасимова (в журнале «Горн», № 2–3), указывает, как на его прямых учителей, на Бальмонта, Брюсова, Белого, отмечая, что только через них слышатся у него косвенные звуки наших классиков; Львов-Рогачевский 77 отмечает еще А. Блока, «под очевидным влиянием которого написана Мона Лиза» (особенно по отношению к замыслу и построению поэмы).
Первое, что поражает при чтении, это крайняя неясность, туманность формы. Трудно уловить не только общую художественную идею, но даже непосредственное содержание поэмы. Сразу очевидно, что поэма написана не только не для рабочих вообще, а даже и не для передовых пролетариев: они не станут ломать головы над метафорами и намеками автора, а пройдут мимо как занятые люди. Приведу целую маленькую главу (пятую) – что в ней хотел сказать автор?
На гулких улицах столицы
Дрожали зябко фонари,
Скользят от них в асфальтах птицы
И перья утренней зари.
Долбили многозвенным эхом
Копыта огненный гранит.
А Мона Лиза тайным смехом
Спалила синеву ланит.
На вздрагивающие плечи,
На розовеющий гранит
От фонарей упали свечи
В окладах золотистых плит.
Лицом к заплеванной панели
Поник в гранит моей тюрьмы
Заводские гудки пропели
Проникновенные псалмы.
Как ток, призыв сирены ранний
Пронзил неласковые дни,
А в корпусах фабричных зданий
Зажглись железные огни.
Электропламенные токи
Ее пылающей руки
Свевают снова с труб высоких
Мимоз венчальные венки.
И приблизительно так написана вся поэма. Читается вроде ребуса: есть образы, иные даже яркие, но связь их непонятна, а частью они непонятны и сами по себе, дешифрируй, кто хочет. Может быть, специалисты по новейшим школам «туманов» и «марев» сразу поймут; но много ли таких специалистов, и стоит ли для них писать? А если нет, то для кого? Или только для себя, чтобы «вылить свою душу», «свое настроение»? Но тогда зачем печатать? И главное, пролетарский поэт, не изменяя себе, не может стать на эту точку зрения; она противоречит его классовой природе – духу коллективизма.
Поэт прежнего типа, по существу, также идеолог некоторого коллектива – класса или группы. Но как он относится к этому коллективу, своей «публике»? Сознает ли он свою связь с ним, отдает ли ему свою душу, понимает ли себя как его выразителя и работника-организатора? Нет, потому что те классы и группы, построенные из обособленных личностей, чуждых друг другу, частью равнодушных, а частью и ожесточенно борющихся между собою за мелкие интересы, не могут порождать в своем идеологе чувства живого единства с коллективом. Там «публика» для поэта либо просто неизвестная величина, либо отчасти известная, но входящая в его расчеты лишь как орудие его карьеры, нередко даже – «чернь», неспособная вполне понять и оценить его творчество. Гете в посвящении к «Фаусту» говорит:
Неведомой толпе пою я гимн священный.
Чья самая хвала чужда мне и страшна.
(Перевод Холодковского)
А вспомните, как Лермонтов характеризовал ту ближайшую публику, которая окружала Пушкина и его самого, через головы которой они говорили к неизвестному читателю? «Презренные потомки известной подлостью прославленных отцов». Понятно, что о такой публике желательно как можно меньше думать, в процессе творчества ее необходимо вполне забывать, «творить» всецело из себя и для себя; и если поэт чувствует, что его дело шире и выше его маленького «я», то приписывает его «вдохновению», «Музе» – фетишам, под которыми скрывается голос коллектива, его опыт, его стремления, идеалы.
Иное – поэт пролетарский. Он воспринимает свой класс через ближайшую товарищескую среду – своей фабрики, союза, партии; для него это не просто чужие люди и не досадные конкуренты, среди которых надо пробиться, а сотрудники в деле жизни; и так как он поэт, то он чувствует это непосредственнее и сильнее других. Если же этого нет, то он сколько угодно может быть и пролетарием и поэтом, но пролетарским поэтом он не будет. Пролетарский поэт, следовательно, носит в себе свой коллектив, сливается с ним душою, с ним работает в поэтическом творчестве, как во всяком другом труде и борьбе. Стремление быть ясным для него неизбежно; ибо ясность – это доступность коллективу, это элемент коллективизма.
«Мона Лиза» не есть произведение пролетарской поэзии, хотя она и написана пролетарием, хотя в ней есть и картины завода, и прославление рабочего восстания, все это официально полагается. Всего этого мало. Внутренним сотрудником автора, регулятором его работы не был живой образ его коллектива. Этот образ был замещен представлением о тех немногих знатоках-ценителях, которые сами умеют говорить разукрашенными стихотворными ребусами, а среди пролетариев таких нет, да едва ли и будут… […]








