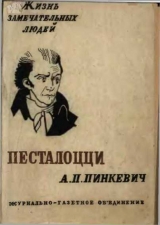
Текст книги "Песталоцци"
Автор книги: Альберт Пинкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Сам Песталоцци, напротив, и тогда не проявил себя организатором. Где он проявлял свой авторитет, – так, – по словам того же Губера, – отнюдь не царили ни порядок ни спокойствие: ребята, правда, были спокойны в присутствии учителя, они его боялись, так как он постоянно приходил в гнев и тогда был суров к виновным. Но лишь только он поворачивался к ним спиной – малые и старые смеялись над ним: никакой серьезной дисциплины не существовало».
Основным видом производительного труда, которому учились вместе с обучением письму, чтению и т. п., было пряденье хлопка, тканье на ткацких станках, одним словом – текстильное дело. Второстепенным производством было производство сельскохозяйственное, для девушек – шитье, вязанье, работа на кухне и т. п.
Учили детей и кое-каким предметам общеобразовательного порядка. Однако Песталоцци не считал эти предметы главными в своей школе. Во всяком случае, в сравнении с городской школой чтению и письму следовало уделить меньше времени. Кроме того, Песталоцци не считал неправильным, если дети учились читать и писать не на седьмом году, как в городской школе, а на девятом, так как для воспитания – в его понимании – время не было потеряно.
Самый ход обучения, вероятно, был таков, как он впоследствии был описан в «Лингарде и Гертруде». По крайней мере, и он сам и его современники об этом говорят прямо.
Посмотрим, как описывается обучение детей в этом романе.
Учитель – лейтенант Глюльфи – всех учеников своей школы разделил на три отделения: а) для детей состоятельных крестьян и не имеющих долгов. б) для детей состоятельных, но обремененных долгами и в) для безземельных бедняков. О первых двух отделениях лейтенант заботился очень мало, так как они должны были находиться там, где протекает деятельность их родителей, т. е. на полях и лугах, у хлевов и амбаров», где они и готовятся к своей будущей профессии. В школу они приходили только для того, чтобы там осмыслить свою внешкольную деятельность. Но основное внимание, лейтенант уделил третьему отделению, т. е. тому, которое по социальному составу детей больше всего напоминало Нейгоф.
Лейтенант полагал, что дети этого отделения должны были с самого же начала зарабатывать свой хлеб. Поэтому, первыми пособиями в его школе оказались прялки, ткацкие станки и т. п. С утра до поздней ночи сидели дети за работой, которую или они сами выбрали или выбрали за них родители. При этом они могли наблюдать работу учеников других отделений, что должно было гарантировать их от односторонности и ограниченности. Покончив со своими дневными уроками, дети имели право брать и другие работы с тем, чтобы изучить какую-либо иную ветвь промышленности с известным совершенством. Для того чтобы познакомить детей с мелким земледелием, учитель устроил при школе небольшой садик. У каждого ребенка было по три грядки, где он мог сажать, что хотел; тот. кто выращивал у себе наилучшие овощи и в наибольшем количестве, получал премию: этой работе посвящались преимущественно вечерние часы. Были у них свиньи, кролики и овцы, за которыми они ухаживали. Они учились обращаться с льном или коноплей от момента посева до того момента, когда они в виде тика или полотна попадают в руки портного или швеи; точно также с шерстью – от стрижки овцы до приготовления платья.
Надо думать, что в «Учреждении для бедных» Песталоцци ставил дело аналогичным образом. В своих отчетах о деятельности его учреждения, которые он публиковал в журналах то в виде писем к Чарнеру. то под другими названиями. Песталоцци подчеркивает, что режим его школы является благодетельным для детей – и в нравственном и в физическом отношениях. Так, в отчете 1778 г. он сообщает о девушке, которую намеревались отправить в дом для душевнобольных; в Нейгофе она оправилась благодаря тщательным уходу и руководству. Однако дети, привыкшие к нищенской жизни, с трудом поддавались влиянию новой для них среды, многие убегали, забрав с собою одежду и кое-какие вещи, но зато оставшиеся резко исправлялись, становились деятельными членами коммуны Песталоцци и даже его помощниками. В этом деле социального перевоспитания много вредили родители, часто видевшие в Нейгофском институте место, где можно поживиться, и отдавали своих детей или живших у них сирот на время, чтобы очень скоро потребовать приодевшегося и несколько поправившегося ребенка обратно При этом делалось это не прямо, а через самих детей. Приходили матери и начинали плакать над ребенком:
– Несчастное дитя, неужели ты теперь работаешь целый день?
– Дают ли тебе, по крайней мере, есть?
– Не лучше ли пойти нам вместе домой?
Эти вопросы или им подобные быстро приводили ребенка к плачу и требованию вернуться домой. Между тем, все расчеты Песталоцци, такие ясные и оптимистические, пока они были на бумаге, рушились уже благодаря этой текучести состава воспитанников: как только они немного выучивались и их продукция могла быть источником некоторого дохода, они уходили, их место занимали новые, которых нужно было снова учить, одевать, приучать к распорядку, и очень часто с тем же результатом.
Сизифов труд! Но Песталоцци не сдавался.
Некоторые из его друзей высказывали предположение, что проще можно было бы достичь необходимой выучки, посылая детей на фабрики (мануфактуры), которые в это время были распространены в Швейцарии. Песталоцци решительно против этого. «Справедливо говорится. – пишет Песталоцци, – что дети на фабриках в скверном воздухе используются как машины, ничего не слыша ни о нравственности ни о долге, где их тело, голова и сердце одинаково подавлены… Избави вас боже от того, чтобы мы считали подобные условия подходящими для воспитания бедняков»…
«Фабрика не годится для того, чтобы стать действительным местом воспитания, так как она зачастую требует такой работы, которая сводится к весьма немногим движениям руки… Напротив, промышленно-воспитательное учреждение требует развития различных способностей и навыков, там нет места никакой односторонности».
Песталоцци отклоняет работу на производстве, так как она развивает только некоторые, выгодные – в данный момент – для предпринимателя стороны человека, она не ставит себе задачи всестороннего развития, а это требование выдвигается Песталоцци, как одно из основных, уже теперь. Это еще не наше требование политехнизма, так как мы представляем политехнизм как «часть коммунистического воспитания», а во всей деятельности Песталоцци, конечно, ничего коммунистического не было (от коммунизма он был дальше, чем даже Томас Мор или Томазо Кампанелла. а тем более аббат Морелли). Однако эти высказывания Песталоцци ставят его в ряд предшественников нашей политехнической школы, школы Маркса и Ленина. В нашей стране мы используем в педагогических целях работу детей на производстве; эта работа вводит детей во все главные отрасли производства, а не делает их рабами той или другой специализированной операции. Песталоцци не сумел понять прогрессивного значения привлечения детей к фабричному производительному труду, и политехническая школа, наша советская политехническая школа, выросла не из «домов для бедных детей», а именно из фабричной системы, как пишет об этом Маркс. Однако то, что Песталоцци впервые поставил на реальную почву вопрос о соединении истинного производительного труда с обучением, опередив тем на многие годы своих современников, ставит его в наших глазах очень высоко.
Песталоцци начал новое дело свое в тот момент, когда его материальное положение было исключительно плохо Но вера в правильность намеченного мм пути была настолько велика, что он с необычайной энергией кинулся за его организацию, обращался к десяткам людей и, наконец, нашел новых друзей, принявших самое горячее участие в деле. Среди них одним из первых нужно назвать Исаака Изелина (1728–1782), сыгравшего в жизни Песталоцци исключительную роль. Изелин – секретарь Большого совета города Базеля, был известен и за пределами Швейцарии своими философскими и педагогическими сочинениями. Сам склонный ко всякого рода утопиям, весьма образованный представитель эпохи «просвещения», поскольку она отразилась в Швейцарии, он почувствовал незаурядность Песталоцци и приходил к нему на помощь в самые тяжелые для Песталоцци моменты. Он горячо поддерживал Песталоцци в деле организации «учреждения для бедных», сам занялся пропагандой нового дела, нашел большое количество подписчиков среди базельцев. В числе сочувствующих эксперименту Песталоцци были и Лафатер, старый знакомый Песталоцци, и книгопродавец Фюссли и мн. др.
Родственники отнеслись к предприятию Песталоцци, как к новому чудачеству, к новой глупости, что буквально выводило их из себя.
Один из Шультгесов, а именно Иоганн Каспар, пастор в Нейенбурге, писал своему брату Генриху, булочнику в Цюрихе:
«Я заклинал Песталоцци отказаться от своего беспочвенного плана – воспитывать детей на деньги, собранные по подписке, но заняться более серьезными делами и понять указание Провидения – воспитать самого себя и своих близких».
На это «пасторское» письмо Шультгес-булочник отвечает более конкретно:
«Песталоцци воображает, что если его план воспитания бедных покинутых детей Бернской области найдет успех у господ из Берна, то он сумеет при помощи достаточной поддержки путем подписки улучшить свое положение. Однако, по моему мнению, он связывает себе руки слишком большими обещаниями. Крепким орешком обернется Песталуцу (вульгарное на Песталоцци) это дело – учить детей читать и писать».
От этих людей Песталоцци не мог ждать ни понимания, ни помощи.
Почти шесть лег бился Песталоцци, как рыба об лед. По существу, все было против него: и его собственная непрактичность, и отсутствие организаторского таланта (он никогда не знал середины в отношении к людям: или он им беспредельно доверял, или он бешено их ненавидел), – его постоянно обманывали люди, которых он приглашал к себе на службу, и глухое противодействие местных властей, и основная порочность всего предприятия (оно не могло окупиться трудом детей), и текучесть детского состава, и сельскохозяйственные неудачи (два года подряд град побивал все посевы), и неумение торговать и т. д.
Песталоцци проводил целые дни с детьми, он был их учителем, отцом, братом, другом, товарищем. Он отдавал всего себя, от надежды переходил к тяжелому и почти буйному отчаянию, снова оживал и снова кипел в этом мире, где было пятьдесят человек, из которых только два-три человека понимали его.
При поддержке таких друзей, как Изелин, такой жены, как Анна, он продержался почти шесть лет. Срок немалый, если принять во внимание все трудности ведения Нейгофского института для бедных детей.
Песталоцци, наконец, сдался. В 1780 г. «Учреждение для бедных» было ликвидировано. Детей распустили, долги с помощью друзей кое-как были уплачены, однако не совсем – они долго еще висели тяжелым грузом на всем хозяйстве Песталоцци; Песталоцци в течение восемнадцати лет не пускается ни в какие «авантюры», превратившись в нейгофского отшельника. Но воспоминание об «Учреждении для бедных» преследует его всю жизнь – до самой могилы, воспоминание о неисполненной прекрасной задаче жизни, задаче, оставшейся неразрешенной только благодаря его собственной беспомощности, собственному неумению – иных причин неудачи Песталоцци так и не увидел.
Как незажившую рану пронес Песталоцци это воспоминание – через славу романиста, через признание его заслуг революционной Францией, через мировую популярность реформатора школьного обучения. Он расценивал свою неудачу в Нейгофе как невыполнение своего долга перед народом, потому что почти вся его практическая деятельность после этого (за исключением краткого периода работы в Стансе и Бургдорфе) была далека от прямой, от непосредственной помощи беднейшим, крестьянам-беднякам, а в этом он видел смысл своей жизни.
Крушение нейгофского опыта было для Песталоцци не крушением отвлеченной теории, но крушением всей жизни, – оно было трагично в своем существе.
Характерна заметка в дневнике прочитанных книг– 1785 г. – через пять лет:
«Профессиональное образование есть основа для достижения всех этих трех (основных А. П.) целей (воспитания А П)… Если бы захотел бог, я мог бы в тиши провести мое предприятие, думая о ближайшем и современном и забывая все остальное… Но этого и не хватает мне, бедному, который привык больше мечтать, чем действовать».
А действовать он хотел больше всего.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПЕСТАЛОЦЦИ – ПИСАТЕЛЬ
(1760–1796)
«Своей деятельностью я хотел повлиять на глубоко меня волновавшее положение народной культуры моего отечества и при помощи таланта (литературного), который во мне теперь признавали, обосновать народное счастье путем народной правды».
(Песталоцци)
Учреждение для бедных было закрыто. Песталоцци находился буквально на пороге нищеты. Он употреблял отчаянные усилия, чтобы выпутаться из долгов. Еще в ноябре 1779 г., следовательно еще до закрытия «учреждения», он продал около 10 гектаров своего участка вместе с надворными постройками своему брату Баптисту. Судя по некоторым данным, брат землю получил, но денег не заплатил. Несколько позже он продаст «фабричные» постройки брату жены и еще 5 гектаров пахотной земли. Это были последние отчаянные попытки сласти свое предприятие, но скоро стало очевидным. что долги превышают все состояние Песталоцци, что с каждым днем существования приюта он запутывается все больше, и Песталоцци остался один с тяжело больной женой в опустевших комнатах своего дома. Все даже самые близкие люди, родственники и друзья признали его окончательно погибшим.
Я в своем доме, – пишет Песталоцци, – имел много друзей, но почти у всех них потерял и последнюю искру доверия Они любили меня, но в общем не надеялись на меня. Среди всех окружавших меня были а ходу слова, что я погибший человек и что мне нельзя больше помочь. Дело доходило до того, что лучшие мои друзья, подавленные этим общим суждением и полные сострадания, как только замечали меня на одной стороне улицы, переходили на другую, чтобы не быть вынужденными терять слова, которые им самим причиняли боль, а мне не могли помочь, так как, думали они, мне вообще уже нельзя помочь. Книгопродавец Фюссли, бывший почти единственным человеком, с которым я мог откровенно поговорить о своем положении, говорил мне в это время, что мои старые друзья считали почти решенным делом, что а кончу свои дела или в госпитале, или даже в сумасшедшем доме.
Но Песталоцци недаром говорил, что страдание идет для него на пользу, В самые тяжелые моменты своей жизни он нашел в себе силы. чтобы подняться и подняться так, что спустя 5–6 лет после гибели его «учреждения для бедных» о нем заговорила вся образованная Европа.
Он стал писателем.
Вряд ли, конечно, его можно было назвать писателем-профессионалом. однако с 1780 до 1798 г он главным образом занимался тем, что писал и печатал свои книги.
За эти 18 лет им написана большая часть произведений. В этот период он написал такую большую вещь, как роман «Лингард и Гертруда» (1781–1787), в 4 томах, большой комментарий в диалогической форме к первому тому «Лингард и Гертруда» – «Кристоф и Эльза» (1782), заново переработал роман «Лингард и Гертруда» в 3 томах (1790–1792), наппиал ряд публицистических и философских статей, из которых наиболее известными являются следующие: «Вечерний час одного отшельника». «О законодательстве и убийстве детей», «Да или нет?» и другие статьи, посвященные французской революции, «Мои исследования относительно природы и человеческого рода» и др.
В начале этого периода он издает маленький журнальчик «Швейцарский листок», в конце – уже в период швейцарской революции – он редактирует официальный орган нового правительства «Гельветический народный листок». В это время он вступает а непосредственное общение с целым рядом крупнейших мыслителей Европы, и его имя, как писателя-моралиста проповедника нового отношения к беднякам, крестьянству, становится широко известным.
Его материальное положение в продолжение всего этого периода остается весьма неблестящим, хотя некоторый скромный минимум ему обеспечен. Он живет то в Нейгофе. то в Цюрихе и в других местах Швейцарии. Он часто совершенно одинок, так как жена болеет и живет в Цюрихе а сын Яков учится с 1783 г. а Кольмаре, т. е. даже не в Швейцарии.
Как же начал свою литературную работу Песталоцци, что толкнуло его на это? По его мнению, это произошло случайно. Однажды, уже после гибели «учреждения для бедных», когда благодаря стараниям его друзей он начал понемногу выпутываться из долгов, он «в веселый час» написал небольшую статью, высмеивающую попытку цюрихских властей придать городской страже военный блеск» Эта статья называлась: «Забавная повесть о превращении кривых, запыленных, нечесаных городских стражей у наших ворот а пряных, причесаных и вычищенных». Эта статья попала к брату упомянутого выше Фюссли, художнику, который, внимательно прочитав ее. нашел талантливой. Он сказал книготорговцу: «Этот человек может себе помочь, если захочет У него есть талант писать так, чтобы в переживаемое нами время привлечь к себе известный интерес. Передайте ему это и скажите ему от меня, что он может, если захочет, стать писателем».
Когда это суждение было передано Песталоцци, он с той страстностью, которая его всегда, а в особенности в начале нового дела, характеризовала, принялся за писание небольших рассказов Как он сам говорит, ему сперва казалось маловероятным, что из него может выйти писатель, ибо «под гнетом судьбы я так опустился, что сразу не мог написать ни строчки, не сделав при этом ошибки, и считал себя совершенно неспособным к этому делу, что бы ни говорил Фюссли».
Первоначально ни один из рассказов не понравился автору. Наконец, он натолкнулся на сюжет «Лингарда и Гертруды», рассказ о котором, по утверждению Песталоцци, «сам собою развился», хотя автор и не имел никакого предварительного плана Роман был закончен почти в один присест «Через несколько недель явилась книга, – рассказывает автор, – хотя я собственно не знал, как это случилось. Я чувствовал ее значение но лишь как человек, который во сне чувствует цену счастья, о котором он только что мечтал. Я едва сознавал, что не сплю».
Песталоцци показал рукопись одному из своих друзей, друг этот нашел сочинение интересным, однако признал, что написано оно не очень грамотно, нелитературно, а потому его нужно передать кому-нибудь для литературной обработки. Песталоцци на это согласился; нашли какого-то литератора и дали ему для обработки 3–4 первых листа этой книги. Через некоторое время литератор возвратил листы в переработанном виде. Песталоцци пришел в ужас, когда увидел, во что превратилось его сочинение: «это была чисто богословско-студенческая работа, которая исказила естественную картину крестьянской жизни, как она была просто и безыскусственно изображена мною в ее неприкрашенном, но верном виде… Он заставил крестьян в трактире говорить деревянным языком школьного учителя, что не оставило моей книге ни тени оригинальности».
Он обратился к известному нам Изелину, у которого нашел восторженную оценку работы. Изелин немедленно списался с издателем а Берлине, который принял к изданию книгу, заплатив автору по луидору за лист, и книга довольно скоро вышла в свет. Это была первая часть четырехтомной работы. Через некоторое время Песталоцци приступил к продолжению романа и в течение шести лет вышли остальные три части.
Роман «Лингард и Гертруда» имел большой успех, во всех журналах появились весьма положительные оценки, все календари и альманахи были переполнены выдержками из этого романа, кстати сказать, не подписанного автором. Экономическое общество в Берне тотчас же после появления книги присудило Песталоцци премию и большую золотую медаль. Злополучный автор не мог продержать этой медали у себя даже несколько дней, он поспешил ее продать, так как роман, принеся ему известность, денег дал ему очень мало.
Перечитывая сейчас его произведения и в частности его роман, мы не можем признать, что Песталоцци, обладал большим художественным дарованием. Роман изобилует длиннотами, невыносимо слащав и сантиментален. Однако роман «Лингард и Гертруда» заслуживает того, чтобы с ним познакомиться ближе. Это социальный роман, где вопросам воспитания уделено много места, но вопрос о народном просвещении является только одной из социальных проблем, здесь затронутых. Кроме того, этот роман автобиографичен в том смысле, что устами положительных его героев Песталоцци высказывает свои самые заветные мысли.
Центральными фигурами романа являются Гертруда, жена каменщика Лингарда, образец матери и воспитательницы, помещик Арнер, стремящийся создать новую деревню путем ее оздоровления во всех отношениях, и, наконец, пастор Эрнст, представляющий, с точки зрения Песталоцци, идеал высоконравственного служителя религии, воспитывающего народ, но не погрязшего в церковных обрядах. Эти трое с помощью учителя Глюльфи, бывшего лейтенанта, ставят себе задачей создать новый народ, новых людей, изменяя те общественные и отчасти экономические условия в которых жила тогда швейцарская деревня.

Гертруда у помещика Арнера
Фабула романа очень проста. Гертруда воспитывает своих детей, воспитывает своего мужа отрывая его от кабака и создавая из него дельного работника, воспитывает своих односельчан, показывая пример трудолюбия и высокой моральности. Она является деятельной помощницей помещика и пастора в деревне, через нее и через некоторых близких к ней женщин помещик и пастор влияют на всю деревню.
Всем этим добрым намерениям противодействуют некоторые темные силы, как в самой деревне в лице сельского старосты (фогта) и содержателя трактира Гуммеля, так и при дворе герцога в лице некоего Гелиодора, являющегося наперсником доброго, но безвольного Герцога. Само собою разумеется что и при дворе находятся также идеальные личности, понимающие идеи Арнера и помогающие ему, разоблачая происки Гелиодора. Таков, например, министр Биливский.
Гертруда, Арнер, пастор, Биливский, Глюльфи и некоторые другие персонажи романа Песталоцци высказывают мысли Песталоцци решительно обо всем на свете: и о религии и о воспитании, и о суеверии, и о труде, о воровстве и половом влечении, о бессмертии и истине и т. п. Конечно, как и следовало ожидать, в этом романе много отведено места воспитанию. Недаром на памятнике Песталоцци в Ааргау написано между прочим: «Народный проповедник в Лингарде и Гертруде». Действительно, Песталоцци своей задачей в этом романе поставил показать, как должен быть воспитан народ, какие должны быть учреждены законы, чтобы можно было обеспечить всему населению и прежде всего беднякам сытую, счастливую жизнь. Как мелкобуржуазный утопист. Песталоцци не видел другой силы, кроме власть имущих, и полагал, что только таким путем т. е. путем реформ, идущих сверху, можно создать новую, лучшую жизнь в народе. Трудно, конечно, было от него ожидать чего-либо иного. Если даже полвеком позже зачинатель английского социализма Оуэн и знаменитый утопист Фурье одинаково надеялись на власть имущих в отношении осуществления их утопии, то тем более естественно было ожидать этого от Песталоцци. Ему казалось таким естественным: убедить князей, герцогов и помещиков в том, во что он верил, внушить им правильные идеи в отношении народа, и тогда, тогда – все пойдет как нельзя лучше.
Для нас этот роман имеет то значение. что устами Арнера, пастора, Биливского и других автор высказывает свои мысли, пропагандирует свою систему взглядов. Подобно многим другим утопистам Песталоцци обставляет свое сочинение большим количеством конкретных расчетов. которые должны были создать видимость чего-то реального, чего-то легко осуществимого.
«Было ясно как день, – пишет Песталоцци. – что деревня, которая с земледелием соединяет промышленность и так умело пользуется своими сбережениями, как делают это города при хорошем управлении и дома горожан при умелом руководстве, что такая деревня может составить капитал, процентами с которого можно погашать все подати, лежащие на земле… Ясно было, что при помощи этого неизмеримо увеличиваются силы государства, достигается упрощение всех государственных налогов: права человечества обеспечиваются за низшим классом; получается народное образование, соответствующее потребностям промышленности, и увеличивающееся благосостояние… Ясно было. что единственно возможный путь для осуществления чего-либо, действительно облагораживающего людей, основывается на разумной подготовке народа к промышленной деятельности».
Здесь, как мы видим, Песталоцци повторяет и свою старую мысль о пропаганде профессионального образования среди крестьян с тем, чтобы, подготовив их к работе в промышленности, сделать этим самым их зажиточными и независимыми. Это действительно лейтмотив всей повести. Идеал крестьянской женщины. Гертруда достигает исключительных результатов а устройстве своего дома, главным образом потому, что она организует пряденье у себя на дому. Помещик стремится насадить в деревне различные ремесла с той же целью; наконец лейтенант Глюльфи в своей школе соединяет обучение с производительным трудом. В романе осуществляется то, что так неудачно пытался провести в жизнь сам Песталоцци.
«Лингард и Гертруда» дает полную возможность представить систему общественно-политических и педагогических взглядов Песталоцци. В соединении с другими работами этого периода, как, например, со статьями и рассказами, напечатанными в Швейцарском листке», с «Кристофом и Эльзой», а также с «Вечерним часом одного отшельника», этот роман может служить основой для полной идеологической характеристики Песталоцци в 1780–1789 гг… т. е. в период, предшествовавший Великой французской революции.
Попробуем на основании этих работ показать основные черты мировоззрения Песталоцци в это время.
Какого класса черты характеризуют мировоззрение Песталоцци? На этот вопрос нетрудно ответить и на основании того, что нам уже известно о деятельности Песталоции, и на основании его работ.
Решительно всегда Песталоцци выступал на стороне и в защиту эксплуатируемого крестьянства. С мыслью о помощи ему он направился в деревню, ради него он строил «учреждения для бедных», его роман представлял собою наивный и утопический план освобождения крестьянства от эксплуатации, от нищеты и бесправия. С этой мыслью он начал свою деятельность, этим же и кончил. Ему не всегда удавалось добиться того, чего он хотел, но от этого не может измениться классовая характеристика Песталоцци.
Как типичный идеолог того класса, с чьей судьбой он хотел связать свою судьбу, он не был последователен и всю свою жизнь метался между реакцией и революцией. Он разделял бесспорно реакционное убеждение о том, что «все зло идет от города» и что восстановление многих старых добрых патриархальных обычаев в крестьянской среде является одним из условий оздоровления крестьянства. Он считал главной задачей крестьянства укрепление его мелкой собственности и находил что это можно лучше всего сделать тогда когда крестьянин приобретает соответствующее его положению образование. Приспособляясь к новым условиям, он хочет застраховать крестьянина от разоряющего проникновения во все поры сельской деревни хищного торгового капитала; он не понимает однако, что этого совсем не достаточно для того, чтобы спасти крестьянство. Он глубоко ненавидит богатых. ненавистью бедняка-крестьянина, который мечтает о том чтобы стать самому зажиточным и самостоятельным хозяином. Во всем его романе богачи изображены как враги тех улучшений, которые вносит благодетельный Арнер, который наделен чертами какого-то необыкновенного героя. Он умеет найти яркие образы я своих статьях и в своих беллетристических эскизах, стремясь завоевать для бедных симпатии «человечества», т. е. главным образом состоятельных классов. Он не замечает при этом, что его выступления должны вызвать со стороны этих последних только возмущение и ненависть.
Вот, например, в своем «Швейцарском листке» 24 января 1732 г. он публикует статью, где в образной форме едко издевается над аристократией.
Это – «сцены с натуры провинциальной Франции», как предусмотрительно пытается замаскировать свой замысел Песталоцци.
Сцена первая изображает пышный богатый дворец некоего маркиза и двор перед ним. На дворе стоит женщина, с ней дети. Женщина молит одного из служителей маркиза отпустить арестованного за браконьерство мужа. Служитель неумолим, женщина и дети плачут. Выходит прислуга и несет пойло для охотничьих собак. Дети кидаются к ней и просят ее дать это пойло им вместо собак. Прислуга уступает их просьбам. Голодные дети быстро пожирают болтушку для собак.
Сцена вторая: Внутренность дворца, богатая обстановка. Маркиз… граф. аббат, гости. Ведется салонный разговор о борьбе в Америке. о борьбе против рабства, о сочувствии всех этой освободительной борьбе, ибо, как выражается аббат, «без свободы человеческая жизнь ничего не стоит». Маркиз с этим совершенно согласен, все прославляют освободительную войну в Америке Но вот одна из приглашенных прерывает этот разговор возгласом: «Боже мой, что же происходит у нас во дворе!» Все общество кидается к окну.
Сцена третья: Снова двор перед окнами замка. Дети, накинувшись на собачье пойло. отравились этой едой, часть из них без чувств, остальные стонут от боли. Мать не знает, что с ними делать. В это время входит дворецкий, который по поручению маркиза выясняет, что произошло Он возмущен тем, что здесь допустили шум, что дали есть детям и собирается выгнать всех со двора. В это время его зовут в дом.
Четвертая сцена: Снова зал во дворце. Маркиз и все остальные возмущены тем, что какая-то крестьянка ворвалась во двор замка. Они утешают девушку, поднявшую крик, причем маркиз, извиняясь перед гостями, говорит:
– Да, это большое несчастье, что нельзя даже в наших замках совершенно застраховаться от таких случаев Кроме того допущена очень большая ошибка, окна выходят во двор, надо было бы их вывести в сад.
Аббат и остальные гости с ним совершенно согласны. Аббат замечает при этом:
– Из-за этой черни мы совершенно забыли о наших победах в Америке и о борьбе Америки за свою свободу.
Входит дворецкий и докладывает о том. что произошло во дворе. Маркиз возмущен:
– Это же бесчеловечно кормить детей такими вещами! Заключите под арест прислугу, которая накормила детей, на 24 часа, а эту дрянь выбросьте немедленно со двора и пусть привратник не смеет пускать никого во двор.
Гости одобряют решение маркиза, один из них – граф, поддерживая хозяина, говорит:








