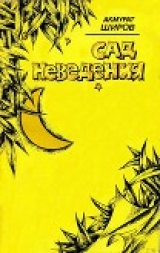
Текст книги "Сад неведения"
Автор книги: Акмурат Широв
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
4. Съевшая ишачину
За городком был пустырь, где резвился табун бездомных ишаков. Пустырь покрыт соляной коркой. Кое-где на нем росли кусты тамариска с цветами, напоминающими румянец на щеках чахоточного. За пустырем стояла одинокая лачужка, сколоченная наспех из фанерных ящиков, ржавой листовой жести и выгоревшего шифера. В этой лачужке, вдали от людей, жила старая женщина по прозвищу «Съевшая ишачину» с молодым сыном. Она была блондинкой (крашеной), с темными толстыми корнями волос над морщинистым лбом. Рот ее всегда был приоткрыт, зубы крепкие, неровные, глаза – хмельные. Некоторые злоязычники, встретив ее, тыча пальцем, восклицали: «Смотрите, вот идет съевшая ишачину! Гутен таг! Хайль!» И, нагнувшись, смотрели ей в зубы – нет ли между ними остатков ишачьего мяса, съеденного лет двадцать назад?
Она, презрительно плюнув в сторону забавляющихся, орала: «Нате, ешьте». И жители, довольные шуткой, хохотали. Она проходила с нарочитой гордостью.
Во время войны, в поисках хлеба и тепла, она с малолетним ребенком на руках попала в эти края, выжила, вырастила сына. Она ловила бездомных ишаков, убивала их и заготавливала мясо на зиму. Неужели за это можно было ее так презирать? Почему люди такие бессердечные? Она же ела всего-навсего непривычное мясо!
Если мама пекла чуреки или готовила казан еды, Бакы подходил к ней и просил:
– Мама, можно Марту-апу угостить?
И, не садясь за стол, он бежал со свертком к лачужке через пустырь, где резвились бездомные ишаки. Лачужка издали казалась грудой мусора. Чтобы ветер не разбросал ее, – все-таки жилище, убежище, свой угол,– она была обвязана проволокой, утяжелена кирпичными обломками.
Бакы стучался в подобие двери, но долго никто не отзывался, потом показывалось пьяное лицо с всклокоченными волосами:
– Кого еще черт носит? А-а, это ты, барчук? Ну давай, что там у тебя? О-о, лепешки свежие, урюк, плов! Дай тебе аллах счастья!
Он сразу же убегал.
Сердце бешено стучало, кровь приливала к вискам. Он не знал: стыд испытывал или счастье, или сердце волновалось от предчувствия собственной судьбы, подготавливаемой его интересом к этим несчастным.
Отдышавшись, глядя на вольно, бездумно резвящихся ишаков, он говорил себе: больше не пойду! Это последний раз! Ишакам было хорошо. Этот пустырь был их волшебным садом.
Какие там были ишаки! Они были счастливее, кокетливее их домашних, привязанных к колам бедолаг.
Но не выдержал, не сдержал свое слово, и через неделю снова прибежал к Марте-апе с угощением.
– А-а, барчук? Что ты нам в этот раз притащил? Она вынула куски вареного мяса, завернутые в тонкие пресные лепешки, гранаты, орехи...
– Что, решили посочувствовать, да? По-вашему, я нуждаюсь в этом, так, что ли? Ошибаешься, барчук! Я на жизнь зарабатываю вот этими руками, видишь? У нас кто работает, тот не пропадает! Я не нуждаюсь в вашем «барском» добре! Мама тебя посылает, да? Хочет убедить себя, что в достатке живет? С каких это пор у нее достаток? Я что, забыла, как она жила? Откуда достаток? Может, вы чужое воруете, народное добро, а? Отвечай!
Она схватила все и швырнула на помойку.
– В люди выбились! Дом построили! Животных завели! Ах вы, мерзавчики! Я живу честно, понятно! Мне хватает на хлеб и вино! И чтоб ноги твоей тут не было, ферштейн? Кулаки!
– Почему она хуже нас живет? – мама была взволнована. – Нет у нас перед ней вины! Она же не хочет отстроиться, лучше жить. Все тратит на вино. А у нас свой сад, огород, коровы, барашки. Мы с отцом с утра до ночи на ногах. Шелковичных червей держим три раза в год, когда люди и раз в год не хотят, ночами я ковер тку. Да и заем наш выиграл. Вот почему!
– Зачем? – спросил он.
– Как зачем? На калым тебе собрать. Вырастешь, захочешь семью свою иметь. Ради вас, детей, гнем спину.
Однажды Бакы услышал, как мамина знакомая шепнула ей:
– Зачем посылаешь ребенка к Марте? Не знаешь, что она живет с сыном?
– Как? – побледнела мама.
– Все говорят...– сказала гостья, спрятав лицо в ладонях.– Чего только не узнаешь! Каждый день какая-то новость! Видно, будет скоро конец света, Эсси-джан!
– Тоба, что творится, тоба! – повторяла ошеломленная мама.
Бакы не понимал, о чем идет речь, но выражение лица, тон, жесты гостьи не вызывали у него доверия. Вроде она чем-то возмущалась, кого-то осуждала за что-то, но почему-то при этом выглядела возбужденной, «чуть ли не радостной. С кем же Марте-апе жить, как не с сыном! Что в этом предосудительного?
Была весенняя слякоть, накрапывал мелкий дождь. Длинная вереница школьников растянулась по узкой тропинке на холме, ведущей из школы в лачужку.
Вся школа пошла смотреть на самоубийцу, и даже преподаватели, отменив занятия. До этого о самоубийцах читали только в книгах. Потому и учителям было интересно – как все выглядит на практике. Самоубийство было редким явлением в этих краях. Обычай запрещал накладывать на себя руки. Самоубийство – не выход, а самообман. Человек должен, обязан дожить до естественной кончины, что бы там ни случилось. Человек, умерший насильственной смертью, в бою или от несчастного случая, считался шехитом, жертвой. Мест, где случалась такая смерть, которые и являлись могилами, избегали. Там мог витать дух погибшего, не насытившегося этой жизнью. Погибнув до положенного срока, он не спешил отходить в иной мир и оставался доживать на своей могиле в виде призрака. Жители нередко утверждали, что видели, как светятся ночью могилы шехитов.
И вот произошло исключительное событие. И по учителям это было видно. Выстроив классы в аккуратные колонны, они вели их к месту происшествия. Учительница Халида заботливо поправляла скосившийся пионерский галстук Бакы. Все были исполнены серьезностью. В этих богом забытых краях случилось нечто необычное. Подобное оживление в городке вызовет потом полоска цветной тряпицы, едва прикрывавшая стан одной приезжей особы.
Семнадцатилетний сын Марты-апы Генрих застрелился из охотничьего ружья. Выстрел услышали, когда шли уроки. Все догадались, что это самоубийство и что это Генрих. Такой исход ожидался жителями и был им желанен.
Небо было задернуто тучами. Накрапывал дождичек. Многие держали над головой учебники, обернутые в газету, портфели. Учителя держали папки. Только Халида была с зонтиком, таким цветистым, праздничным. И в таком виде двигались по холму.
Кое-кто, очень спеша, обгонял Бакы по чавкающей грязи, бросая назад улыбчивый, заискивающий взгляд, как бы извиняясь. Восторг, жгучее любопытство скребли идущих, хотя они пытались изо всех сил изобразить на лицах горестную мину.
Генрих лежал за лачужкой, в жиже, одежда его была забрызгана грязью и кровью, волосы мокли под дождем, с чуба текла вода. Рядом в красноватой луже валялось охотничье ружье. Марта-апа рвала на себе грязные волосы с толстыми корнями. И, вырывая точно сорняк, бросала по сторонам.
Вновь пришедшие останавливались на почтительном расстоянии, понимая, что неприлично толпиться, и смотрели на страдающую мать. Никто не подходил к ней. Учителя, вдруг опоминаясь, поправляли шеренгу детей, прилежно подвинув назад некоторых невоспитанных, высунувшихся вперед. Халида снова поправила галстук Бакы.
Вдруг, не помня себя, с криком «Марта-апа!» он бросился к женщине в грязь. Она подняла лицо, уставилась на него безумными глазами. Такие глаза он видел у соседской сучки, когда топили ее щенков. Женщина обхватила мальчика и, прижавшись к его тощей груди лицом, зарыдала во весь голос. Они сидели в луже и плакали. И, чтобы как-то утешить, Бакы касался ее волос, очень буйных, густых и жестких.
Марта-апа еще долго жила в своей лачуге, ходила на работу. Пила. Навещали ее собутыльники. «Во-о, живет!» – удивлялись жители.
Скоро о ней позаботятся. Бакы встретит ее у первого в городке многоэтажного дома, поставленного с шиком на центральной площади – майдане. Теперь она жила в соседстве с лучшими, заслуженными людьми городка – дом был предназначен им. Она пройдет мимо, кивнув ему с достоинством, стараясь как-то соответствовать своему новому положению, которое обязывало.
С того дня постепенно она исчезнет из его памяти. Исчезнет и лачуга ее. Останется на пустыре груда мусора. Потом и мусор исчезнет – когда только убрали! Был там пустырь и пустырем останется.
Перестанут резвиться и ишаки. Приедут какие-то люди на спецмашине, поймают их всех до единого и увезут в неизвестном направлении. Кто-то пустит слух: на колбасу! Спустя месяц впервые на прилавках гастронома появится толстая колбаса с крупными белыми пуговками сала, весьма подозрительная. Жители набросятся на нее.
– Это же ишачья! – пристыдит их кто-то.
– Да хоть собачья! – скажут жители и пойдут закусывать «ишачиной» красное вино.
5. Опошление
Не стало больше Халиды. Но Бакы все еще видел ее перед глазами, веселую, в белом платье. Среди зимы выдался солнечный, почти летний день. Отменили уроки и класс вывели на улицу сдавать нормы ГТО. Группой ребят, соревнующихся по метанию гранаты, руководила Халида. Она стояла вся в белом, легкая. Бакы метнул гранату, все вокруг закружилось. Халида словно вознеслась в воздух, все ахнули. Халида отскочила, кто-то накинулся на Бакы с кулаками: ты что? Отрезвление пришло внезапно. Он чуть не попал в Халиду – граната полетела не в ту сторону. Он едва не приблизил смерть учительницы, которая его любила. Но теперь он знал, что предвосхитил смерть, предчувствовал ее в тот миг.
Новый учитель литературы был сутулый, худющий человек с глазами мученика, казалось, он сосредоточил в себе всю скорбь, какая только бывает в жизни. Когда завуч, представив его, ушел, он обратился к классу с вопросом:
– Кто-нибудь из вас пишет стихи?
И в голосе его, грудном, чуть с хрипотцой, была боль.
Все молчали, вопрос был неожиданный, непривычный и застал врасплох.
Бакы покраснел, сжался, готовый уйти под парту, прячась за спиной Циклопа. Но молчание продлилось на долю секунды, многие повернулись в его сторону, ища его, вытягиваясь, вставая. Другие оживленно воскликнули, тыча пальцами:
– Он!
– Вот он!
– Прячется!
Он сжался от сильного волнения. Он не мог подняться и сказать: я пишу. То ли от скромности, то ли от смущения, то ли оттого, что задета была его тайна, внутренняя жизнь, разглашения которой ему не хотелось. Да и показывали на него, как на виновного.
Грустные глаза учителя засветились. Он оказался внимательным человеком, не стал его поднимать, сам подошел к нему и голосом не учительским, а ласковым, с каким-то даже волнением, спросил:
– Вы Бакы?
Он поднялся, с трудом отрываясь от парты, полусогнутый, и, опустив глаза, кивнул куда-то в сторону.
– Сидите, сидите,– учитель положил руку ему на плечо, усаживая. И на ладони у него была боль.
Бакы смотрел на него снизу вверх, вопросительно, благодарно.
– У вас с собой есть?
Он нагнулся вниз, порылся в портфеле и, вынув общую тетрадь в картонном переплете, куда переписывал набело свои стихи, нерешительно протянул учителю.
Учитель взял тетрадь, внимательно полистал и сказал:
– Вы разрешите взять с собой? Дома прочитаю и завтра верну, и тогда поговорим, хорошо?
Бакы кивнул. Учитель отошел к своему столу, спрятал тетрадь в стопке своих книг и тетрадей – не сверху положил, и только тогда начал занятие:
– Сегодняшняя тема нашего урока...
Бакы не слышал его слов, хотя был весь внимание. В голове прокручивалась одна и та же картина: как учитель подошел к нему, как поговорил с ним. И на перемене он еще не мог отойти. Ощущение неловкости от того, что был выделен, обособлен в классе, не покидало его. Но, как ни странно, на следующий день учитель ничем не выделил его, никак не посмотрел в его сторону, поздоровался со всем классом, а с ним особо не поздоровался, как будто забыл о его существовании. Было обидно. Так быстро, оказывается, освоился он с новой ролью. Вдруг не понравились стихи, думал он, расстроенный. Но в конце урока учитель вспомнил о нем:
– Бакы, вот ваши стихи, возьмите, пожалуйста,– и протянул ему тетрадь.– Вы не торопитесь? Проводите меня, и заодно поговорим.
Он шел с учителем, чувствуя на затылке любопытствующие взгляды товарищей. Бакы проводил его до учительского общежития, которое находилось сразу за городским садом. Рахмет-муаллим говорил: это хорошо, что он пишет стихи, желание творить – одно из прекраснейших желаний. Изначально оно дано каждому. Творить – это то же что любить. Желание творить делает человека лучше. Если творящий человек становится хуже, то причину этого следует искать не в самом желании творить. Желание творить преображает жизнь, одухотворяет мир...
– Мне кажется, это желание у вас не пройдет, будет сопровождать вас всю жизнь. Не бросите писать?
– Не брошу.
И был тогда искренен в своем обещании, данном учителю и себе самому, ибо еще не знал, что заболевший однажды поправится, если мужествен; бросившийся в море в конце концов выплывет из него, если не безумен; пустившийся в погоню за миражем остановится, если постигнет его откровение; занимавшийся самоопьянением в один прекрасный день протрезвеет, если правда для него превыше всего. Так подумает он много лет спустя. Окажется ли это его конечным убеждением? Вряд ли. Ибо для того, кто в движении, нет ни начала, ни конца,– и утверждение это не конечное.
Учитель сказал:
– Будем заниматься. Во-первых, уйдем от описательности, во-вторых, от злоупотребления глагольными рифмами. Это задача на ближайшее время. Может быть, со временем перейдем на прозу. Новые стихи показывайте мне.
С тех пор на его уроках завелся особый порядок. Прежде чем начать урок, учитель подходил к Бакы, брал у него листочки со стихами. Сложив пополам, неизменно прятал в нагрудный карман пиджака, отходил к доске и только после этого здоровался с классом и начинал урок. Это стало вроде ритуала.
Конечно же, он понимал, что таким образом учитель отдает дань не ему лично, мальчику Бакы.
Бакы часто посылали в магазин за сахаром, солью, спичками. По пятницам он ходил в ларек за керосином. Бидон тяжелый, нести далеко. Ларек находился за базарной площадкой, на задах овощного ряда. Слой пыли вокруг ларька пропитан пролившимся керосином. Он любил благоухание, исходившее от земли. По воскресеньям ходил на базар покупать белую морковку на плов.
И каждый раз у базара Бакы замечал издали сутулую фигуру своего учителя. Он обходил его за десятки шагов, прячась, чтобы учитель не увидел его, иначе придется поздороваться, поговорить. Он избегал учителя не потому, что не хотелось с ним увидеться, а потому, что благоговел перед ним.
Он уже подражал учителю: будучи не сутулым, сутулился. Сутулился и Нар, последнее время увлекшийся стихами. Нар был на класс старше его. И тоже показывал свои стихи учителю, и тоже, подражая ему, сутулился. Нар ревниво относился к Бакы, ни с того ни с сего невзлюбил его, впрочем?..
Учитель повел в редакцию районной газеты и познакомил с редактором не Нара, а Бакы. На читательской конференции, проводившейся для старших классов, обсуждали новый роман Кербабаева и творчество молодого поэта Бакы, а не Нара. На разных торжественных собраниях и концертах выступал со стихами Бакы, а не Нар. Когда на педсовете решался вопрос, кого послать в Артек, а из их района никто там еще не побывал, учитель назвал Бакы, хотя он не был ни круглым отличником, ни общественником, как Нар. Но учитель настоял: Бакы надо повидать другие края, расширить кругозор.
Учитель преподавал всего два года и уехал. Пронесся слух, что его выгнали, будто бы он втайне курил анашу, отсюда его худоба, одни кости, выступающие скулы, впалые щеки и глаза с обнаженными белками. Бакы не верил слухам, он знал, что их распространяют злые люди.
Через месяц учитель приехал по своим делам в район, но в школу не заглянул. Бакы шел мимо особняка директора школы и увидел учителя. Он стоял с директором у крыльца дома и о чем-то с ним беседовал.
Учитель заметил Бакы, серое лицо его засветилось, он хотел было поздороваться, но Бакы отвернулся, прошел мимо быстрыми шагами, делая вид, что не заметил учителя. Он шел, почти бежал, и чувствовал, что учитель смотрит ему вслед, ругал себя, что пошел по этой дороге, но по этой было ближе. Он нес большой тяжелый бидон с керосином, и керосин проливался. Вдруг слезы застлали глаза. Ему было больно и обидно. Да, он хотел поздороваться, но так боготворил учителя, что не осмелился, постеснялся.
Больше Бакы его не увидит, но много лет спустя узнает, что учитель закончил аспирантуру, защитил диссертацию по детскому творчеству и теперь преподает в пединституте.
Бакы удивится, встретив в диссертации свои детские стихи, те стихи, которые учитель каждый день брал у него и прятал в нагрудном кармане.
Первая публикация свалилась на Бакы как снег на голову. И в буквальном смысле: когда он встал и сестры сообщили ему об этом с восторгом, шел большими хлопьями снег. Рано утром, пока он еще спал, к ним зашла Бибинур-апа и показала родителям газету.
В школу он летел как на крыльях, представляя, с каким уважением отнесутся к нему в классе. Какое это было упоение – быть признанным окружением, чувствовать себя полноценным человеком! Быть любимым всеми, нужным всем. Какое это было необходимое чувство!
Кроме Нара, во дворе школы – никого, так рано он пришел.
Была слякоть, снег быстро растаял, грязь по колено, земля раскисла. Бакы, так же как и Нар, в кирзовых сапогах и ватной фуфайке. Уши шапки с шевровым верхом опущены, хотя холода нет, но с прошлой осени он так и не поднимал их. Вовсю чувствовалось приближение весны. Ветерок уже нес ее на своих воздушных подушках.
Он обрадовался, увидев Нара, он поделится с ним Своей радостью. Нар тоже пишет, его радость будет понятнее ему, чем другим. Бакы подошел к Нару с улыбкой, готовый протянуть руку для приветствия, и вдруг остановился, не веря своим ушам.
Нар громко декламировал его напечатанное стихотворение. Бакы не верилось, что оно его. На одном слове ударение смещено. И это хорошее, ключевое в стихе слово теперь прозвучало в ином смысле. Он не мог предположить, что смысл слова можно так изменить, совсем в противоположную сторону. Слово прозвучало теперь похабно. От этого и все стихи опошлились.
Как будто дали ему пощечину, в ушах звенело и звенело. Еще и еще слышал он это опошленное слово. Оказывается, Нар все повторял и повторял эти несколько строк, хихикая, смакуя.
Низвергли его. И швырнули в эту слякоть. Он ждал восторгов, рукоплесканий, поклонения и расплатился за тщеславие. Целый день все декламировали его стихи в новой редакции Нара.
Со временем Нар, несостоявшийся поэт, будет работать редактором отдела поэзии в одном из республиканских журналов. Бакы подумает, что это правильно: ведь у Нара еще в детстве было развито чувство слова. Раз он тогда высмеял стихи, значит стихи были в чем-то уязвимы.
Когда стало ясно, что избранный путь не усыпан цветами, у Бакы ненадолго исчезло желание писать – пока не оправился от удара и сама потребность писать не преодолела обиду и разочарование.
6. Пощечина
Через неделю он получил пощечину. Оказывается, не только опошляют исповедь чужой души, но еще и бьют за нее. А как же с радостью, которую он хотел дарить людям стихами, очищать и облагораживать их? Какая самонадеянность! Ничего собой не представляя, взять на себя высокую роль! И правильно что били, пусть спадет пелена с глаз! Никому он радости не приносил – одни огорчения. Родителей тревожил, одноклассников раздражал, учителю причинял лишние хлопоты.
Пока только ему это надо было – писать. Он сам получал радость. Но создавал неуют вокруг себя. Хотя никого не трогал, никому не мешал – одним только присутствием, только тем, что пишет.
Мальчика, посредством которого была послана оплеуха, звали Потды-немец. Его нашли похожим на стереотип немца из фильмов тех лет. Худой, нервный, остроносый, с длинными, плохо управляемыми конечностями – он выглядел карикатурно. Учился плохо, вел себя не лучше, повторно сидел в классе. Ругали его в школе, ругали дома. Часто клеймили в стенгазете. И он привык к тому, что его только ругают.
Из добрых побуждений, не совсем осознанных, своего положительного героя в рассказе Бакы назвал его именем. Рассказ был напечатан в пионерской газете, но он еще не знал об этом. Почту доставили в школу, когда уроки кончились и почти все ушли. Рейим догнал Потды и сообщил:
– Вот, о тебе! Опять!
– Кто?
– Бакы!
Школьники-старогородцы возвращались домой длинной вереницей по протоптанной сухой тропинке в месиве глины. Бакы шел где-то в начале вереницы. Вдруг все стали оглядываться назад, любопытство прошло волной, заражая идущих.
Потды-немец мчался по жиже, лужам, разбрызгивая грязь, мимо протоптанной тропы, обгоняя, толкая других ребят. По виду он очень был разъярен. За ним бежал Рейим с развернутой газетой в руке. Видать, что-то случилось. Но что? Многие остановились, задерживая идущих вслед. Интересно, куда они так мчатся? Одни были в недоумении, другие оживились.
Потды обогнал тех, в ком мог, по соображениям Бакы, нуждаться. Оставался только он. Холодок пробежал по спине его. Опасность приближалась к нему, приказывая стоять, хотя он и так остановился.
– Стой! – кричал Потды, глядя в сторону. Поскользнулся и чуть не упал у ног Бакы, но выпрямился, его бледное лицо перекосилось от обиды и гнева. Рука поднялась, и в ушах Бакы раздался звон, из глаз посыпались искры, не успел опомниться, как обожгло другую щеку.
– Будешь еще писать? Будешь? – задыхался Потды.
Бакы ничего не понимал, если бы понимал, ответил бы тем же.
На них глазели в недоумении. Бакы лупят, а он не дает сдачи. Странно. Трус, что ли, или святоша?
Бакы заметил испуганные глаза Ширин, на мгновение вскользь они встретились взглядами, и тут же девочка ринулась вперед, как потом выяснилось, сообщить его маме, что злой мальчик избивает Бакы. В это время вмешался Рейим с газетой. Опешив от неожиданной развязки, он не успел одернуть Потды, да и хотелось досмотреть, чем кончится его подстрекательство.
– Так он же написал хорошо о тебе! – наконец протянул он газету. Потды недоверчиво уставился в текст. Рейим тыкал на абзацы.
Бледное лицо Потды покрылось краской. Его было не узнать, он обмяк, вспотел. В то же время какое-то подобие радости поднималось в нем, сдерживаемое стыдом.
Вереница пришла в движение. Бакы направился домой. Потды догнал его:
– Ты извини, я не знал, что ты хорошо написал. Бакы не обижался, но шел молча, не глядя на него. Потды загородил дорогу:
– Хочешь, дай сдачи! – и подставил лицо.
– Да ничего,– пробормотал Бакы.
– Дай тебя обниму, с этого дня ты мой друг! Отпустив Бакы, он набросился на Рейима:
– Я тебе сейчас покажу, ябеда!
Рейим уже успел отойти от него подальше, проявив предусмотрительность.
– Да ты же не дослушал, не понял...– оправдываясь умоляющим голосом, пятился назад Рейим.
Отслужив в армии, Потды станет работать трактористом в колхозе. У трехколесного его «Владимирца» однажды поднимется переднее колесо при подъеме на холм, трактор опрокинется назад и раздавит его насмерть.
Наступила весна, почти такая, как в стихотворении Томбы. Еще недавно тут и там голо торчали шишкастые верхи тутов, как обритые головы стариков, снявших свои лохматые бараньи шапки. И вдруг туты, прошлым летом обрезанные для шелковичных червей, украсились роскошной кроной, словно старики вновь надели свои шапки. На ветвях сидели не черные вороны, а ласточки и гоккерреки. Ласточки сидели и на проводах и на покосившихся столбах среди подсыхающей земли. Под солнечными сторонами стен и на склонах холмов зеленела трава. Сухие русла арыков наполнялись вешней водой. На полях кипела работа. Фруктовые деревья стояли в чистой пене стирки.
Бакы снял наконец свою ватную фуфайку, кирзовые сапоги, растоптанные и дырявые, шапку с шевровым верхом – как и все ребята. Но раньше всех скинул свою зимнюю одежду Довран. А девочки, всегда торопившие весну, сняли свои фуфайки и резиновые боты еще раньше и оказались в цветастых платьицах.








