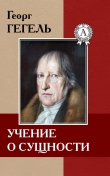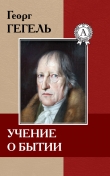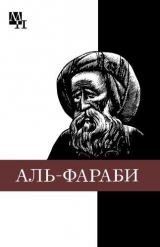
Текст книги "Абу-Наср аль-Фараби"
Автор книги: Агын Касымжанов
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
У Абу-Насра форма в целом не мыслится как особая умопостигаемая сущность. В «Ответах на разные вопросы, заданные аль-Фараби» говорится о трояком существовании формы: 1) в сочетании с чувственным восприятием (восприятие формы вещи вместе с материей); 2) в сочетании с интеллектом (абстрагирование формы от материи); 3) в сочетании с телом (вещь и ее форма).
Главный вопрос средневековой восточной философии не вопрос о материи, хотя он и занимает определенное место. Толкование материи аль-Фараби является моментом процесса, который впоследствии привел к ее противопоставлению как субстанции духовной сущности. И не вопрос о соотношении общего и отдельного является стержневым для характеристики средневековой восточной философии. Главный вопрос, по которому разделились средневековые мыслители Востока, – это вопрос о вечности или сотворенности мира, об отношении бога к миру. О его значимости свидетельствует факт выработки в арабской средневековой литературе специального термина – дахриты – для обозначения мыслителей, утверждающих вечность мира.
Аль-Фараби последовательно отстаивает положение о вечности мира. Такой проницательный противник, как аль-Газали, заметил в высказываниях аль-Фараби нечто такое, что дало ему возможность приписать Абу-Насру три еретических положения, среди которых есть и тезис о вечности мира. Маймонид, который очень осторожно говорит о предположительности гипотезы, выводящей бытие бога из философских предпосылок, основанных на признании вечности мира, и отмечает несовершенство позиций мутакаллимов, исходящих из тезиса о сотворенности мира, считает само собой разумеющимся, что аль-Фараби – за вечность мира.
Положение о вечности мира (связанное с признанием вечности материи) у аль-Фараби направлено против религиозного учения о сотворении мира и пантеистски сливает бога с миром. Вторым – после признания вечности мира – принципиальным пунктом мировоззрения аль-Фараби является признание единосущности разума, который порождает знание, своей универсальностью приобщает людей к бессмертию, но упраздняет в то же время индивидуальное бессмертие.
Третий основной момент мировоззрения аль-Фараби – принцип детерминизма. Он позволял «отвоевать» у чудес и произвола бога сферу для чисто научного исследования. Бог в системе аль-Фараби – первая причина, начальное звено причинных связей, охватывающих всю Вселенную.
В центре мировоззренческой конструкции Второго Учителя – человек, он находится как раз «посередине», между «путем вниз» и «путем вверх» (от бога, разумов сфер, деятельного разума к земному миру и человеку; от первоматерии к элементам, минералам, растениям, животным – к человеку).
Неотъемлемым компонентом проблемы определения места человека в средневековой философии был вопрос о взаимоотношении бога и человека. Этот столь же принципиальный вопрос, как и вопрос о возникновении мира, можно было решать либо опираясь на религиозно-ортодоксальные позиции: признавая всемогущество бога и полную зависимость от него человека в своих действиях; либо стоя на философских позициях: признавая созидательное действие бога в интеллектуальной сфере и приобщая к ней человека как обладателя разума. Пробуждение разума человека хотя и начиналось от «толчка», опосредствованно исходящего от бога, но его дальнейшее развитие зависело от самого человека. Аль-Фараби по самым разным случаям находит повод развить тезис мутазилитов о том, что человек способен к разумному самоопределению. Он связывает полезность философского постижения мира с реализацией человеком его истинной природы.
Все ступени бытия ниже Аллаха, по аль-Фараби, наделены разумом. Преимущественное внимание философ уделяет разуму подлунного мира, т. е. чувственно воспринимаемого мира, с которым соприкасается человек. Для самого человека разум признается специфически присущим ему свойством. Этой способности аль-Фараби отдает несомненное предпочтение перед откровением, выступая тем самым против религии.
Наравне с неоплатонической традицией интерпретации учений Платона и Аристотеля аль-Фараби был знаком с их подлинными текстами. А это весьма существенно, даже вопреки его собственной попытке сближения Платона и Аристотеля на основе тезиса о единстве истины.
Во всех принципиальных пунктах своего мировоззрения аль-Фараби последовательно развивает идеи Аристотеля. Но здесь следует напомнить афоризм о том, что книги имеют свою судьбу. Превратности и перипетии, которые испытали на протяжении более чем двухтысячелетней истории творения великого мыслителя античности, как нельзя лучше характеризуют справедливость этого афоризма.
Один из своеобразных эпизодов этой истории В. И. Ленин охарактеризовал следующим образом: «Поповщина убила в Аристотеле живое и увековечила мертвое» (2, 325). Речь идет о средневековых теологах Европы, Но с соответствующими поправками это относится и к современным приверженцам средневековой поповщины, к томистам. На этом основании один из родоначальников философии Нового времени, Фрэнсис Бэкон, выступал против авторитета Аристотеля, а Галилео Галилей, борясь за утверждение нового, гелиоцентрического мировоззрения, в «Диалогах о двух системах мира» в качестве официального оппонента называет Аристотеля. Добавьте к этому подозрительность в отношении некоторых идей Аристотеля в области конкретных наук со стороны специалистов. А. Эйнштейн и Л. Инфельд в своей популярной книге «Эволюция физики» приводят положение Стагирита о том, что движущееся тело перестает двигаться, как только на него перестают действовать движущие силы, в качестве образца обобщения, свойственного повседневному опыту, просуществовавшего много столетий лишь благодаря слепой вере в авторитет. Такова, если будет позволено сказать, нелегкая сторона судеб аристотелевского наследия. Она свидетельствует не только о том, что творения мыслителя, выйдя из-под его пера, приобретают собственную жизнь, независимую от воли их творца. Дело обстоит гораздо хуже. Они оказываются беззащитными перед каждым, кто их читает, осмысливает, интерпретирует, оценивает. Не эту ли ситуацию имел в виду Платон, вкладывая в уста Сократа резкие обвинения в адрес письменной речи. «В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят как живые, а спроси их – они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят, как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде – и у людей понимающих, и, равным образом, у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, а само же не способно ни защититься, ни себе помочь» (55, 2, 217–218). Но «отец» может помочь своему «дитяте» только в период своей жизни. Поэтому приведенную выше фразу «дело обстоит хуже» следует подправить: «нет худа без добра». Феномены духовной культуры живут исторически изменчивым смыслом, который подчас приобретает весьма зыбкие очертания. Вне осмысления, вне интерпретации они лишь мертвые тексты, музейные экспонаты, не более. С этой точки зрения рецепция Аристотеля в средневековье не исчерпывается «поповщиной». Применительно к освоению наследия Аристотеля можно выделить и другую, более светлую сторону, связанную с моментами поисков, напряжения мысли. Галилей метко заметил, что он, собственного говоря, следует духу Аристотеля, а не отдельным формулам, связанным с уровнем знаний и сведений своего времени, следует общеметодологическому указанию древнего философа: предпочитать данные чувственного наблюдения простому умствованию. Можно в этой связи говорить о рационалистической мысли в арабоязычной философии, первым представителем которой был аль-Кинди.
Деятельность первого «философа арабов» аль-Кинди послужила началом целого «витка» в истории мировой философии, получившего условное название «арабоязычного перипатетизма». В этом термине указан источник данного направления. Аль-Кинди очертил рамки развития философии в Арабском халифате, в основном опираясь на материалистические тенденции философии Аристотеля, поставил вопрос о совместимости философии с исламом.
Систематизатором перипатетизма стал аль-Фараби, подхвативший и развивший живое в Аристотеле. Под это живое он подвел логическую базу и обосновал первенство философии перед религией[3]3
«Аль-Фараби – первый философ арабоязычного Востока, у которого мы находим систему философских воззрений, охватывающую все стороны действительности» (54, 219). Автор, высказывающий эту верную мысль, делает необоснованное замечание о том, что аль-Фараби вряд ли сделал многое в развитии естествознания (там же, с. 218).
[Закрыть].
Применительно ко всему этому направлению, нашедшему завершение у Ибн-Рушда, квалификация «перипатетизм» означает только одно: указание на первоисточник. Иное понимание находим мы у тех, кто толкует перипатетизм буквально, характеризует весь прогресс внутри этого направления как возврат к «подлинному» Аристотелю, освобождение его от всех наслоений. Корень такого понимания – игнорирование самобытности, оригинальности восточной философии, трактовка ее как целиком эпигонской, эклектической, комментаторской.
Со времен Гегеля бытует оценка средневековой арабоязычной философии как не представляющей собой «своеобразной ступени в ходе развития философии». Э. Ренан утвержал, что «все, что семитический Восток и средние века имела в области философии, в собственном смысле слова, они заимствовали у греков» (48, 2). Подобных мнений, утверждающих эпигонский характер арабоязычной философии, придерживаются и некоторые другие ее исследователи: Фр. Дитерици, Л. Буур, А. Штёкль, Карра де Во, М. Фахри и др. Различие состоит лишь в том, кому из античных мыслителей отдается пальма первенства по воздействию: Платону, Аристотелю или неоплатоникам.
Внешняя сторона как будто подтверждает справедливость этой характеристики. Там же, где средневековый философ не находит соответствующего идейного материала, он в полной мере сознает новизну своего предприятия, четко обособляет свой вклад от работы предшественников. Часто (но далеко не всегда!) аль-Фараби строит свои философские рассуждения как комментарии к идеям Аристотеля. Конечно, эта форма не безразлична к содержанию. Как заранее принятая идейная позиция она влияет на конструкцию собственной философии. Но она ни в коей мере не должна быть преувеличена. В форме комментирования таятся определенные тактические возможности преподнесения «опасной» идеи от имени авторитета. Но прежде всего она была обусловлена, видимо, авторитарным стилем мышления эпохи. Надо заметить, что в конкретных условиях развития восточного перипатетизма термины «философ» и «последователь Аристотеля» отождествлялись. Причем с точки зрения ортодоксии еретическим был сам акт философствования, ибо требовалось верить «не мудрствуя лукаво».
Отношение к Аристотелю и вообще к своим предшественникам проникнуто у аль-Фараби величайшей скромностью. Но пиетет одно, истина – другое. Правда – выше всего для аль-Фараби. Перед истиной должен замолкнуть голос субъективного пристрастия. Знаменитое выражение Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже» – можно продолжить словами аль-Фараби об Аристотеле: «Подражание Аристотелю должно быть таким, чтобы любовь к нему [никогда] не доходила до той степени, когда его предпочитают истине, ни таким, когда он становится предметом ненависти, способным вызвать желание его опровергнуть» (3, 13).
Глава III. Концепция бытия
 илософскую концепцию мира аль-Фараби именует метафизикой, согласно традиции сложившейся до него. Известно, что философией по преимуществу, «первой философией» Аристотель считал учение о сущем как таковом. Это учение изложено в его «Метафизике» (мета-физика – «после», «за» физикой). Наряду с началами, принципами, причинами сущего Аристотель говорил и о таких началах, которые действуют и по отношению к бытию, и по отношению к мышлению, в частности и в особенности о запрете противоречия. Метафизика, следовательно, учение об основополагающих принципах бытия и знания.
илософскую концепцию мира аль-Фараби именует метафизикой, согласно традиции сложившейся до него. Известно, что философией по преимуществу, «первой философией» Аристотель считал учение о сущем как таковом. Это учение изложено в его «Метафизике» (мета-физика – «после», «за» физикой). Наряду с началами, принципами, причинами сущего Аристотель говорил и о таких началах, которые действуют и по отношению к бытию, и по отношению к мышлению, в частности и в особенности о запрете противоречия. Метафизика, следовательно, учение об основополагающих принципах бытия и знания.
Метафизику аль-Фараби иногда называет «божественной наукой», следуя Аристотелю, который в первую философию в качестве сущего включал сверхфизическое, являющееся предметом теологии (учение о боге; термин ввел сам Аристотель), аль-Фараби четко отдифференцировал логико-гносеологический аспект метафизики от онтологического, выделив его как специальный раздел «метафизики».
Учение о бытии составляет центр тяжести мировоззрения аль-Фараби. Именно здесь мы сталкиваемся с сохранившимся до сих пор тезисом Э. Ренана о том, что философия аль-Фараби (как и вся арабоязычная философия) есть подражательное направление, лишенное самостоятельности, синкретично объединяющее перипатетические и неоплатоновские учения. Рассмотрение идейных источников философии аль-Фараби, стремление целостно оценить контекст его философии и всей перипатетической традиции на Востоке привели к радикальному пересмотру ренановской версии.
Опираясь на тексты трактатов «О целях „Метафизики“», «Философия Аристотеля»[4]4
Издан М. Махди в 1961 г. в Бейруте. Этот трактат включает три части: 1. Введение, известное под самостоятельным названием «О достижении счастья». 2. О философии Платона. 3. О философии Аристотеля.
[Закрыть] и «Книга букв», американский востоковед М. Гэлстон оспаривает традиционный взгляд. Аль-Фараби выборочно и осторожно описывает неоплатоновский компонент в понимании Аристотеля. В текстах аль-Фараби содержатся «два различных портрета Аристотеля, один – неоплатоновский и другой – свободный от подобных наслоений, и появление этих Аристотелей не случайно» (63, 14).
В собственной философии аль-Фараби, считает Гэлстон, нет и следа эманационизма и вообще неоплатонизма[5]5
Эманационистские идеи неоплатонизма ко времени аль-Фараби плотно вросли в ткань распространенных религиозных представлений, в чем можно убедиться на примере исмаилизма.
[Закрыть]. Неоплатоновский вариант Аристотеля аль-Фараби излагает в трактате «Об общности взглядов двух философов – Божественного Платона и Аристотеля» как «общепринятое мнение», а также в трактатах «Гражданская политика» и «Взгляды жителей „добродетельного города“», в которых он обращается специально к нефилософской аудитории. Что касается злополучной «Теологии», то Гэлстон объясняет одну-единственную ссылку, которую делает на нее аль-Фараби, только тактическими соображениями. Это псевдоаристотелевское сочинение позволило аль-Фараби не только опереться на широко распространенную неоплатоновскую концепцию, но и сблизить Аристотеля и Платона для защиты единства философов перед лицом посягательств на философию со стороны религиозных ортодоксов. Наряду с нарочито принятым неоплатонизмом в трудах аль-Фараби предстают и подлинный Аристотель, и Платон, не являющийся Платоном неоплатоников. Дифференцирование различных слоев в наследии аль-Фараби ставит, утверждает Гэлстон, проблему самого Аристотеля, того, насколько в нем сохранился платоновский элемент.
Радикальную переориентацию в понимании онтологии аль-Фараби как ядра всей его философии предлагает А. В. Сагадеев. Первоначальные контуры такого нового понимания очерчены им в статье «Учение Ибн-Рушда о соотношении философии, теологии и религии и его истоки в трудах аль-Фараби» (см. 16, 120–145). А развивает свою точку зрения он в книге «Ибн-Сина». Наличие двух портретов Аристотеля, проглядываемых в сочинениях Абу-Насра, А. В. Сагадеев берет за основу. Неоплатоновский вариант Аристотеля, связанный с идеей эманации, он квалифицирует как «истинную религию», «образцовую религию», необходимую аль-Фараби для «образцового города», как спекулятивную теологию.
Рассматривая онтологию аль-Фараби, мы замечаем в ней не только «двух Аристотелей». Сама его собственная концепция предстает в двойственном свете. Следует поэтому согласиться с мнением А. В. Сагадеева о том, что подлинная философия аль-Фараби еще подлежит реконструкции. Произведение, в котором эзотерическое учение получило, по мнению исследователей, наиболее строгое выражение, – трактат «Второе учение» – не найдено и, как предполагают, утеряно безвозвратно.
Пересмотр бытующих взглядов на онтологию аль-Фараби под углом зрения «вытравления» из нее «неоплатоновских примесей» во многом представляется убедительным. Но определенные сомнения все же остаются.
Прежде всего вопрос об «источниках», «идейных предпосылках» лишь предварительно очерчивает смысл той или иной философской концепции и не может заменить вопроса о самом ее существе, если, конечно, мы имеем дело с самостоятельной философской концепцией, а не с эклектическим набором идей. Для нас же принципиальным является рассмотрение воззрений аль-Фараби как определенного звена в цепи развивающегося философского постижения мира и человека, отвечавшего потребностям и духу своего времени. Ни один мыслитель не работает в безвоздушном пространстве, он исходит из наличного состава идей своей эпохи, с кем-то считается, кого-то отвергает, что-то воспринимает, перерабатывает, видоизменяет и т. д.
Античное наследие, в том числе аристотелевское и неоплатоновское, не только дошло до «арабского мира», но и «соприкоснулось» с внутренними запросами и идеологическими интенциями того общества, в котором жил аль-Фараби.
Рационалистическим устремлениям философов арабоязычного мира, отстаивавших права разума перед откровением, не могла не импонировать свойственная Аристотелю манера логического обоснования способов теоретического вычленения сущего как такового, значимость Аристотеля как отца логики. Важнейшей фундаментальной чертой, характеризовавшей арабоязычную философию в отличие от средневековой западноевропейской, является развитие ее в тесной связи с естественнонаучными исследованиями. Это органично сближало ее с эмпирической тенденцией гносеологии Аристотеля и его натурфилософией, в которой греческий мыслитель чаще всего, как говорит В. И. Ленин в «Философских тетрадях», выступал как материалист.
Что касается неоплатонизма, то и он нашел путь к некоторым важным «струнам» духовной жизни Арабского халифата. Господствовавший в нем ислам, как известно, отличается последовательным монотеизмом. В качестве такового он находит «созвучие» с некоторыми положениями, вытекавшими из неоплатонизма. Утверждение неоплатонизма об иерархическом строении бытия, концепция идеального мира, концепция зависимости вещей от идей, концепция бессмертия души отвечали духу мусульманства. Но по ряду пунктов расхождения имели существенный характер. В исламе абсолют есть личность. Неоплатонизм утверждает безличный характер абсолюта, Единого. Исламский монотеизм исходит из противоположности бога и мира. У неоплатоников мир – тот же бог на известной ступени его развития. Неоплатонизм, принижая материю, не отрицает ее как таковую, а, наоборот, признавая ее вечность, утверждает вечность мира. Это шло вразрез с мусульманским креационизмом, отстаивавшим творение мира из ничего.
Во-вторых, разграничение эзотерического и экзотерического было распространенным явлением в арабо-мусульманской культуре. Эту позицию философы перенесли в интеллектуальную сферу, считая, что масса людей не способна мыслить в понятиях. Но резкое и категоричное разграничение «сокровенной» и «наружной» философии едва ли приемлемо. Такое разделение, полагаем мы, условно. Оно не совместимо с внутренним пафосом аль-Фараби как социального реформатора, который хотел просветить людей относительно того, как надо понимать мир, место человека в нем и смысл его бытия.
В-третьих, пока не удалось систематически, во внутренней связи изложить философию аль-Фараби, игнорируя ее неоплатоновский «источник». (Этот термин мы считаем удачнее, чем термины «элемент» или «наслоения».)
Вопреки своей первоначальной установке об отсутствии эманационизма у аль-Фараби и Ибн-Сины А. В. Сагадеев соглашается с В. В. Соколовым (см. 54), что учение об эманации есть у Авиценны (сказанное можно отнести и к Абу-Насру аль-Фараби) в сочетании с восточной символикой света. Свет – скрытая причина всего существующего и познаваемого, символ для выражения интуитивного постижения единства бытия. Свет, как солнце, все освещает, но сам недоступен для взора. Его свет – завеса его света. В идейной образности этой символики, заключает А. В. Сагадеев, Ибн-Сина видел «недостающий ему способ утверждения идеи единства сущего» (51, 70). Единому Плотина действительно присуще глубоко интуитивное, противостоящее всякому оконечиванию, всякому раздроблению, всякой субъективизации, отождествляющей мир с тем, что познано в нем, сознание единства и безначальности мира. Единое дано нам, мы черпаем все свое знание из него, и не дано, поскольку неисчерпаемо. Здесь ярко предстает первичность и неисчерпаемость мира.
А. В. Сагадеев признает, что даже Иби-Рушд, последователь аль-Фараби, не имевший никаких оснований для сохранения неоплатонистской символики, не отказался от термина «эманация» и отрешенных от материи субстанций (см. там же, 213). Он идет дальше, стремясь рационально объяснить «проистекание» космических субстанций друг из друга. «…Эманация космических субстанций представляет собой схему, в которой ретроспективно воспроизводится движение мысли естествоиспытателя, переходящего от следствий к причинам и от менее общих причин к более общим» (там же, 192).
В трактате аль-Фараби «Классификация наук» «метафизика» занимает завершающее место в ряду теоретических дисциплин после языкознания, логики, математики и физики, т. е. она является синтезом всех теоретических наук. В то же время она в известной мере предшествует всем наукам, обосновывает их принципы. «Метафизика делится на три подраздела. Первый изучает существующие предметы и вещи, которые случаются с ними, поскольку они являются существующими предметами. Второй подраздел изучает основы доказательств теоретических частных наук, таких наук, каждая из которых обособляется для рассмотрения чего-либо особо сущего. Третий подраздел изучает существующие нематериальные предметы, которые не суть тела и телами не обладают» (3, 172–173). Из третьего подраздела, по мнению А. В. Сагадеева, черпаются мировоззренческие принципы религии. В соответствии с этим, не отрицая значимости первого подраздела и его самостоятельной ценности, он придает первостепенное значение второму подразделу, призванному дать высшее обоснование достоверности знаний, обретаемых в науке, и защитить науку от гегемонистских притязаний на истину со стороны теологов.
Наряду с теми моментами, которые были указаны в предшествующей главе, вычленим некоторые пункты онтологии аль-Фараби.
1. Субстанция – решающая категория учения о бытии.
2. Субстанция есть единство формы и материи. Формы – это и сущности, и статуарные изваяния вещей, и даются они непосредственно, если остановить движение на какой-то момент. Материя – сохраняющийся субстрат, фон, на котором происходят изменения.
3. Идея интенсивности бытия, так сказать, по его уплотненности, значительности, существенности. Сущее имеет степени, градуируемо по насыщенности бытийностью от крайней эфемерности до максимально напряженной полноты. Эта позиция находит выражение в употреблении термина бытия в множественном числе – «бытии».
4. Пронизанность бытия закономерной связью.
5. Связь онтологии человека с отрицанием внешней предопределенности его поведения.
В неоплатонизме, конечно, есть тенденция, которая глубоко близка аль-Фараби. Это прежде всего идея о внеличном Едином, которое выше всякого бытия, всякой сущности и всякого познания. За этим Единым скрывается пантеистическое язычество. Последовательный монизм, направленный против дуалистического разделения сущностей, диалектическое «перекрывание» мышления и бытия, когда бытие мыслит само за себя и имеет свой смысл, тоже не мог быть чужд синтетическому складу ума Абу-Насра. И наконец, выведение из божественного единства всех градаций сущего и указание обратного пути к исходному единству преломились в учении о бытии, различающемся по степени бытийности, по интенсивности бытия.
Небо, звезды, земля, вода, камни, растения, животные, человек объемлются родом «предмет». «Уже вошло в привычку… чувственно воспринимаемое, которое характеризуется не иначе как путем [выявления] акциденции и другими естественными путями, называть „что оно“ [чтойность]. Оно является субстанцией в абсолютном смысле слова, или как мы ее называем – сущностью в абсолютном смысле» (12, 63). «Индивидуальные субстанции в наибольшей мере – субстанции, потому что они более самодовлеющие и более независимые от чего-либо другого в своем бытии. Но для познания нужна суть бытия, а последняя умопостигается благодаря универсальным субстанциям». Универсалии аль-Фараби называет «вторыми субстанциями» по сравнению с «индивидуальными субстанциями» как «первыми субстанциями». Отношение индивидуального и общего представляется взаимным. «Универсалии, таким образом, существуют благодаря индивиду, а индивид умопостигается благодаря универсалиям» (5, 160). Столь же существенным для аль-Фараби является отношение субстанции к акциденции. К акциденции в широком смысле относятся все виды категориального сказывания о субстанции. Это известные девять аристотелевских категорий, следующих за субстанцией (сущностью): количество, качество, отношение, время, место, положение, состояние, действие, претерпевание действия. В узком смысле акциденцией является собственный или случайный признак. Совмещая отношение единичное – общее (индивид – универсалия, по терминологии аль-Фараби) с отношением субстанция – признак (субстанция – акциденция, по его терминологии), Абу-Наср дает следующие логические расчленения.
Внутри первого типа отношения он делит индивиды на:
1. Индивиды субстанции, «которые не дают никакого знания ни о сущности какого-то носителя, ни о чем-либо вне его сущности» (там же, 155), все отнесено к ним, они же, как говорил в свое время Аристотель, ни о чем не сказываются.
2. Индивиды акциденции, которые не дают знания о сущности своего носителя, а лишь о чем-то вне его сущности (акциденция в узком смысле слова).
Универсалии делятся на:
3. Универсалии субстанции, «которые дают знания о сущности всех своих носителей, не давая никакого знания о каком-либо носителе вне своей сущности» (там же).
4. Универсалии акциденции, «которые дают знание о сущности некоторых своих носителей и других носителей вне своей сущности» (там же).
Внутри второго типа отношения аль-Фараби проводит следующие разграничения. Субстанция может быть:
5. Индивидом, в этом случае она «не дает никакого знания ни о сущности какого-то носителя, ни о чем-либо вне своей сущности» (там же, 156) (ср. 1).
6. Универсалией, в этом случае она «дает знание одновременно о сущности всех своих носителей» (там же) (ср. 3).
Акциденция может быть:
7. Индивидом, не давая никакого знания о сущности какого-либо носителя (ср. 2).
8. Универсалией, дающей знание о другой субстанции (ср. 4).
Уже приведенная выше позиция аль-Фараби о вечности мира тоже проходит по рубрике логики. Разбирая умозаключения по аналогии («перенос» в его терминологии), он считает, что вывод о том, что «мир создан» по аналогии с «сотворенностью» животных, реальное существование которых зависит от других животных («родителей»), представляет собой логически неприемлемый ход мысли[6]6
Аль-Фараби редко использует термин «создатель» по отношению к богу. В трактате «О целях метафизики» он говорит о «принципе абсолютного бытия».
[Закрыть]. Зависимость бытий, например первопричины и последующих ступеней, не обязательно предполагает временной ряд. Предшествование может иметь место по природе, по времени, в виде причины, по степени, по совершенству, с точки зрения познания и т. д. Так, «животное» по существу субстанционально в какой-то мере «прежде» «человека». А «логически», наоборот, «человек» необходимо продуцирует «животное». «Логическое прежде» может не совпадать с историческим, а определяется либо местом тех или иных элементов в системе целого, либо уровнем зрелости, типичности и т. д. «Так, например, из двух лекарей более совершенным во врачебном искусстве может оказаться младший по возрасту, который в данном случае стоял бы впереди старшего по совершенству и следовал бы за ним во времени» (там же, 243).
В трактате «Диалектика» аль-Фараби опровергает элейцев в отрицании ими движения и множества, квалифицируя их позицию в логическом плане как логически несостоятельную, не обоснованную. Только предварительные установки мешают продолжить анализ, который обнаружил бы в их точке зрения изъяны и просчеты.
Существенное место в воззрениях Абу-Насра занимает проблема противоречия. Она появляется у него даже в тех случаях, когда кажется, что сюжет рассуждения исчерпан. Например, в трактате «Категории» аль-Фараби разбирает последовательно десять известных, по Аристотелю, категорий, но затем возвращается к двум принципиальным для него пунктам: 1) связь сущности и акциденции; 2) противолежащие друг другу предметы. Он констатирует наличие четырех видов противолежащих друг другу предметов: «1) соотнесенные предметы, 2) противоположные предметы, 3) лишение и обладание, 4) утверждение и отрицание» (там же, 214). В связи с этим он вводит разграничение логической и реальной противоположности, очень похожее на то, какое наметил Кант в докритический период. Утверждение и отрицание (т. е. только четвертый вид противолежания) логически несовместимы, они суть суждения, каждое из которых либо истинно, либо ложно. «Что же касается прочих противолежащих друг другу предметов, то среди них нет ничего, что было бы истинным или ложным, поскольку каждый из них есть нечто единичное, а единичное не может быть ни утверждаемо как нечто истинное, ни отрицаемо как нечто ложное, независимо от того, является ли это единичное чем-то умопостигаемым или чем-то получившим словесное выражение» (там же, 225).
Принцип причинности, к которому прибегали философы для объяснения жизнедеятельности мира, вводил первую причину в универсальную ткань бытия, отличая ее от всего остального первенством, Однако первая причина, находясь во главе причинного ряда, была частью бытия, ее всемогущество проявлялось в интеллектуальном потенциале, а не в распространении воли на материальный мир. Подобное мнение, в соответствии с которым усекалась власть бога, вызывало ненависть и тревогу теологов ислама. Аль-Газали писал: «…На всех философах, к какой бы из многочисленных категорий они ни принадлежали, непременно лежит одно и то же клеймо – клеймо неверия и безбожия…» (цит. по 28, 221).
«Клеймо неверия и безбожия» ложилось на всех, кто пытался внести рационалистическую струю в постижение религиозных догматов, сделать их предметом разумного осмысления. Как бы ни был привержен догматам ислама сам аль-Газали, но и ему не удалось избежать кары и осуждения за попытку разумного осмысления религии. Не были ли преданы сожжению его произведения в Кордове за то, что он не отталкивался от одного из тезисов мусульманских правоведов «не ведаю», означавшего слепое повиновение религиозным догматам, какова бы ни была их суть?
Рационалистической интерпретацией догматов ислама занимались представители калама (в переводе означает «словесное обсуждение»), среди которых отличают представителей раннего и позднего калама. Первых называли «мутазилитами», а вторых «мутакаллимами». Как явствует из названия «мутазилиты» («отколовшиеся»), в своих религиозных принципах они отошли от общего русла традиционализма. Однако это не значит, что в их воззрениях следует искать элементы атеизма, они религиозны, но пытались проникнуть в сущность ислама, найти объяснение его догматам. Мутазилиты были приверженцами чистого монотеизма, отвергающего антропоморфность бога, и признавали божественную справедливость. Интерпретируя тезис о божественной справедливости, мутазилиты приходили к выводу о том, что если бы бог мог совершать несправедливость, то он не был бы благим и совершенным, следовательно, его действия оказываются детерминированными.