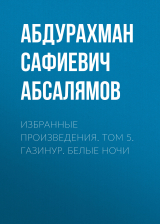
Текст книги "Избранные произведения. Том 5"
Автор книги: Абдурахман Абсалямов
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Одних только рабочих лошадей у колхоза было больше девяноста голов. А если посчитать стригунков, одногодков да жеребят, ещё около тридцати наберётся. Это ведь целый табун! Колхозники нарадоваться не могли, когда видели, как носились их любимцы по широкому лугу, как, внезапно остановившись, озорно и гордо покачивали головами и разгорячённо ржали. Чёрная шерсть лоснится на солнце. И все, как один, в белых чулках и с белыми отметинами на лбу. Своими сухими, мускулистыми, втянутыми боками они чем-то напоминали на скаку рысь. По вечерам, сотрясая всё вокруг грохотом копыт, табун возвращался в деревню. И – подумать только! – ведь это не помещика Елачича кони, а собственные, колхозные!
Сейчас, перед началом жатвы, большая часть рабочих лошадей свободна. Они в эти дни пасутся на выгоне. Годовалые жеребята и стригунки – те не вернутся до осени. Их конюхи стерегут по очереди в поле. На днях за лесом, возле Батурина, видели волков. Известно, что волки особенно падки до молодых жеребят. Поэтому караульщики всю ночь жгли костры, то и дело громко перекликаясь.
Сабир-бабай с Газинуром целую неделю прожили в поле и только два дня назад вернулись в колхоз. Их сменили Гапсаттар с Газзаном.
Забота об оставшихся в деревне лошадях – чистка их, доставка воды, подноска корма, уборка конюшен – легла на плечи Газинура и Сабира-бабая. Это нелёгкое дело. «Возле девяноста лошадей девяносто разных забот», – говорит Сабир-бабай.
К тому времени, когда Газинур появился на конном дворе, Сабир-бабай успел почистить тех коней, за которыми должны были прийти с утра, напоил их и сдал ездовым. Четыре лошади стояли на привязи во дворе. Слышно было, как в конюшне позвякивал железной цепью племенной жеребец Батыр. Его нетерпеливое ржание разносилось далеко по деревне.
– Не зря, видно, говорится: «Пока ленивый обует лапти, усердный работу кончит!» – издалека ещё прокричал Газинур, широко улыбаясь. – Пока я, медведь, спал, Сабир-бабай все дела переделал. Доброе утро, Сабир-бабай!
– Милости просим, Газинур, сынок. Всё переделал, говоришь? А я тебе скажу так: и наши деды не смогли всё переделать, нам оставили, и внукам нашим после нас хватит работы.
– Что значат дела дедов по сравнению с нашими! Разве можно сравнивать колхозный труд с прежней мужицкой работой! Смотри, как шумит наше, колхозное утро! – Газинур повёл руками вокруг.
И то правда! Из кузни раздаётся деловито-оживлённый перестук большого молота с маленьким. В промежутках между гулкими ударами большого молота слух улавливает жужжание сепараторов на ферме и звонкие голоса работающих там девушек. Перед фермой грузят на телеги бидоны с молоком. Марфуга-апа, та, что возит молоко, садится на телегу, чтобы ехать в деревню Спасское – на маслозавод. На дворе птицефермы девушка в белом переднике кидает горстями зерно, а вокруг неё кур – белое море. Немного подальше пять-шесть женщин белят службы птицефермы. Напротив, у только ещё строящейся маслобойки, где работают сейчас плотники, готовится в путь новенькая грузовая машина. Возле неё толпятся отъезжающие. Среди них и нынешний председатель колхоза Ханафи. Встав на подножку, он машет кому-то рукой, торопит…
– Ну, признайся, Сабир-бабай, – ты много прожил, много видел, – бывали такие дела раньше?
Старик молчит, улыбается.
Газинур засучил рукава и, взяв скребок и щётку, направился к стоявшим на привязи лошадям. Похлопал по шее рыжую с белой метиной на лбу лошадь.
– А-а, Малина! Ты разве дома сегодня?.. Чего голову повесил, Чабата[6]6
Чабата – лапоть.
[Закрыть]? – звонко шлёпнул он по крупу гнедого коня, получившего свою кличку за непомерно большие копыта. – А ты, Игрунья, всё балуешь! Смотрите-ка, смотрите, укусить ведь хочет, ведьма! А как поживает моя Иркэ, моя неженка? Ай-яй, уже кокетничает… И голову набок, шельма этакая! – ласково трепля по холке, Газинур обошёл одну за другой всех лошадей и лишь тогда пустил в ход щётку.
Под его сильными руками круп Иркэ чуть подался книзу.
– Ай, душенька, да ты, оказывается, нетерпелива! Я же тихонечко, любя…
Сабир-бабай, с метлой в руках стоявший на пороге конюшни, с лукавой ухмылкой наблюдал, сколько весёлого рвения вкладывает Газинур в работу.
– Хорошо, что твоей дикой розы нет здесь, – сказал он, покручивая натруженными пальцами свою круглую седую бородку. – Увидит – умрёт от ревности. И то уж, как ехать на сенокос, заглянула. Говорит, будто шла к дояркам, а сама глазами так и бегает по конюшне. «Дитятко, говорю, милое, в конюшне ведь коров не доят».
– Неужели… неужели приходила? – прервал старика Газинур. – А я-то, лентяй, проспал!
И втихомолку порадовался: «Не сказал ведь старый «твоя сладкая редька» или там «твоя Миннури», а «твоя дикая роза». Ох, уж и хитрые эти старики! Чуют, как ты в варежке пальцем шевельнёшь. Тысячу лет тебе жизни, Сабир-бабай!»
Но всё-таки не хочется парню так вот сразу и выложить старику свою тайну.
– Умная не станет ревновать, Сабир-бабай, – сдержанно говорит в ответ Газинур.
Опираясь на метлу и слегка покачивая головой, старик добродушно посмеивается:
– У девушек ум – после обеда. А у красивых и того нет. Погодил бы хвастаться-то. Да и… небось можно не ворковать до третьих петухов.
– Молодость дважды не приходит, Сабир-бабай… А ты что… видел, как я ворковал? – спохватился Газинур.
– Может – видел, может – нет, – увильнул от ответа старик и принялся мести двор.
Вычистив коней, Газинур снял с них уздечки. Кони сами потянулись в конюшню. Газинур пошёл вслед за ними. Вскоре он вывел во двор Батыра, нетерпеливо пританцовывавшего, серого в яблоках жеребца с огненными глазами. Выйдя из тёмной конюшни на дневной свет, жеребец взвился на дыбы, пытаясь вырваться и убежать в поле. Намотав цепочку повода на локоть, Газинур держал жеребца под уздцы и шёл, откинувшись всем телом назад, крепко упираясь ногами в землю.
Вдоль улицы по направлению к Исакову проезжали подводы. Батыр поднял голову и заржал так пронзительно, что казалось, где-то поблизости разлетелись вдребезги стёкла. Со стороны фермы, из-за гор, донеслось ответное эхо.
– Ну, ну, успокойся, Батыр! – сказал Газинур и, высоко подняв морду коня, продел цепь в железное кольцо на столбе.
Но лишь только лоснящейся шерсти жеребца коснулась щётка, он снова начал беспокойно перебирать ногами.
– Не любишь щекотки, дружок? Не бойся, я не шурале[7]7
Шурале – леший.
[Закрыть], не защекочу до смерти.
Газинур был полной противоположностью другому конюху – молчуну Газзану, который во время работы обычно будто воды в рот набирал. Нет, уж если дежурит Газинур, на конюшне шум и веселье: то он ласково уговаривает коней, то перебрасывается шуточками с проходящими мимо девушками, то вдруг затянет своим звучным голосом песню, то насвистывает что-то. Этого неунывающего парня с засученными по локоть рукавами, обутого, по татарскому обычаю, в толстые шерстяные чулки и калоши, любили в колхозе.
Пока Газинур управлялся с Батыром, Сабир-бабай вывел из конюшни вороного коня-трёхлетку, сильно припадавшего на переднюю ногу.
– Я тебе ещё не говорил, Газинур… – смущённо почёсывая затылок, начал старший конюх. – Вчера этот беспутный мальчишка Зайтуны чуть не погубил нашего Маймула. Что отца-покойника взять – никогда не понимал цены скоту, что мать – вечно норовит увильнуть от работы… А теперь, видать, и от сына не будет толку.
Газинур, оставив Батыра, подбежал к Маймулу[8]8
Маймул – обезьяна.
[Закрыть].
Кому взбрело на ум дать коню такую позорную кличку, Газинур не знал (председатель колхоза Ханафи купил Маймула на Мензелинском базаре, кличка значилась в паспорте), только Газинуру сразу приглянулся этот резвый и своенравный конёк. Если приходилось отдавать его кому-нибудь по наряду, молодой конюх строго-настрого наказывал получше присматривать за конём. А каким-нибудь мальчишкам и вовсе не доверял.
– Что случилось?.. Кто дал этому мальчишке Маймула? – встревожился Газинур.
– Ногу повредил коню, негодник… – ответил Сабир-бабай.
Правой передней ногой конь едва касался земли. Газинур протянул руку. Маймул неуклюже, на трёх ногах, метнулся в сторону.
– Не бойся, не бойся, дружок, я не сделаю тебе больно… – Газинур осторожно согнул в суставе больную ногу, примостил её у себя на колене.
Когда Газинур снял окровавленную тряпку, которой была обмотана рана, он даже охнул. Лицо его сначала побелело, потом залилось краской возмущения.
– Загубил ведь он коня, Сабир-бабай! – крикнул Газинур в сердцах. – Эх, дать коня этакому дурню!..
Сабир-бабай, опустившийся на корточки рядом с Газинуром, вздохнул:
– Моя вина, Газинур, я дал. Ведь как предупреждал его, беспутного: «Смотри в оба!..» Да, видно, слова мои в одно его ухо влетели, из другого вылетели.
– Жаль, меня не было… у него бы искры из глаз посыпались.
Сабир-бабай только отмахнулся.
– Где уж тебе поднять руку на мальчишку! Ты не то что человека, скотины не тронешь.
– Скотину не ударю, – сказал Газинур, опуская ногу лошади, – а спящего на работе болвана так огрел бы… А ты показал коня ветфельдшеру, Сабир-бабай?
– Три раза ходил к нему – всё нет и нет. Поехал, говорят, в Тумутук и пока не возвращался.
– Кто?.. Салим Салманов?.. – вскричал Газинур. – Да он уже давным-давно дома!
– Я у матери спрашивал, она сказала, – не приезжал ещё. Гм!.. Ты его собственными глазами видел? – старик со злости даже затоптался на месте. – Что же это получается, Газинур?! Семидесятилетний старик трижды приходит к ним по колхозному делу, а они обманывают его, отправляют обратно… Да куда ж это годится?! Нет, сейчас же иду к нему, за шиворот да притащу его в конюшню. А после к Ханафи. Пусть отвечает перед председателем!
Газинур в угрюмом молчании не спускал глаз с дрожащего мелкой дрожью коня. Сабир-бабай пошёл было за Салмановым.
– Обожди, Сабир-бабай, – поднял, наконец, Газинур голову. – Ты не мальчик, и Салим тебе не начальство. Ему ведь известно, что на конюшне есть больной конь, значит, он обязан прийти без поклонов. А пока я сам перевяжу рану. Постой здесь немного, пригляди, чтобы ребятишки около Батыра не вертелись: убьёт.
Газинур бегом пустился к зимнему помещению конюхов. Вскоре он уже нёс оттуда чистое холщовое полотенце, белую скатанную бинтом тряпку и мазь, а подвернувшегося по дороге мальчишку послал в соседний дом за тёплой водой. Не прошло и четверти часа – рана была тщательно промыта, смазана и забинтована.
– А теперь, Сабир-бабай, поставим Маймула в стойло посуше. Надо получше присматривать за ним, чтобы в рану не попала грязь. А насчёт Салима и сына Зайтуны надо сказать Ханафи-абы. Это дело не шуточное.
– Какие тут шутки!.. – подхватил старик, беря коня за повод.
– А ты, Сабир-бабай, – только не обижайся на мои слова, – в следующий раз тоже будь потвёрже, разным там мальчишкам коня не доверяй.
– Правильно, правильно говоришь, Газинур-сынок. А на правду зачем же обижаться…
И Сабир-бабай повёл коня в стойло, продолжая, по стариковской привычке, что-то бормотать себе под нос. Газинур подошёл к серому в яблоках жеребцу, который давно в нетерпении рыл копытом землю, погладил его по шее и, намотав цепь на руку и крепко взяв коня под уздцы, повёл его в конюшню.
Широкая, утрамбованная, как на колхозном току, площадка опустела.
В воротах появился Салим. Он был в белой войлочной шляпе. Дойдя до середины площадки, он остановился, весь как-то напыжился, достал не спеша из кармана галифе серебряный портсигар, открыл его, блеснув на солнце крышкой.
Со стороны колхозных амбаров, постукивая каблучками нарядных жёлтых сапожек, показалась в белом переднике и алом платочке, таинственным образом державшемся на самой маковке, близкая подружка Миннури – колхозный счетовод Альфия. В руках у неё были какие-то бумаги. Стройная, голубоглазая, с тонкими изогнутыми бровями, Альфия, в противоположность Миннури, была очень застенчива. Салим писал любовные письма одновременно и той, и другой, не подозревая, что подруги втихомолку потешаются над ним, читая друг дружке его послания. Миннури Салим побаивался, тем бесцеремоннее он изводил Альфию, пользуясь её стыдливой робостью.
– Альфия-джан[9]9
Джан – душа, душенька.
[Закрыть], во сне сегодня меня не видела? Когда свадьбу сыграем? – развязно заговорил Салим и, повертев перед глазами девушки серебряным портсигаром, с шумом захлопнул его и сунул в карман.
– Да ну тебя, Салим, вечно ты заставляешь меня краснеть… – смущённо бросила Альфия, торопясь пройти мимо.
– Смотрите, как задрала нос, остановиться даже не желает!
Салим протянул руку, чтобы схватить девушку за локоть, как вдруг из конюшни донёсся голос Газинура:
– Дай-ка сюда вилы, Сабир-бабай!
Салим, точно его ужалили, отдёрнул руку и деловым шагом направился к конюшне. Альфия, зажав ладонью рот, чтобы не расхохотаться, проводила его весёлым взглядом и побежала в правление.
– Эй, Сабир-бабай, где ты? – крикнул Салим, переступив порог.
Не выпуская вил, Сабир-бабай выглянул из стойла.
– Здесь, здесь я, Салим. Благополучно ли приехал?
– Что вы натворили с Маймулом? Почему не смотрели как следует? – перебил его Салим, силясь придать своему визгливому голосу строгость и степенность. Он умышленно пропустил мимо ушей вопрос о поездке, тут же смекнув, к чему клонит хитрый старик.
– Отойди-ка немного, парень, как бы сено к твоей рубашке не пристало, – небрежно бросил Салиму проходивший с охапкой сена и, как всегда, что-то напевавший Газинур.
Салим вывел коня на свет, осмотрел рану и покачал головой.
– Придётся составить акт. А вы подпишетесь.
– Обязательно подпишемся, – сказал Газинур, подмигнув старику. – Только раньше напиши в акте вот что: «Хотя семидесятилетний конюх Сабир-бабай трижды приходил за мной, Салимгареем Салмановым, я не пошёл осмотреть больного коня и велел матери сказать, что меня нет дома. А сам ночь напролёт прокараулил у калитки Миннури…»
Салим побледнел. Немного отвислые губы его задрожали.
– Ах, вот как!.. В таком случае будем разговаривать в правлении, – и он почти выбежал из конюшни.
Газинур, посмеиваясь, смотрел ему вслед.
– Чего смеёшься? – удивился Сабир-бабай.
– Ишь ты!.. Актом пугает, а? Нашёл лазейку!
Из пожарного сарая вышел человек в коротком выцветшем пиджаке. Заложив руки за спину и чуть наклонив голову в тёплой, с меховой опушкой шапке, он неторопливо зашагал к правлению. Это был отец Газинура старик Гафиатулла. Проходя мимо плотников, работавших возле маслобойни, он негромко крикнул кому-то:
– Да будет успешен твой труд, Мирвали!
Не признать в теперешнем Гафиатулле бывшего бравого солдата, статного гренадёра. Сильно сдал старик. От привычки ходить с опущенной головой плечи его ссутулились. Ходит ли он, сидит ли целыми днями на пожарной телеге, подле бочки, до краёв наполненной водой, он всегда о чём-то разговаривает сам с собой: иногда тихонечко, бормоча, а если уж очень расстроен, голос его разносится по всему двору. В колхозе все знают эту его особенность, никому это не в диковину. Старик два лета пас колхозный скот, но потом, из-за плохого здоровья, правление поставило Гафиатуллу-бабая на более лёгкую работу – пожарником. Уже три года несёт Гафиатулла-бабай свою службу, и пока «Красногвардеец» минует эта страшная беда – пожары. Правда, однажды начала было гореть баня у Гарафи – слишком жарко натопили её, – но Гафиатулла-бабай птицей прилетел туда со своей бочкой и потушил огонь, не дав ему разгореться. В другой раз у молчуна Газзана загорелась сажа в дымоходе, из трубы вырвался столб пламени. Но и тут подоспел вовремя старик, – не успели напуганные хозяева выбежать на улицу, Гафиатулла-бабай уже орудовал на крыше. И на этот раз не дал он огню разбушеваться. Уж на что немногоречив Газзан, а пришёл-таки вечером к Гафиатулле и не пожалел слов для благодарности.
– Будет тебе, Газизджан, родной, рассыпаться в благодарностях, – сказал Гафиатулла. – В том моя служба перед народом. Лучше скажи своей жене Уммугульсум – пусть почаще чистит трубу. Да хорошенько промазала бы трещины в дымоходе и глины чтоб не жалела – её не покупать, хоть завались вокруг.
И не потому ли, что эти два случая сошли благополучно, появились в колхозе беспечные люди? Вчера только какой-то пустомеля болтал в правлении: дескать, у пожарника и дела-то нет, и нечего, мол, начислять ему трудодни! Прослышав о таких словах, старый Гафиатулла не то что день – ночь напролёт всё бормотал себе под нос:
– Гм… Пожарник, значит, бездельник, на шее у колхоза сидит?! А если накопленное за долгие годы колхозное добро вылетит в трубу, что тогда? Гм… Будто у пожарника день-деньской всего и дела – лёд сушить… Из глупых уст и слово-то вылетает глупое.
Вот почему сегодня, не заходя после дежурства домой, Гафиатулла-бабай поспешил в правление.
– Ханафи, родной, – сказал он тепло встретившему его председателю, – до меня дошло, будто нехорошие слова говорились здесь вчера о моей работе. Верно ли это?
– Садись, Гафиатулла-абзы, и не тревожь себя зря из-за пустого слова. Ты стоишь на боевом посту – охраняешь колхозное добро, и мы никому не позволим оскорблять тебя.
– Спасибо, Ханафи, спасибо, родной! – старик немного успокоился. – Сам небось знаешь, как больно бьёт напрасный попрёк. Недаром говорят, что холодное слово леденит сердце. Хорошо, пока обходится без пожаров, а случись хоть раз такое горе – на всю жизнь в памяти останется. Однажды у нас в Сугышлы вспыхнул пожар, так половины деревни как не бывало.
Перед Гафиатуллой встала страшная картина давнего прошлого. Он долго сидел задумавшись.
Из правления Гафиатулла собирался прямёхонько домой, но, выйдя, подумал, что Газинур, пожалуй, где-нибудь возле конюшни, и свернул в сторону конного двора. Просунув голову в дверь конюшни, он позвал сипловатым голосом:
– Газинур, сынок, ты здесь? У матери давно уж, верно, самовар вскипел. Пойдём перекусим.
Газинур посыпал песком стойла. Поставив железную лопату в угол, он направился к выходу. За ним ковылял Сабир-бабай. Малахай у него сдвинут задом наперёд.
– Сабир, – улыбнулся Гафиатулла, – мельница твоя не в ту сторону повернулась.
– Стареем, Гафиатулла. – И Сабир-бабай поправил шапку.
Старики пожелали друг другу доброго утра. Приставив руку ко лбу, Сабир-бабай глянул в белёсое, без единого облачка небо. – Похоже, опять будет сильно парить сегодня.
– Да, жди после обеда дождя, – поддержал его Гафиатулла. – Вишь, вороны стаями летают. К дождю это. Да и поясница у меня всю ночь ныла. Я и Ханафи сейчас посоветовал: «Посылай, говорю, побольше людей на сенокос. Надо убрать, пока сухо».
– Ты не видел брата, отец? – спросил Газинур. – Мать наказывала позвать его.
Женившись, Мисбах отделился от отца. Но мужчины частенько, по старой привычке, вместе пили утренний и вечерний чай. Тёте Шамсинур было как-то не по себе, когда Мисбаха не было с ними и одна сторона накрытого стола пустовала. Она очень любила своего первенца, хотя уже имела второго сына – Халика.
– Мисбахетдин спозаранку на покосе, – ответил Гафиатулла-бабай и, заложив руки за спину, направился к дому, что-то тихонько бормоча себе под нос. Он уже совсем успокоился. Газинур шагал рядом.
Дойдя до своего дома, они вошли во двор, огороженный жердями. Мимоходом старый Гафиатулла поправил подпорку у яблони, поднял и положил на завалинку обронённое полено. Пока Газинур, быстрым, энергичным жестом накреняя чугунный кумган, умывался, Гафиатулла неторопливо снял пиджак, повесил на гвоздь шапку, обеими руками надел на голову снявшуюся вместе с шапкой залоснённую тюбетейку и только тогда подошёл к кумгану.
На столе, покрытом красной в клетку скатертью, давно уже шумел начищенный до блеска медный самовар. Тётя Шамсинур хлопотливо бегала от печки к столу.
– Что так запоздали? – спросила она.
– К Ханафи заходил, – сказал Гафиатулла, усаживаясь в переднем углу.
Газинур время от времени поглядывал в окошко. За противоположным порядком домов поднимается гора. Над нею, едва не задевая вершины, плывёт белое, совсем как фарфоровое, облачко. Теперь уже при виде несущихся облаков мечты Газинура далеко не столь наивны, как в детские годы. «Эх, – думает он, присыпая солью горячую картофелину и аппетитно отправляя её в рот вместе с хлебом и айраном, – вот если бы по этому склону посадить малину, чёрную смородину… А в той впадине меж двух гор разбить яблоневый сад… Там никогда не бывает ветра, – самое подходящее для яблонь место». А у подножия горы он выстроил бы школу. Как в Бугульме – с широкими светлыми окнами, под железной крышей…
Вчера по дороге в Бугульму Гали-абзы говорил: «Пора уже нам крепко подумать о ветряном двигателе. Поить столько скота, черпая воду вёдрами из колодца, – куда это годится! А если поставить на вершине вон той горы ветряной двигатель, вода сама потечёт по трубе в хлева и конюшни».
Эх, поскорее бы поставить этот ветряной двигатель!
Ещё пили чай, когда в дверь влетел младший брат Газинура Халик, двенадцатилетний мальчик с густо покрытым веснушками лицом и весёлыми, живыми, как у Газинура, глазами.
– Газинур-абы, – с трудом переводя дыхание, проговорил он, – тебя вызывают в правление… Ханафи-абзы сказал: пусть придёт немедленно.
«Салим…» – мелькнуло у Газинура.
– Опять спешное дело! – заворчала тётя Шамсинур. – Поесть спокойно не дадут. Газинур да Газинур… Будто весь колхоз на одном Газинуре держится. Не торопись, сынок, поешь хорошенько. Всему своё время. Там тебя никто не напоит. Подождут, небось не горит…
– И чего болтаешь пустое! – с упрёком взглянул на жену Гафиатулла. – Не ровен час…
Халик, который уже успел набить рот картошкой, едва ворочая языком, спешил поделиться новостями.
– Около конюшни народу тьма!.. Смотрят Маймула. Ханафи-абы сердитый-пресердитый. Ветфельдшера нашего греет, будто сковороду на огне. «Если, говорит, в три дня не вылечишь мне коня, отдам под суд». Сабир-бабаю тоже досталось…
– Где сейчас Ханафи-абы? На конном дворе? – перебил его брат.
– Нет, поднялся к строительству.
Поблагодарив мать, Газинур вышел из дома.
– Альфиякай[10]10
Ласковое обращение.
[Закрыть], ты из правления? Ханафи-абы там? – крикнул Газинур, увидев посредине улицы торопившуюся куда-то Альфию.
– Ушёл на строительство, Газинур, – сказала она приветливо. – И тебе велел явиться туда же.
Они пошли вместе.
– Что, послать меня куда-нибудь собирается?
– Нет, заболел Степан, распиловщик, ну и решили пока на его место тебя поставить.
– Почему меня? Почему не Хашима? – шутливо упрекнул Газинур. – Ага, краснеешь, Альфия! Конечно, если любишь Хашима, что тебе до Газинура? Не всё ли равно, куда его поставят? – весело трунил он над девушкой.
Альфия краснела, оправдывалась.
Колхоз строил в этом году два больших амбара и три овощехранилища: колхозные урожаи росли и уже не умещались в старых амбарах и погребах. Кроме того, ещё в прошлом году колхоз заложил маслобойню. Все эти стройки, вместе взятые, и стали называть одним словом, вошедшим в крестьянский обиход с началом коллективизации, – «строительство». Работу на строительстве почитали за честь, и Газинуру было приятно новое поручение. Два овощехранилища были почти готовы, осталось только засыпать землёй крыши. Эту работу делали женщины. Мужчины – кто копал яму для третьего овощехранилища, кто заготавливал стойки, доски, стропила.
Газинур спустился в овощехранилище – длинное и просторное помещение.
– Ну, чем не подземный дворец?! – покручивая чёрный ус, сказал ему Ханафи. – Видал, каков у нас размах, Газинур?
– Да, Ханафи-абы, это вам не подпол и даже не погреб моей матушки.
Бровастый, черноусый, с виду суровый Ханафи громко расхохотался. Смеялся этот высокий, плотный, но очень подвижный человек в полувоенном костюме так искренне, и столько в этом смехе было неподдельной радости жизни, что нельзя было не отозваться на него. Так смеются обычно люди широкой натуры, прочно уверенные не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем своём дне.
Ханафи выбрали председателем после отъезда Гали-абзы в Бугульму. Он тогда только что вернулся из Красной Армии. Ханафи и до сих пор не оставил своих армейских привычек. В разговоре он любил вставлять слова военного обихода, и всем это даже нравилось. Изредка, случалось, позволял себе и покомандовать; в такие моменты он круто обрывал всякого, кто решался возражать ему. «Сказал – кончено!» Но вообще-то он умел подойти к людям: старшим оказывал почёт и уважение, не важничал с равными себе, молодёжь тянулась к нему.
– Пора, пора уже, Газинур, забывать нам старые подполы да снеговые погреба. Обожди, скоро построим и холодильники настоящие. А теперь слушай боевое задание: немедленно отправишься на гумно и, пока не поправится Степан, будешь помогать пилить доски. Выполняй!
Шагая на гумно, Газинур невольно залюбовался двумя просторными, из хорошего соснового леса, амбарами, что строились на холме. «Покроем крышей – будут красоваться не хуже каменных».
Из-под сверкающих на солнце топоров летит белая щепа. С лёгким звоном врезаются в дерево ручные пилы. Слышатся энергичные голоса колхозников, подкатывающих брёвна: «Раз, два – взяли!» Один конец сруба оседлал Гарафи-абзы в нахлобученной на самый лоб войлочной шляпе, на другом устроился верхом дядя Дмитрий. Рыжая длинная борода его кажется под солнцем огненной.
На строительстве вместе со своими плотниками работают мастера из соседних колхозов, русских и чувашских. Газинур всех их хорошо знал, а с распиловщиком Степаном и его напарником, чувашем Пашкой, светловолосым, курчавым, широкогрудым парнем, даже сдружился.
– Удачи в работе, Гарафи-абзы! – стараясь перекрыть царивший вокруг шум, крикнул Газинур. – Дяде Дмитрию салям[11]11
Салям – привет.
[Закрыть]! Ой, ой, как горячо взялись! Вчера только фундамент закладывали, а сегодня, гляжу, уж до балок дошли.
– Когда работаешь в паре с Дмитрием Ивановичем, зевать не приходится, – рассмеялся Гарафи, бросив дружеский взгляд на сидевшего напротив рыжебородого плотника. – Дядя Дмитрий не любит работать шаляй-валяй.
– На то и дело, чтобы делать его как следует, – в тон ему ответил старый мастер. – Не в одном ведь «Красногвардейце» амбары ставят. Нас ждут и в «Заре», и в «Прогрессе», и в «Тигез басу».
Пашка сидел в стороне и точил свою длинную пилу. С ним Газинур поздоровался за руку.
– Степан заболел, – сказал Пашка, – работа, понимаешь, задерживается. А завтра начинают крыть крышу. Доски нужны.
– Не бойся, друг Пашка, за нами дело не станет, – хлопнул друга по плечу Газинур, сбросил пиджак и, ловко подтянувшись на руках, вскочил на лежащее на высоких козлах толстенное бревно.
Бревно уже один раз было пропилено вдоль. По второму разу была пройдена пока половина.
Газинуру и раньше приходилось иногда заниматься этим делом, он знал толк в распиловке. Да и отец его в молодости работал распиловщиком, он поведал сыну немало секретов своего ремесла. Поэтому-то, когда Степан заболел, Пашка сам попросил председателя дать ему в напарники Газинура.
Ухватившись обеими руками за отполированную от долгого употребления рукоятку пилы, Газинур радостно огляделся вокруг. Ощущение высоты действовало на него возбуждающе. Видимо, это осталось у него с детских лет: скирду ли ставили, стог ли метали, или крышу крыли – Газинур всегда работал наверху. Наверху чувствуешь простор, мир будто раздвигается, грудь дышит вольнее, весь внутренне как-то подтягиваешься.
Прямо против него, убегая к темнеющему вдали лесу, далеко простираются широкие поля родного колхоза. Чуть колышутся желтеющие хлеба. Перегоняя одна другую, волны катятся всё дальше, дальше, на их место тут же набегают новые. По дороге, что едва заметной лентой тянется меж хлебов, кто-то едет. Ни лошади, ни телеги не видно, мелькает одна дуга. Правее, на скошенном лугу, ходит стадо. Белый племенной бык взобрался на бугор посреди луга и стоит недвижимый, будто высеченный из мрамора. Его могучая грудь почти касается земли, рога – косая сажень.
– Начнём, друг Пашка, – говорит Газинур, сверкнув глазами.
Зазвенев, пила легко скользнула вниз. Из-под отточенных зубьев посыпалась на землю жёлтая «крупа».
В такт то взлетающей, то опускающейся вниз пиле мерно, ритмично заколыхались и широкие поля, и тёмно-зелёный лес, и этот белый, кажущийся огромным бык на бугре…








