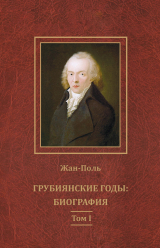
Текст книги "Грубиянские годы: биография. Том I"
Автор книги: Жан-Поль
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
№ 4. Кость мамонта из Астрахани
Волшебная призма
Старый Кабель из глубины своей могилы вызвал землетрясение под морем Хаслау: так взбаламутились, словно волны, тамошние души, пытаясь разузнать что-то о юном Харнише. Маленький город – это большой дом, и улицы в нем – всего лишь лестницы. Кое-кто из молодых господ даже проделал верхом весь путь до Эльтерляйна, с единственной целью: поглазеть на наследника; но всякий раз оказывалось, что увидеть его невозможно, ибо он бродит где-то по горам и полям. Генерал Заблоцкий, владевший в Эльтерляйне поместьем, отправил своего управляющего в город, чтобы навести справки. Кое-кто по ошибке принял только что прибывшего в город флейтиста-виртуоза ван дер Харниша за одноименного наследника и довольствовался сплетнями о приезжем; особенно этим отличались люди с односторонним слухом, которые, будучи на одно ухо глухими, слышат лишь половину произносимых речей. Только в среду вечером – а завещание было вскрыто во вторник – город наконец вышел из мрака неведения, и произошло это в пригороде, в трактире «У очищенного рака».
Почтенные члены профессиональных коллегий обычно подливали там в чернила своего рабочего дня немного вечернего пива, чтобы разбавить черную краску жизни. А поскольку старый сельский шультгейс Харниш вот уже двадцать лет как заглядывал сюда, хозяин «Очищенного рака» смог рассказать собравшимся, по крайней мере, об отце наследника: что тот каждую неделю засыпает правительство и Палату бессмысленными запросами, а здесь всякий раз заводит бесконечную старую песню о своей трудной должности, о своих многочисленных юридических мнениях и книгах, о своем «двугосподском» хозяйстве и сыновьях-близнецах, – но при этом за всю жизнь не заказал больше одной-единственной селедки и кружки пива. «Этот сельский шультгейс, – продолжил хозяин, – хоть и мастак вести высокопарные речи, но на самом деле трусливый заяц, который, коли хочет чего-то добиться, посылает вместо себя жену или подает длиннющие прошения; а еще у него слишком утонченная натура – и если кто-то в его присутствии скривит лицо, он потом переживает целыми днями; а уж тот нагоняй, что он зимой получил от правительства, до сих пор комом лежит у него в желудке».
Только вот о главном, закончил хозяин трактира, о сыновьях шультгейса, он ничего не знает; кроме того, что один из них, Вульт – пройдоха и любитель свистеть на флейте, – в четырнадцать с половиной лет сбежал из дома с таким вот (тут корчмарь показал на господина ван дер Харниша) господином; о другом же сыне, который объявлен наследником, наверняка лучше расскажет вон тот господин в сюртуке с черными петлями, что сидит чуть подальше, – ибо это не кто иной, как кандидат в проповедники и школьный учитель Шомакер из Эльтерляйна, в прошлом наставник Вальта.
Кандидат Шомакер как раз исправлял карандашом опечатку на макулатурном листе, прежде чем плотно завернуть в этот лист пол-лота мышьяка. Он ничего не ответил, а завернул пакетик из печатного листа в лист белой бумаги, запечатал новый пакет печатью, надписал на всех углах: Яд! – и продолжал заворачивать это во всё новые листы и надписывать их, пока не повторил такую процедуру семь раз и не получил в результате толстый пакет размером в восьмую долю листа.
Теперь он поднялся – широкоплечий, сильный человек – и сказал очень робко, так же расставляя в своей речи запятые и прочие знаки препинания, как каждый из нас расставляет их на письме:
– Это совершенная правда, что он мой ученик; в связи с чем могу вас заверить, во-первых, что он юноша благородного нрава, и, во-вторых, что сочиняет по новой методе превосходные вирши, которые сам он называет длинностишиями, я же предпочитаю именовать полиметрами.
При этих словах флейтист-виртуоз ван дер Харниш, который прежде с холодным выражением лица описывал круги по залу, внезапно загорелся интересом. Подобно прочим виртуозам, он привез из своих поездок по большим городам презрение к городам малым (а вот деревню такие господа ценят): потому что в маленьком городе ратуша это никакой не одеон, частные дома – не художественные галереи, а церкви – не античные храмы… Приезжий обратился к кандидату с почтительной просьбой высказаться подробнее.
– Если долг требует от меня, – ответил тот, – чтобы завтра, вернувшись домой, я не открыл никаких сведений об открытии завещания самому наследнику – потому что это сделает мой начальник в субботу, – то тем более мне не подобает излагать всю историю жизни живого человека, не спросив у него разрешения, и тем более… О Господи, кто же из нас станет трупом? – возопил он вдруг, ибо в бое часов ему послышался звон надгробного колокола; и тотчас схватился за лежащую рядом газету с рассказом о какой-то битве, чтобы приободриться: ведь ничто так не помогает человеку занять позицию хладнокровного смельчака по отношению к перспективе собственной смерти, как поле в одну или две квадратные мили, сплошь усеянное окровавленными конечностями и мертвецами.
По поводу такой роскошной религиозной бессовестности флейтист состроил презрительную мину; и с досадой сказал – прежде достав из кармана призму и потребовав четыре свечи:
– Я мог бы очень быстро узнать, кому суждено в скором времени стать трупом; но лучше, господин кандидат, я с помощью этой волшебной призмы расскажу вам всё то, что вы не хотите рассказать мне.
Он объяснил, что призма содержит в себе различные воды, собранные с четырех сторон света; что нужно потереть ее о грудь, с той стороны, где сердце, пока она не согреется, и потом тихо произнести, какие события ты хотел бы увидеть в прошлом или будущем; и если интересующий тебя человек вознамерился что-то предпринять, о чем сам он никогда не скажет, если только ему не будет грозить смертельная опасность, – потому-то тайну обычно узнают либо от умирающего, либо от того, кто собирается совершить самоубийство, – то тотчас в этих четырех водах возникнет туман, который будет клубиться и густеть, пока не сконцентрируется в светлые человеческие фигуры: и они тогда воспроизведут свое прошлое или разыграют свое будущее либо настоящее, уж как того потребует владелец призмы.
Школьный учитель Шомакер пока что держался по отношению к призме равнодушно и твердо: поскольку знал, что, произнеси он молитву, и никакой черт ему не страшен. Ван дер Харниш же вытащил из кармана свою крестильную простынку, набросил ее себе на голову, а под ней как-то взбодрился и потом затих; наконец присутствующие услышали слова: «комната Шомакера». Теперь флейтист отбросил простынку, испуганно уставился на призму и принялся громко и монотонно описывать каждую малость, которая находится в этом тихом холостяцком жилище, начиная от печатного пресса и кончая птичкой за печью, даже вплоть до мышки, которая как раз там пробегала.
Поначалу у кандидата волосы то ли зашевелились слегка, то ли нет; но когда ясновидец сказал: «Какая-то призрачная тень в вашей комнате облачилась в ваш шлафрок, и разыгрывает вашу роль, и ложится в вашу постель», – тогда Шомакера в самом деле прошиб холодный пот. «Это была толика вашего настоящего, – сказал виртуоз. – Теперь черед малой толике прошлого, а потом мы увидим столько будущего, сколько понадобится, чтобы узнать: не вы ли станете в нынешнем году трупом».
Напрасно кандидат пытался поставить ему на вид аморальность заглядывания в прошлое и в будущее; господин ван дер Харниш ответил, что он целиком на стороне своих духов, которые хотели бы выкупаться в том и в другом, – и уже начал рассказывать, глядя в призму, как кандидат, еще будучи молодым человеком, отказался и от места воскресного проповедника, и от брака: просто потому, что имел 11000 угрызений совести.
Трактирщик шепнул что-то на ухо измученному учителю, но из всей фразы внятно прозвучало только слово «драка». Шомакер – которому о собственном будущем хотелось слышать еще меньше, чем о прошлом, – пожертвовал моральными принципами и дал понять таинственным духам, что лучше он сам расскажет сейчас историю семейства Харнишей, ставшую столь интересной для всех благодаря обнародованному завещанию; а господин ван дер Харниш, мол, пусть смотрит в призму и помогает ему, дополняя его рассказ.
Виртуоз-мучитель тут же согласился. Работая на пару, эти двое кратко воспроизвели предысторию героя завещания, которую читатели с тем большим удовольствием найдут в фогтландском мраморе с прожилками бледно-мыгииного цвета (ибо именно так называется следующий нумер), что после столь многих уже прочитанных печатных страниц каждый из них, наверное, мечтает поближе узнать героя, пусть тот и будет пока оставаться на дальнем плане. Автор же сей книги постарается выполнить свой долг: соединить двух Евтропиев в одного Тита Ливия, текст же последнего немного пригладить, вычеркнув из него пата-визмы и подчеркнув стилистические красоты.
№ 5. Фогтландский мрамор с прожилками бледно-мышиного цвета
Предыстория
Шультгейс Харниш – отец полного наследника – еще в юности возвысился до положения странствующего подмастерья каменщика и при своих математических способностях и усидчивости – а он все воскресенья, пока странствовал, читал на свежем воздухе книжки – наверняка добился бы многого, если бы однажды в веселый праздник Марии в трактире не залетел в мухоловку вербовщиков, сделанную в виде бутылки. Напрасно хотел он на следующее утро выбраться наружу через узкое горлышко: влипнуть ему довелось основательно. Он колебался: прокрасться ли ему на кухню и там выбить себе передние зубы, чтобы они не достались полковому начальству, или все-таки лучше – поскольку его и без зубов могут забрать в артиллерию – застрелить из окна этого вербовочно-питейного заведения какую-нибудь таксу: чтобы навлечь на себя бесчестье и таким образом, в соответствии с тогдашними обычаями, освободиться от кантональной службы. Он предпочел потерять честь и сохранить челюсть. Только вот убитая такса хотя и высвободила молодого человека из лап вербовщика, но одновременно, подобно новому Церберу, выкусила его из строительной гильдии.
«Ну и ладно, – утешал себя Лукас, мечтая о сельских просторах, – лучше уж иметь незашитую прореху в чулке, чем зашитую – в собственной икре». Столь сильно он, будучи человеком ученым, хотел уклониться от воинской службы.
В то время как раз умер его отец, тоже шультгейс; Лукас вернулся в родное село и унаследовал как отцовский дом, так и связанное с ним коронное наследство, то бишь должность; правда, само коронное имущество состояло из исчисленных в кронах долгов. И за короткое время наследник это доставшееся ему долговое имущество значительно умножил. Дело в том, что он душой и телом погрузился в пучину юриспруденции: просиживал положенные ему рабочие часы над одолженными документами и купленными им самим книгами, выдавал на все стороны никому не нужные responsa, которые порой растягивались на целые страницы и дни: он ведь протоколировал каждое действие, совершенное им в качестве шультгейса, – писал сперва черновик, а потом и чистовик, использовал красивый ломаный шрифт «фрактура» и косой курсив, которым еще и копировал всё это для себя; приглядывал, опять-таки как шультгейс, за происходящим в селе – сам всюду совал нос и целыми днями осуществлял свое правление. В результате село стало процветать гораздо больше, чем собственные поля и луговины шультгейса, и его должность жила благодаря ему, а не он – благодаря своей должности. Он мог бы сразу приписать себя к лучшим горожанам, живущим на широкую ногу: как Сорбонна, это учебное заведение для бедных (pauperrima domus), приписала себя к университету. Однако все разумные жители Эльтерляйна сходились на том, что, если бы не работящая жена шультгейса – так сказать, здравый смысл во плоти, – которая за одно утро успевала приготовить еду для скотины и домочадцев, выгнать скотину на пастбище и заняться покосом, ему бы давно пришлось, с должностным скипетром в одной руке и нищенским посохом в другой, покинуть свой правящий дом и двор, каковыми он и без того, собственно, владел лишь условно, как бы арендуя их у своей благоверной.
Для него оставалось одно целительное средство: решить, что он отказывается от дома и, значит, от должности. Но он бы скорее позволил себя обезглавить, чем согласился хотя бы понюхать – а тем паче принять – такое лекарство: горькое питье, которое отравило бы все его дальнейшее существование.
Во-первых, должность шультгейса с незапамятных пор переходила по наследству в его семье, как засвидетельствовано официальной историей; его юридическая практика, его сердце, да даже и его вечное блаженство были привязаны к этой должности, поскольку он знал, что во всем селе не найти на этот пост второго такого же хорошего юриста, как он, – хотя люди понимающие утверждали, что от исполнителя такой должности требуется не больше, чем, согласно Золотой булле, от римского императора: а именно, чтобы он был «справедливым, добрым и полезным человеком»[1]1
Aur. Bull. I: homo justus, bonus et utilis. – Примеч. Жан-Поля.
[Закрыть]. Добравшись до дома, однако, шультгейс всякий раз оказывался в нижеописанной – совершенно поразительной – бедственной ситуации.
Дело в том, что Эльтерляйн имел сразу двух господ: на правом берегу ручья жили ленники известного князя, на левом – подданные не менее известного вельможи; в обычной жизни сельчане называли себя просто правыми и левыми. Так вот, судя по всем межевым книгам и по истории пограничных конфликтов, в старые времена демаркационная линия, то бишь ручей, пролегала вплотную к дому шультгейса. Позже ручей изменил свое русло – а может, засушливое лето притянуло его поближе к небу; короче говоря, дом Харнишей оказался построенным над ручьем, так что не только стропильная ферма простиралась над двумя разными территориями, но и потолок комнаты, и даже – когда его ставили – инвалидное кресло.
Однако в той же мере, в какой этот дом стал для старого шультгейса преддверием юридического рая, он одновременно был преддверием его камералистского ада. С несказанным удовольствием шультгейс часто оглядывался по сторонам в своей комнате – где на стене был изображен княжеский пограничный столб с гербом, – бросал публицистические взгляды то на княжеские, то на рыцарские половицы и правовые грамоты и думал, что по ночам он относится к правым – потому что спит по-княжески, – и только в дневное время живет как левый, потому что его обеденный стол и печка пожалованы в дворянство. Его сыновья уже привыкли, что по воскресеньям, перед ужином, отец – если прежде он долго предавался размышлениям, – жизнерадостно и поспешно трясет головой, приговаривая: «Мой дом, хочу я сказать, как по мерке сшит для дельного юриста, потому что любой другой человек проворонил бы в нем все важнейшие права и территории, не сумев с ними как следует разобраться, – ведь он не чувствовал бы себя в этом деле как дома; и ты хочешь, Вронель, чтобы я, старый опытный ходатай, добровольно ушел отсюда, от всего этого отказался?» – Лишь спустя долгое время он, так и не дождавшись ответа от Вероники, своей супруги, отвечал себе сам: «Да ни за что и никогда!»
Правда, когда он, что случалось каждодневно, отступал от своих заимодавцев в домашнюю цитадель, а им, как поступают и другие коменданты крепостей, оставлял предместья, то бишь нуждающееся в обработке поле, – оставлял, значит, поле битвы и, насколько умел, пытался отсрочить продажу дома, а вместе с ним и должности, вместо того чтобы повышать урожайность пашни, – ведь именно этого требовало его бьющееся сердце, струнодержатель всей его жизни: тогда он рассчитывал еще и на две пары зачатых им рук, что они ему помогут и выправят подгриф, управляющий как светлейшими звуками, так и диссонансами; он имел в виду двух сыновей-близнецов.
В свое время, когда Вероника собралась их рожать, шультгейс – как если бы она была сицилийской или английской королевой – пригласил достаточное количество свидетелей родов, которые после переквалифицировались в свидетелей крещения. Родильное ложе он передвинул на рыцарскую территорию, потому что мог родиться сын и такое место рождения вырвало бы его из княжеских рук, которые наложили бы на мальчика лямку солдатской службы вместо уже заранее предназначенной для него повязки Фемиды. И действительно, на свет появился герой этой книги, Петер Готвальт.
Однако роженица, как выяснилось, не собиралась на этом останавливаться; поэтому отец счел своим долгом и необходимой мерой предосторожности подсунуть теперь родильное ложе князю – дабы каждый получил, что ему причитается. «В лучшем случае родится еще и девочка, – сказал он себе, – или… чего пожелает Бог. Родившийся вскоре младенец оказался отнюдь не девочкой, а тем самым, о чем шультгейс подумал в последнюю очередь; поэтому мальчик – после того, как кандидат Шомакер помянул и перевел с латыни имя человека, который при Гейзерихе был епископом Карфагенским, получил имя того самого епископа: Quod Deus vult – или, для домашнего употребления, просто Вульт.
Сразу же в комнате были проведены четкие разграничения, огораживания и приняты положения о территориальном разделе: колыбели и все прочие предметы обстановки подверглись соответствующему распределению. Готвальт спал, и бодрствовал, и сосал материнское молоко как левый, Вульт же – как правый; позже, когда оба младенца научились ползать, от Готвальта, подданного вельможи, княжескую территорию легко отделили невысокой решетчатой оградой – просто позаимствованной из курятника или какого-то стойла; и точно так же необузданный Вульт прыгал за своим частоколом, обретая из-за этого сходство с мечущимся в клетке леопардом.
Лишь ценой длительных и напряженных усилий Вероника привыкла к такому смехотворному разобщению наследников; но ей пришлось смириться: ведь старый Лукас, как все ученые, отличался особым упрямством в отстаивании своих мнений, а также, несмотря на всю любовь к супруге, – холодным равнодушием к тому, что он может казаться смешным.
Вскоре сделалось очевидно: научные дисциплины в будущем станут стезей Готвальта; ведь, и не отдавая ему родительского предпочтения, легко было заметить: этот белокурый, с тонкими руками, хрупкого телосложения мальчик, даже проведя целое лето в качестве овечьего пастушка, оставался до такой степени снежно– и лилейно-белым, что отец говорил – он, дескать, скорее подобьет сапог кожицей от яичного белка вместо нормальной кожаной подметки, чем допустит, чтобы этот его сын вел жизнь крестьянина. Однако у мальчика была столь благочестивая, застенчивая, нежная, благородная, способная к обучению, мечтательная натура – хотя он казался до смешного неуклюжим и эластично-подпрыгивающим, – что к огорчению отца, который хотел вырастить из сына юриста, все жители села, включая самого пастора, говорили: со временем Вальт непременно должен, как учил Цезарь, стать первым человеком в родной деревне, то бишь пастором. «Ибо как же это? – недоумевали сельчане. – Готвальт, голубоглазый блондин с пепельно-серыми волосами, с тончайшей снежно-белой кожей… – как? – такой человек должен когда-нибудь стать криминалистом и служить под эгидой великого триумфатора Карпцова, который одним лишь своим убийственным пером, сделанным из меча Фемиды, погубил двадцать тысяч человек? Вы, хотя бы ради пробы, пошлите его, – продолжали сомневающиеся, – с печатью суда к какой-нибудь бледной вдовице, которая, молитвенно сложив руки, сидит в кресле и слабым, тихим голосом перечисляет свои скудные пожитки, и заставьте выполнить поручение: по судебному решению беспрепятственно опечатать все ее старые двери, и шкафы, и шкатулку с последними вещицами, оставшимися на память о муже, – увидите тогда, сумеет ли он справиться с этим, несмотря на свое сердцебиение и сочувствие!»
«Но зато младший брат-близнец, Вульт, – уже веселее продолжали сельчане, – этот черноволосый, рябой, коренастый пройдоха, который успел подраться с половиной села, постоянно шастает по окрестностям и являет собой настоящий передвижной театр aux Italiens, так как умеет передразнить любую физиономию и любой голос, – вот он совсем другой человек: ему можно смело сунуть под мышку папку с юридическими документами или подставить под задницу стул судебного заседателя. Если Вальт – в дни карнавала – в танцующем школьном классе всегда сопровождал кандидата Шомакера и его скрипку собственным маленьким контрабасом, позволяя совершать прыжки разве что своим радостным глазам и смычку: то Вульт, танцуя, скакал по всей комнате с грошовой флейтой у губ, находя еще свободное время и свободные конечности для всякого рода проделок, – разве не должны такие таланты пригодиться в юриспруденции, а, господин шультгейс?» —
«Должны», – соглашался отец. В итоге Готвальт был подсажен на небесную лестницу, как будущий пастор и консисторская птичка; Вульту же пришлось мастерить для себя ямную лестницу в дельфийскую правовую пещеру, чтобы потом подняться оттуда уже в качестве юридического штейгера, от которого шультгейс ожидал для себя всяческих благ: сын, дескать, вытащит его из зловонной ямы, обвив золотыми и серебряными рудными жилами, неважно каким способом – то ли ведя за него судебные процессы, то ли помогая делать накопления, то ли став судебным управляющим в их местечке (а может, даже и правительственным советником, уж как оно там получится), то ли просто посылая к первому дню каждой четверти года хорошие денежные подарки.
Да только Вульт – не говоря уж о том, что он не желал ничему учиться у школьного педагога и кандидата Шомакера, – имел тот досадный недостаток, что вечно свистел на дешевой флейте, а в четырнадцать лет, в день праздника освящения храма, встал под окном замка, где играли флейтовые часы, чтобы у этих часов, как у своей первой учительницы, взять, если и не часовой, то хоть четверть-часовой урок музыки. – Здесь, думаю, самое время вставить ту аксиому, что люди вообще за четверть часа обучаются большему, чем за час. Короче говоря, однажды, когда Лукас вел сына в город для осмотра на предмет годности к воинской службе (проформы и порядка ради), Вульт сбежал с встреченным по пути пьяным музыкантом, который своим инструментом еще как-то владел, а вот собой и собственным языком уже нет; сбежал на все четыре стороны. С тех пор его больше не видели.
Теперь получалось, что юриспруденцией должен все-таки заняться Готвальт Петер. Но мальчик никоим образом этого не хотел. Поскольку же он постоянно читал – а для народа чтение все равно что молитва (ведь и Цицерон выводил слово религия от relegere, «часто читать»), – в глазах всех сельчан он уже теперь был «маленьким пастором», а мясник, выходец из Тироля, даже называл его то пасторским мальчонкой, то пасторским служкой; потому что он в самом деле был как бы маленьким капелланом или причетником, точнее, выполнял функции таковых: охотно приносил на кафедру Библию в черном переплете, застилал перед Таинством Причастия алтарь, держал блюдо с облатками и кубок, самостоятельно в середине дня (когда Шомакер тайком удалялся домой) сопровождал игрой на органе церковную службу и всегда посещал церковь даже в будние дни, если должны были кого-то крестить. Да, и если по вечерам после занятий пастор выглядывал из окна, в шапочке и с трубкой, то и Вальт надеялся, что не отстает от него, когда, с пустой холодной трубкой и в белой шапочке, приникал к своему окну, что придавало его детскому личику сходство с лицом библейского патриарха. И разве однажды зимним вечером Вальт не взял под мышку сборник церковных песнопений и не совершил, как пастор, настоящее посещение страждущей, отправившись к совершенно безразличной ему, больной артритом, дряхлой вдове портного и начав зачитывать ей текст песни «О вечность, радостное слово…»? И разве не пришлось ему, добравшись всего лишь до второго стиха, прервать это действо, потому что на глаза вдруг навернулись слезы – относящиеся не к глухой высохшей старухе, а к самому действу?
Шомакер очень близко к сердцу принимал судьбу любимого ученика и как-то вечером не побоялся заявить самому судье («Я предпочитаю, чтобы меня называли именно судьей, а не шультгейсом», – говорил Лукас), что он, мол, уверен: на духовном поприще человеку живется лучше, особенно это касается утонченных натур.
Но поскольку сам-то кандидат так и не стал никем, разве что собственным минусовым знаком и собственным вакантным местом, судья ответил на его речь только вежливым невнятным бормотанием; после чего рассказал заплесневелый анекдот о том, как однажды профессор юриспруденции обратился к своим студентам: «Высокочтимые господа министры юстиции, тайные советники, действительные тайные советники, президенты, финансовые, государственные и прочие советники и синдики, к которым я обращаюсь так, ибо пока не знаю, что из вас всех получится!» – Лукас еще прибавил, что в Пруссии адвокату платят за час работы, что зафиксировано в законах, 45 крейцеров, и попросил подсчитать, сколько это выходит за год; а ведь настоящему юристу (подвел он итог) сам черт не брат; и легче удержать поросенка за намыленный хвост, чем заставить адвоката придерживаться буквы закона (что, наверное, на более культурном языке означает: знание права это описанная вокруг человека монетная легенда, оберегающая его от попыток всяких проходимцев отрезать кусочек ценного металла), – и как раз тощие селедки, наподобие его Петера Вальта, превращаются на этом поприще в крупных щук: ведь чем тоньше нож, тем острее лезвие; и он знает ходатаев, которые способны, как нитка, пролезть сквозь угольное ушко, но при этом могут пребольно уколоть.
Речи шультгейса, как всегда, ничему бы не помогли; но разумная Вероника, его жена, захотела (вопреки обыкновению женщин, которые в домашней консистории всегда, как советники от духовного сословия, голосуют против светских властей) перегнать сына из церковного загона для овец на юридическую скотобойню; а все потому, что когда-то она работала кухаркой у городского пастора и, как она говорила, хорошо представляет себе эту братию.
Вероника, когда осталась наедине с сыном, который был к ней привязан больше, чем к отцу, сказала только: «Мой Готвальт, я не могу принудить тебя выбрать отцовскую профессию; но послушай: в первый же раз, как ты будешь читать проповедь, я одену траурное платье, накину белое покрывало, отправлюсь в церковь и во все время проповеди – как если бы это была надгробная проповедь – буду стоять со склоненной головой и плакать; а если женщины спросят меня, почему, я покажу на тебя». – Эта картина так мощно овладела фантазией Вальта, что он, заплакав, стал выкрикивать «нет», «нет!» (имея в виду траурное покрывало) и говорить «да», «да!» своей будущей адвокатуре.
Так случай навязывает нам наш жизненный путь, да и идеи тоже; от нашего произвола зависит лишь то, как долго мы будем следовать этим путем, следовать этим идеям, и как скоро от них отдалимся.
Вальту разные языки давались, как они даются народам – чуть ли не сами собой. Этим он вознес своего отца на вершины восторга: ведь сельские жители, как и ученые люди, определяют разницу между ученым и рабочим сословием, исходя почти исключительно из того, как у человека подвешен язык. Поэтому Лукас, бывший каменщик, однажды сухой весной собственноручно построил – не встретив противодействия ни со стороны убитой таксы, ни со стороны гильдии, к которой когда-то принадлежал, – приватную учебную комнатку для своего ходатая. Этот последний сперва посещал (знаменитый) лицей Иоганнеум; потом перешел в (знаменитую) гимназию Александринум (названия обоим учебным заведениям дал не кто иной, как выступающий в коллегиальном двуединстве кандидат Шомакер собственной персоной: ибо его звали Иоганн Александр). Поначалу Вальт вместе с Вультом, пока тот не сбежал, посещал и воплощал в своем лице третий младший класс, а потом и третий старший; но после бегства брата ему пришлось, уже без флейтиста, одному закончить второй и первый, где он прихватил и начатки иврита, который в этих классах изучают теологи. Когда ему исполнилось двадцать, он из гимназии, то есть из рук гимназиарха, перешел – уже в качестве абитуриента – в Лейпцигский университет, который, за неимением более высокой школы, посещал ежедневно: ровно столько времени, сколько способен был выдерживать голод. «С самой пасхи он снова в родительском доме, а завтра его посвятят в нотариусы, чтобы ему было на что жить», – так закончил эту поучительную историю кандидат Шомакер.








