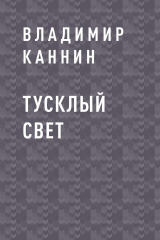
Текст книги "Тусклый свет"
Автор книги: Владимир Каннин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Эллен Андре – та самая девушка, красующаяся на полотне Дега – изображена на холсте простой, скромной девушкой с помутневшим взглядом, когда, на самом деле, отличалась в жизни элегантностью одежды и светским взглядом. Александра это еще больше приятно шокировало, и его излюбленным приемом стало изображать девушек – самодостаточных, зажиточных, светских – простыми, нищими, но с удивительным огоньком в маленьких, прищуренных глазках.
К литературе не проявлял никакого абсолютно рвения, ни стремления. Нет, ему хотелось написать книгу, пускай и небольшого размера, под названием «Сцены из жизни музыкантов», обыгрывая название небезызвестной оперы Пуччини на одноименный роман Анри Мюрже о тогдашней богеме, собравши под одной обложкой занимательные и увлекательные факты из жизни тех или иных личностей, хоть каким-то образом связанных с музыкой – но, увы! – этому желанию не дано было сбыться. Не обладая нужной усидчивостью, не обладая минимальным знанием и опытом письма, и что самое главное – так и не смогши отыскать нужного количества материала, – о своем желании стоило как можно быстрее забыть, что Александром с грандиозным успехом и было проделано.
К литературе, надо повториться, не испытывал достаточного интереса. Одно только за всю жизнь прочел сочинение, один рассказ Бальзака, повествующий о престарелом художнике. «Неведомый шедевр». Именно так называлась книга. На столь «дерзкий» и «смелый» шаг подтолкнул – по его собственным словам – просмотр удивительной киноленты «Очаровательная проказница». Не столько сюжет порадовал, не операторские новинки, как ослепительная улыбка, и глубокие глаза Emmanuelle Béart. Именно ее образ, ее типаж взял за основу всего женственного и прекрасного. Она ему нравилась во всех амплуа: длинноволосой, куртизанкой, с короткой стрижкой, примерной мамой. Во всех этих подобиях узнавались сладкие, вытянутые вперед, уста, слегка вздернутый тоненький, ухоженный носик, и невидимый нимб над ее светлой, женственной головой. Читая небольшое произведение великого сына Франции, ему трудно было устоять, дабы не вспомнить раз за разом о удивительной Эммануэль, и укрыться от желания самому взять, будь то кисточку, либо карандаш, и не нарисовать прекрасную Марианну.
Трудно сказать, когда стала интересна и привлекательна фигура Тулуз-Лотрека с его очаровательными танцовщицами. Возможно, сам стал докапываться до истины, и постепенно перечитывал, пересматривал все, что существуют на эту тему; может быть, ходил на дополнительные занятия, посвященные данному вопросу; не исключено, что кто-то, не касаясь глубоко темы, вкратце упомянул, а он – как натура творческая – стал додумывать сам, впитывать информацию, точно губка. Неизвестно, но как интересовался полотнами Дега, его работами «Голубые танцовщицы» и «Мытье», с таким же интересом интересовался и личностью низкорослого, любителя выпить, французского живописца. Как известно, умер воспеватель всемирно известного кабаре от сифилиса и алкоголизма. Именно эти две болезни, два сладких порока, повторял Александр, есть лучшие причины для ухода в мир иной. «Не страшно умирать, если хоть чем-то обзавелся из данного списка!» – утверждал постоянно он; именно потому, любитель всего французского, начиная художниками и кончая женщинами, имея полное отвращение к алкоголю, пристрастился к абсенту; именно по причине той же, лучшим уголком земли, никогда там не будучи, считал Францию, и постоянно, где можно, и где нельзя вставлял свое: «Если хотите увидеть рай – смотрите не вверх, смотрите в сторону Франции».
Все его картины, в знак признания к любимому фильму, к великой актрисе, оканчивались словом «проказница». В углу пылились, так и не побывав на выставках, и не были приобретены меценатами многочисленные картины, среди которых можно найти следующие: «Мнимая проказница». На картине изображены робкий мужчина и властная женщина, смотрящие в разные стороны, но почему-то стесняющиеся своих чувств, боящихся обернуться друг к другу, ожидая, кто же на этот поступок осмелиться первым. Есть и такая, как «Воображаемая проказница». На этой картине двое мужчин, один из которых дымит, словно паровоз, сидят за столом, распивая бутылочку крепкого напитка, о чем-то важно рассуждая, смотрят в одну точку, где, судя по их взгляду, кто-то стоит, за ними пылко наблюдая. На картине «Желанная проказница» девушка сидит одна за столиком, глядя задумчиво в окно, а к ней, с цветочком на подносе, приближается официант. Ясно, что таким образом молодой человек, сидящий в таком же гордом одиночестве напротив, пытается познакомиться с загадочной женщиной, но, не нуждаясь в подобных ухаживаниях, она не сводит взгляда с окна.
Александр Бельский решил теперь рисовать не для себя, но для будущего. Хотелось создать шедевр, чтоб и его имя, наконец, осело в анналах живописного искусства. Днями-ночами напролет, забывая о сне и отдыхе, трудился над очередной картиной, вкладывая все силы, соки и потуги, название которой дал «Проказница дразнится». Обнаженная девушка, сидя перед открытым окном, повернулась к зрителю; кажется, кто-то постучал в дверь, и, не дожидаясь ответа, посмел зайти в покои молодой девушки, явно имеющей репутацию не самой скромной, но любвеобильной и корыстной. Тем временем, пока разговаривает с клиентом, грудь ее видна всем окружающим, проходящим мимо. Увидев ее сладкий, сочный, белоснежный бюст, молодые люди забывают о насущном; создается удивительная очередь. Дожидаясь, пока выйдет один, молодые люди – студенты и рабочие – тоже не прочь «заглянуть» к приятной девушке на пару тройку минут. Именно таков сюжет картины, по утверждению Александра, может завоевать интерес публики, и превознести его имя к невиданным высотам. Разумеется, вначале будет скандал, потом – всенародное осуждение и порицание, и только со временем, когда страсти поутихнут, придет всемирное признание, любовь и уважение.
Молодого, но амбициозного художника, Бельского Александра, и юную, а оттого – красивую и привлекательную, не менее амбициозную натурщицу Ефимову Яну связывали исключительно творческие интересы. Никакой близости, никакого интима – сугубо рабочие отношения. Александр столько раз видел любимую модель нагой, а она – его судорожную могучую руку, которой умело держал кисточку, и которой лихо выводил, понятные только ему линии и контуры, что могли парой влюбленной считаться, мужем и женою быть, но их связывало исключительная любовь к творчеству. «Никакого интима» – некогда заявили в один голос, и придерживались этого правила до последнего, о желании овладеть друг другом никогда не помышляя.
Прошло ровно два часа; пора юную, готовую на все, ради славы и успеха, натурщицу отпускать, но Александр почему-то этого делать не спешил. Краски отложены, руки вымыты, холст накрыт, но натурщица продолжала сидеть в той же позе, ничего не понимая, меняясь исключительно во взгляде. Через пару минут тишина была нарушена самим маэстро.
– Понимаешь, для чего я это делаю?
– Что именно? – не понимала натурщица.
– Отложил краски, удалился в другую комнату, создал тишину.
– Нет! – напугано ответила она, продолжая сидеть с застывшим и окаменевшим телом.
– Все в тебе идеально: и грудь, и тело, и глаза, но вот взгляд… Чего-то не хватает. Нужно поработать над взглядом.
Натурщица успокоилась, и слегка приподнялась со стула.
– Не страшно, – сказала она. – Для этого есть ты.
После услышанных слов Александр пришел в полное негодование.
– «Не страшно? Не страшно?!» Какая же ты глупая. Художник только изображает, а показывать должна модель. Пациент же не может сказать врачу, не страшно, что я умираю, для этого есть вы. Врач только назначает лечение, но желание жить или не жить, зависит только от больного. Либо я меняю натурщицу, либо завтра приходишь совершенно другая, полностью настроена на работу. Ты должна не просто застыть в позе, и ждать, пока скажу: «Готово. Можешь собираться», но ты должна передавать эмоцию. Как известная певица обладает сильным голосом, так профессиональная натурщица должна обладать сильным взглядом. В этом и состоит ее великое, и самое главное мастерство. Даже если к нему спиной повернута, или, наоборот, мастер работает над грудью, либо над бедрами, играть должна взглядом, и только ним. В этом и состоит вся глубина великой и профессиональной натурщицы. Взгляд – наше все. «Не страшно! Не страшно!» – повторил он яростно, сбавив чуток интонацию, и силу голоса.
Александр постепенно начал остывать. Девушка ему ничего не сказала. Ему было жаль Ефимову.
– Извини, но взгляда было в тебе сегодня не больше, чем в этих яблоках.
Его глаза направились на подоконник, где действительно, на белоснежной тарелке лежало три красных небольших яблока.
– Было очень холодно! – решилась ответить девушка.
Александр еле сдерживал себя от прилива новых – еще больших и сильных – эмоций, и потому, ничего не сказав по этому поводу, выронил только, привычное ее уху по завершению каждодневных многочасовых сеансов: «Хорошо. Можешь собираться».
Ей трудно было вставать, одеваться и смотреть в глаза Александру. Пускай разделяли натурщицу и мастера небольшая разница в возрасте, но сейчас она ощущала себя маленькой девочкой, а он ей казался родным отцом или даже дедушкой, с которыми перечить равносильно смерти, а поэтому делать этого, решила она, совершенно не стоит. Так же ощущал себя и Александр, который, в надежде на скорую прибыль, славу и признание, был сегодня как никогда строг с этим юным, приятным, и самое главное – готовым работать забесплатно – живописным дарованием. Отбросив все желания и амбиции в сторону, он робко подошел к ней, подергивающую руку положил на оголенное плечо, и затаил частое и жесткое дыхание.
– Сейчас уходишь? – робко спросил Александр.
Не почувствовав ничего священного и воспевающего, и продолжая одеваться, не посмотрев даже в его сторону, надменно произнесла:
– Бельский, что с тобой? Конечно, сейчас. Что мне тут делать?
Александр замялся. Дабы не спугнуть ее, он осторожно проговорил, поглядев задумчиво, тем же самым взглядом, которого требовал от натурщицы, в далекое окно.
– Засиделись, малость. Быстро сейчас темнеет. Возможно, дело не во взгляде, вовсе, а света мне не хватило. Да, ты права, не июнь на улице, – он легко содрогнулся, и для большого эффекта стиснул зубы. На строгую девушку это никак не подействовало. – Может тебя провести?
– Ты чего? Что с тобой? Впервые слышу подобные нежности и ласки от беспринципного и строгого последователя французской школы живописи. Что случилось? – с нескрываемой иронией проговорила Яна.
– Собираться мне, или не надо? – настаивал на своем Александр, но делал это робко и без сильного напора.
Ефимова на секунду остановилась; ее легкое пальто коричневого цвета с легкими потертостями у воротника, и на рукавах сидело идеально. Ее глаза сверкали, и излучали невиданный до этого свет; Александр своего добился. Возьми сейчас он кисточку, подойди до холста, и шедевр всей его жизни был бы готов, но нет, – не тут-то было. Надо же, он продолжал и продолжал настаивать на своем: сейчас ему хотелось не рисовать, а продлить с ней общение. Он был одинок. Ему не хватало людей и общения. Поглядев на него, она испытала страх, и желание одновременно. Она не могла устоять; ей пришлось согласиться.
– Собирайся, – сказала она. – Жду на улице.
После сказанных слов, след ее в комнате простыл. Александр, не перебирая одежды, за считанные секунды оказался на улице, средь пропитанного легкой прохладой воздуха, в старых штанишках, заношенном свитере и недорогой, но теплой курточке. Согревали его не они; грелся он от ее взгляда, который сегодня был каким-то другим, особенным, более теплым, и от огромного желания стать прославленным и знаменитым. Никакая любимая женщина не согреет тщеславную особь, полную различных амбиций и надежд, как вера в свою – сверкающую особым светом – звезду.
Долгое время они молчали; шли медленно, раздумывали о своем, изредка мило поглядывая друг на друга. Машин становилось все меньше и меньше; одиноко проходили взрослые мужчины и женщины, держа в руках либо небольшой пакет, либо трость, на которую опирались высохшим и дряблым телом; с хохотом и диким смехом, в компании озорных и беззаботных ребят проходили влюбленные, раз за разом присасываясь либо к бутылке алкогольных напитков, либо к губам своих вторых половинок. Последние никакого не испытывали чувства дискомфорта; никого они не стеснялись, и не страшились; ночь – она тоже относится к числу их многочисленных товарищей-друзей, а разве боимся мы людей, чего-нибудь другого, когда мы влюблены?
Не хотелось нарушать красивую картинку окружающего, когда по глазам своей спутницы он понял, что рано или поздно, но «это» сделать придется, и то самое «это» уже наступило.
– Ночь намного прекрасней светлого дня. Ночь ничего не боится, ничего не скрывает, а оттого – более удивительна. Дню есть чего бояться, оттого и прячется за яркими бликами горячего солнца.
– Не знаю, не знаю, – не согласилась спутница. – День намного лучше.
– Оттого моя дорогая, – не сдержался Александр, и сразу принялся за свои рассуждения, – вы и стали натурщицей.
– А вы – художником.
– К сожалению, – согласился непринужденно Бельский.
Они были друг с другом на «ты», но когда разговор заходил о высоком, о прекрасном, Бельский переходил на «вы», словно подражая французскому аристократизму, и она, без особых усилий, ласково ему потыкала. Ефимова Яна была отменной натурщицей, приятной собеседницей.
Разговор начал постепенно завязываться. Александр неспроста зашел с шутки. Это был сильный психологический ход. Сначала он ее нейтрализует своей банальностью, решил он, а уже потом, как только даст слабину и окажется в замешательстве – пошлет ее в нокаут.
– Что не говори, но улица удивительна в любое время года, и в любое время суток, – сказала Ефимова. Ей, как молодой девушке, улица нравилась в любом виде.
– Так только может рассуждать настоящий творец. Тут ты права. Улица похожа на мать, которая имея одного ребенка, приголубит и погладит по головке всех, кто только этого захочет, – проронил Бельский.
Девушка могла бы долго рассуждать, но подобные разговоры, ведущие ни к чему, быстро ее утомляли.
– Скажи честно, зачем эти пустые разговоры? Только честно? Вызвался ведь меня провожать не ради них?
– Почему же нет? Пишу плохо… Я имею в виду стихи и прозу, а не то, о чем ты подумала. Живописец, я, хочется верить в это хороший, но я вечно один, вечно сам, а поговорить хочется. Излить душу, так сказать.
– То есть, ты перо, ты чернило, а я бумага? – спросила она.
Александр залился настоящим детским, неподдельным смехом.
– Красиво сказала. Даже я бы до этого не додумался.
Девушке стало приятно. В редкие моменты могла хорошо и к месту подшутить, но, когда подобные минуты выпадали, смехотворная кома ожидала каждого. Ей стало приятно; она была польщена.
– И, все же? – спросила она, ожидая ответа. – Я жду.
Бельский за считанные секунды отошел от задиристого и громкого смеха, и за тот же промежуток времени сумел покраснеть, побледнеть, утереть пот с невысокого чела, и заговорить сначала тихим, а после – все время нарастающим голосом.
– Почему ты выбрала меня? Почему решила мне позировать? Почему именно я?
Недолго подбирала слова. Яна была готова к подобным вопросам. Она быстро отреагировала на них, и тут же дала быстрый и ясный ответ.
– Я тебе поверила. Невзирая на мою простоту, я могу еще понимать, и здраво оценивать ситуацию. Как ты веришь в свою – звезду живописца и созидателя, с такой же силой в свою – звезду натурщицы и музы – верю я. Ты мечтаешь о славе Вермеера; я мечтаю о славе его служанки, его модели… Нет, даже не так, – и она тут же исправилась, – мечтаю о славе, которая в данный момент есть, – и она на секундочку умолкла, – у жемчужной сережки сообразительной и очаровательной девушки, которая благодаря своему хозяину вошла в историю так же навеки, если ни на долго и не навсегда, как и великий живописец из Нидерландов.
– Мощная речь. Тебе ни в искусство надо было идти, а в политику, – посоветовал Бельский.
– Кто бы меня там рисовал? – сверкнув одним глазом, она влюблено посмотрела на «творца».
– Но говорили о тебе бы сто процентов, – ответил художник.
– Редкая речь западает в душу истории. В основном – это чистые бредни, и желание получить свое. Мне такое не подходит.
– Хочется оставить след в истории?
– В истории живописи, – дополнила она. – С обыкновенной историей прошу не путать.
– Какая умная и сообразительная у меня натурщица. Почему тогда периодически возникают проблемы взгляда? В такие минуты мне очень трудно рисовать.
– Все дело в свете, – пыталась отшутиться она.
– Я так не думаю, – резко проронил Бельский.
– Значит, ни о том, наверно, думаю! – выдвинула гипотезу натурщица, желавшая стать известней, чем служанка Вермеера, и сам Бельский вместе взяты.
Они умедлили свой шаг ровно вполовину. Быстрее ступали многовековые дубы и клены на их пути, чем они сами.
– Меня преследует иногда странная мысль. Мы гроша медного не стоим, если, обладая талантом, не можем им воспользоваться. Зачем тогда жить, – человеку гениальному, которому самим богом уготовано стать великим – если он не может оставить след в истории? У меня есть идея…
Девушка испугалась; глаза ее спутника в этот момент светились дьявольским светом, да и лицо, которое должно было казаться человеческим, в свете луны походило на демоническое. Они остановились; он взял ее за руку, быстро и грубо поглаживая большим пальцем тоненькую кисть, хаотично начал делиться творческими идеями.
– Ты очень сообразительная и красивая девушка. Знания редко доводят к хорошему, поэтому зачастую все ошибки ума исправляет красота. Сколько уже написано мной картин, включающих в себе обязательное слово «проказница», изображая твой удивительный профиль? Неисчислимое число, – ответил сам на свой вопрос. – И что? Никакого успеха. Что ты неизвестная, что я в той же тени. А почему? Я писал их с умом, наслаждаясь твоим разумом, но надо другое… Это неправильно; в корне неправильно; это, по большому счету, глупо. Я все осознал, я все понял. В технике менять ничего не надо; нужно менять себя, свое мироощущение. Как все было до этого времени: с меня идея, ракурс, с тебя недельная выдержка, картина готова, ты разворачивалась, уходила, и со своим «шедевром», не приносящим тебе ни прибыли, ни славы мне, я оставался один. Все хорошо; все просто прекрасно, но не было одного, не хватало самого главного, того, без чего не может существовать все самое лучшее и прекрасное, связанное не только с живописью, но со всем существующим на свете. Это любовь.
Девушка сознательно отпрыгнула от дьявола-пророка на несколько метров.
– Что вы предлагаете? – испуганно обратилась к нему, догадываясь о намеках. Сейчас она ничего такого не хотела. Было поздно, была ночь, очень холодно. Бельский ее только пугал своими разговорами о живописи.
– Нам надо полюбить друг друга! – без стеснения и робости отвечал пламенно художник, верящий в свою звезду, который в глубине души называл себя «великим». – Ты меня понимаешь? Нам нужно переспать.
Только теперь осознал он, что, как и кому, он это сказал, но уже было поздно. Осталось только ждать, и реакция со стороны беззащитной и молодой натурщицы, «прислуживающей» у настоящего монстра (как она только сейчас поняла) не заставила себя долго ждать.
– Как ты мог такое придумать, произнести и предложить? Ты не такой, как все, думала я, теперь, мне стало ясно – я ошибалась. Может в натурщицы взял не ради картин, а ради полового, извращенного животного инстинкта? Что молчишь? Что, права? Ну, скажи, хоть что-то, только… не молчи… прошу тебя.
Кажется, она сдалась. Та, что секундой назад отстаивала свое достоинство и свою женственность, сейчас была готова, во имя славы и всеобщего признания, пожертвовать самым девичьим и дорогим, что имелось на ту пору. Александр никак не мог отреагировать, но это сделать пришлось.
– Нам надо полюбить не искусство, не кисточки и краски, ни натурщицу и художника, но людей; людей в нас самих; наши чувства и эмоции, тогда они полюбят нас, и только тогда у нас все выйдет.
Девушка с трудом переступила через себя; то ли Александр был не настолько убедительным, то ли ей было все это не по себе – неизвестно, но сказала она следующее:
– Невозможно в одном месте оставаться святым, а в другом быть настоящим дьяволом. Надо…
– Всегда оставаться человеком, – сказал он. – Это девиз не только живописи. Так устроен мир.
– Но не населения, – пребывая в бреду от услышанного, вымолвила натурщица.
– Как только кисточка зарисует последний пробел, картина забывает о красках. Она принадлежит не им, не творцу, но человечеству. И так со всеми и во всем.
– Что ты хочешь этим сказать?
Ничего не поняла юная натурщица, но Александр не стремился ей ничего объяснять, и, тем более – быть понят. Вместо объяснения, он сделал шаг назад. Он начал сызнова; с самого начала.
– Я согласен: женщина создана не для любви, но для вдохновения. Сколько раз я тебя любил глазами…
– Подбирай, пожалуйста, слова, – огорчилась модель.
– Нет, – исправился художник, – в хорошем смысле этого слова. Но этого, явно, мало, совсем недостаточно. Нам нужна страсть, нам нужна любовь, дабы увековечить наши имена в истории современной живописи.
– Ничего пошлей и глупого мне слышать никогда не приходилось. Чтобы получилась картина, чтобы ее оценили, художник и натурщица должны переспать? В своем ли уме?
– Согласен, глупо получается, подобные слова режут слух, но это… правда. Взять, допустим, историю. Сколько различных примеров. Тот же…
– Дальше я сама. Меня можешь не… Приду через неделю. Когда остынешь, когда соберешься, когда подтянешь не свой язык, а свою технику.
Она подалась прочь; он принялся за ней.
– Извини-извини. Глупость сказал. Извини. Ты права, будем работать больше, будем искать новые возможности. Прошу простить. Я сам не свой. Не понимаю, что на меня нашло.
Он вновь взял ее за руку, принялся поглаживать против маленьких, слегка видимых черных волосиков тоненькую холодную конечность. Она, подавшись на мимолетные ласки, в лицо ему нежно улыбнулась.
– У нас все получится. К любви надо не принуждать, не заставлять любить. Я – молодая и амбициозная девушка, красивая, как же без этого. Ты – молодой, горячий, талантливый. Длинные твои прямые волосы, глаза и руки могут подкупить не одну девушку.
– Я бегаю не за девушками, – сказал он. – Мне нужны натурщицы.
– Много? – спросила она.
– Только одна.
Он влюбленно поглядел на нее.
– Ты прекрасный, – сказала она. – Ты очень милый.
Почитатель Дега, он чем-то и сам был похож на него. Невысокий смугловатый лоб, на котором виднелось две-три морщинки, небольшой с выемкой нос, пухлые алые губы, маленький, почти детский, кругленький ротик, волевой подбородок, выступающие над верхней губой грубые, но одинокие черные волосики, и нежные, прямые, гладкие темные волосы, прикрывающие нежную кожу щек, спускающие до самого подбородка.
– Разве меня можно не любить?
– Любить можно! И я тебя люблю, – призналась девушка, – но не спать. Любить и спать – две разные вещи.
– Нам надо рисовать. Нам надо…
– Рисовать, – перебила его. – Вот иди, и рисуй. Поработай над деталями. А мне нужно позировать.
Впервые натурщица указывала художнику, что нужно делать, как правильно приняться за работу.
Окончательно убедившись в своем проигрыше, он, осознав, что был этим вечером неправ, и довольно груб, спросил:
– Ты придешь ко мне? Готова ли дальше работать со мной?
– Куда я денусь? Разве есть выбор? – спросила Ефимова Яна, его любимая натурщица. – Я в ответе за того, кому согласилась позировать.
Оценивши шутку, он потянулся к ее щеке, желая таким образом извиниться, но она, понявши сразу, что к чему, чего желает на самом деле, легко отстранилась.
– Тебе нравится Дега, ты наследуешь его повадки и технику. Благодаря тебе я также обретаю некий смысл жизни. У тебя все получится, ты обречен на успех, ведь мы, – так оно и есть, – те, в кого верим, и кого любим.
Он еще раз провел рукой по ее руке, пожелал доброй ночи, развернулся и пошел. Она долго смотрела ему вслед, до конца не сумевши разобраться в своих чувствах. С одной стороны – проводила много с ним времени, достаточно хорошо его знает, любила, в конце-концов, и отказала в том, о чем сама, где-то в глубине души, мечтала и изредка желала; с другой – будь все, как того он хочет, возможно ли задуманное, возможны ль их мечты? А почему, собственно и нет?.. Многие натурщицы вошли в историю не только как модели, но как любовницы великих, то почему она должна стать исключением? Она тоже – натурщица, и она тоже работает с художником, которого любит, который любит ее.
Запуталась окончательно девушка-натурщица в своих рассуждениях. И хотелось ей, и не могла…
Копия силуэта молодого Дега, ступавшего медленно в противоположную от мастерской сторону, становилась все меньше и меньше, и мельчала она до тех пор, пока плавные и четкие контуры улицы полностью эту копию не растворили в себе; пока целиком не потерялся он в неизвестности задумчивой улицы, покой которой охраняла свежая таинственность ночи.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Фонарь
Разговаривать с женщиной, все равно, что заниматься с ней любовью.
Бальзак.
Без особого желания вышел он из маленькой комнатушки, нацепив на себя старые спортивные штаны, рубашку на голое тело, спортивную накидку и грубую толстовку; шапку забыл специально, – хотелось сегодня походить в капюшоне. В окне отображалось спокойствие и некая теплынь, но столбик термометра показывал минусовую температуру.
Три пропущенных от Ивана. Когда он звонил, задался Александр вопросом, ведь телефон всегда был при мне. Перезвонил он ему на улице, зашнуровав сильно ботинки, и поправив нижний край левой штанины.
– Алло. Да, привет. Только вот вышел, – доносилось в трубку. – Сколько нас будет? Ага, хорошо. – Спустя время. – Где встречаемся? Это потом. Все, договорились. До связи.
Он остановился, и как старичок, приблизив к себе телефон, стал вглядываться в экран, и водить по нему жирным большим пальцем. Когда все приготовления были сделаны, он достал из левого кармана толстовки красиво сложенные наушники белого цвета. Александр редко слушал музыку, редко когда его можно было увидеть с торчащими из ушей наушниками, но сегодня был один из тех немногих дней, когда он вспомнил о наушниках, и когда ему захотелось побыть с собой наедине, слушая музыку. Он осторожно раскрутил их, вставил одним концом в нужный разъем, а другими, пытаясь удобно попасть себе в уши, когда его остановил неизвестный женский голос.
– Меня фотографируешь?
Голос обладал определенной женской красотой и алкогольной бессвязностью.
Александр не мог понять, к нему ли это, и кто обращается, потому продолжил заниматься делами, как вопрос повторился опять. Он огляделся по сторонам. Из-за столба, вокруг которого образовался могучий оазис внушительной зелени, стояла высокая, симпатичная девушка, с редким блеском блондинистых волос, которая была абсолютно пьяная. В ту секунду себе она не принадлежала. Всегда Бельскому нравился такой типаж, а сейчас, видя ее состояние – подавно. Не в том дело, что легко можно воспользоваться в подобном состоянии девушкой для определенных целей, и быть при этом ни при чем; – нет! совсем нет! – приятно с ними в таком состоянии разговаривать, смотреть в глаза, и видеть нечто такое, что определенно не увидишь в глазах трезвых и спокойных.
– Меня фотографируешь? – в который раз повторила незнакомка свой вопрос, направляясь медленными, неустойчивыми шажками к Александру.
Бельский чуток передернул, но это был приятный страх. Вышедши к нему навстречу, он полностью сумел ее разглядеть. Она была девушкой не первой свежести; судя по всему, к рюмке прибегала часто. Высокие кожаные сапоги на длинном каблуке обтягивали синие старые джинсы; удивительно тонкую талию согревала куртка белого цвета; шею прикрыла шарфом зеленоватого оттенка. Она была красивой, приятной наружности, решил для себя художник, не умея особей женского пола характеризовать как-то иначе. Он сходился во мнении, что некрасивых девушек нет. Черты лица незнакомки выдавали определенный профиль, который хотелось нарисовать бы каждому, кто обладает хоть какими-то познаниями в живописи.
– Нет, что вы, – решил Александр взять ее ласками и отменным поведениям. – Даже не думал о таком. Поговорил с другом по телефону, после чего решал, какую песню включить, и в наушниках, слушая ее, идти дальше по своим делам.
– С друзьями разговаривал? – подступая все ближе, спросила она.
– Да! – спокойно ответил он.
– Что это за кабель?
Она подошла настолько близко, что сумела своей рукой полазить в его кармане, дабы указать на неизвестный и подозрительный предмет.
Другой на месте Александра послал бы ее далеко и подальше, плюнул в лицо, развернулся и ушел, но он, напротив, стал спокойно ожидать, пока, до сих пор рыская в его кармане, утолит свою любознательность; несмотря на то, что рядом с наушниками находилась внушительная сумма денег, он оставался спокоен и непоколебим.
– Наушники, да! – подтвердила слова Александра, вытащив руку из кармана. К деньгам она не прикасалась.
– Не фотографировал? – переспросила она, почесав похабно левую ягодицу.
– Успокойтесь, нет, – обрадовал ее Александр.
Разговор окончен; краткое знакомство – тоже. Незнакомка прояснила: «Все. Можешь быть свободен».
Александр опаздывал, но, посмотрев в ее глаза, обнаружил какую-то тревогу, и непонятную грусть. Предлога не находилось, но уйти так просто не желал. Он забыл о друзьях, о музыке, для него существовала сейчас только она. Ничего нет зазорного и постыдного в том, что подаешь руку помощи заблудшей душе, подумал Александр, и решил остаться.
– Что смотришь? Можешь идти! Что тебе надо? – угрожающим тоном обратилась к нему, начав вокруг головы, сняв с шеи, крутить загадочным способом длинный-предлинный шарф.
– Извини, могу тебе… – и тут же исправился, – вам чем-то помочь?
– Ты – мне? – она злобно рассмеялась. – Чем? Беги от меня подальше. Они и тебя, и меня найдут. Нам уже не скрыться, ты в опасности. Беги!
Она продолжала, стоя на одном месте, а точнее – пошатываясь на одном месте, бороться с неподдающимся ей шарфом.
Александр ей не поверил, но решил поддаться незнакомке.
– Хорошо, будем укрываться вместе, – сказал Бельский, – но попозже. У нас есть время. Выиграли пару минут, – завелся парень. – Давайте пока чем-то помогу.
– Холодно мне, – поверила ему она.








