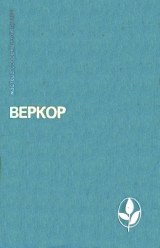
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Веркор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 46 страниц)
– Черт возьми! Полтора года – и уже такая гордыня!
– Гордыня? Навряд ли. По-моему, тут было другое, я не мог перенести самовластия взрослых, того, что они по своей прихоти вертят слабым, беззащитным существом: захотят – заставят плакать, захотят – заткнут рот. Уже в том возрасте мне была невыносима несправедливость, навязанная силой.
– Вы не такое уже редкое исключение. Всем детям в большей или меньшей степени присуще это чувство.
– Не уверен, что именно оно. По сути дела, я ополчался против плохо устроенного мира, в котором взрослые знают все, а дети ничего, не знают даже, что можно, а что нельзя. Чувство страха, вернее, уверенности, что мне придется быть изгоем, окрасило все мое детство. Вы меня понимаете?
– Не совсем. Изгоем – где? В дурно устроенном обществе?
– В мире, где тот, кто знает все – будь это отец, мать или сам Господь Бог, – не желает уберечь ребенка от промахов, порожденных неведением, а потом его же награждает тумаками. Разве это справедливо? Разве допустимо? Вот каково было мое чувство. Чувство отторгнутости, одиночества. Ощущение, что ребенок одинок. Что ему не на кого рассчитывать. А вот вам еще одно воспоминание. Я вас не утомил?
– Нет, нет, я слушаю.
– Я был тогда чуть постарше – лет четырех или пяти. Меня учили читать Священную историю. Вначале кара, назначенная Адаму, вызвала у меня просто отвращение: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». «В поте лица» – какая гадость! Но когда мне объяснили, что это значит, я и вовсе приуныл: хлеб надо было заработать. Долгое время я полагал, что нет ничего проще – пошел в банк и взял деньги. Но тогда почему же каждый раз, когда приближались последние дни месяца, отец ворчал: «Сколько веревку ни вить, а концу быть!» Мать проливала слезы. Этот «конец» не выходил у меня из головы. Значит, заработать себе на хлеб не такое простое дело? А вдруг я этому не научусь? Вдруг я стану таким, как нищие попрошайки в метро? В метро было много нищих, и это смущало мой покой. Мысль о них преследовала меня каждое утро, когда меня водили на прогулку мимо булочной против Бельфорского льва. Эта булочная с открытой витриной, выложенной свежими хлебцами, бриошами и рогаликами, и поныне существует на углу улицы Дагерр. Здесь всегда был народ – люди, которые умели зарабатывать себе на хлеб. А чуть поодаль на складном стуле сидел нищий и, подражая флейте, носом выводил какие-то невнятные гнусавые звуки, от которых мне становилось не по себе. Однажды я видел, как ему бросили какую-то мелочь, он вошел в булочную и купил маленький хлебец. Я тут же сделал подсчет. В ту пору такой хлебец стоил два су. Шоколадка тоже. Стало быть, на худой конец, если я стану нищим, главное – каждый день получать по две монетки в два су, тогда я смогу прожить. А если мне иной раз перепадет три монетки, я, может, даже скоплю деньги на старость. Этот подсчет избавил меня от тревоги за будущее. Во всяком случае – отчасти.
– А теперь?
– Простите, не понял?»
Вопрос застиг его врасплох. Я уточнила: «Теперь вы избавились от тревоги за будущее?»
Он засмеялся негромко, с каким-то даже вежливым удивлением. И, не вставая, отвесил мне почтительный поклон.
«– Что ж, и вправду нет. Вы угадали. Я тревожусь о нем ненамного меньше прежнего. Несмотря на известность, несмотря на успех моих книг. В этом отношении я никогда не был спокоен. Меня не покидает мысль о том, что общество жестоко – более жестоко, чем я даже предполагал. Успех – дело неверное. Счастье переменчиво, человека могут забыть, завтра все может измениться, и я потеряю все, что имею.
– А вы не думаете, что мадам Легран подозревает об этих ваших страхах?
– Ей нечего подозревать – они ей хорошо известны. Я ведь ничего от нее не скрываю. Но если вы полагаете, что из-за этого у нее возник какой-то «комплекс неуверенности», вы глубоко заблуждаетесь. Когда на меня находят эти дурацкие страхи, мы вместе их вышучиваем. Мы оба достаточно сильные люди, чтобы в случае необходимости противостоять несчастьям.
– Во всяком случае, вы так полагаете.
– Я в этом уверен. Причем на основании опыта: ведь я больше года жил впроголодь.
– А я думала, вы росли в довольно состоятельной семье.
– Так и есть. Но когда мне исполнилось восемнадцать лет, отец без лишних слов выгнал меня из дому. Притом без гроша в кармане».
III
Эта подробность или, вернее, это обстоятельство было для меня новостью.
«– Ого! Какое же преступление вы совершили?
– О, это слишком длинная история!
– А вы не можете сформулировать в двух словах, что к этому привело?
– А вы можете сформулировать в двух словах, почему Бодлер написал «Цветы зла»?
– Не понимаю, что здесь общего?
– Меня выгнали из дому, потому что я написал некую книгу. А оттого, что меня выгнали, я ее опубликовал. Оттого, что…
– Какую книгу? Ту, что вызвала скандал?
– Именно.
– Снова месть? «Я созгу твой ковел»?
– И да, и нет. Это гораздо сложнее. Может, я ее для того и написал.
– Чтобы вас выгнали из дому?
– Чтобы высказать то, что накипело в душе.
– Накипело – против кого? Против вашего отца?
– Против всей семьи. Против целого света.
– Это в восемнадцать-то лет?
– Самая пора для отрицания и бунта.
– Вы правы. К этому времени вы уже кончили лицей?
– Я готовился к поступлению в Училище древних рукописей.
– Вот уж никак не вяжется с вами!
– Знаю. Все это не так-то просто объяснить. Понимаете, школьные годы были для меня непрерывным мученичеством.
– Вы не любили школу?
– Да нет, я бы не сказал. Не в этом дело. Я, кажется, все время себе противоречу. Но, понимаете, бывают дети… Вот хотя бы Реми: для него все в жизни было просто, все заранее расписано. В двенадцать лет он уже знал, кем будет, и так и вышло, он стал администратором, крупным чиновником. Правда, после войны он переменил профессию, но по причинам, которые никто… Впрочем, об этом после. Ему были совершенно неведомы мои детские страхи перед таинственным и грозным будущим. С самых юных лет он смотрел на мир с полным доверием, общество взрослых рисовалось ему благотворной, доброжелательной средой, где каждому уготовано подобающее место. Знаете, есть такая игра – наподобие игры «третий лишний». В круг ставят стулья по числу участников – но одного стула не хватает. Реми никогда не задумывался над тем, что ему может выпасть в жизни доля – или, вернее, недоля – лишнего игрока, эта мысль казалась ему просто невероятной. Мне же наоборот – мне казалось невероятным, если вдруг по счастливой случайности я успею занять свободный стул. Поступая в десятый класс, я уже знал, что меня там встретят тридцать учеников, которые перешли в него из одиннадцатого класса [51]51
Во французской школе первый класс – старший.
[Закрыть], и каждый из них уверенно сидит на своем стуле. Как же я могу рассчитывать найти свободное место? Поэтому уже за несколько месяцев до поступления в школу я начал подготавливать отца: «В школе ведь обязательно – ну просто обязательно – кто-то должен быть самым плохим учеником…»
– Но вы ведь не были самым плохим?
– Нет, я оказался самым лучшим. На свою беду. Я ждал всего чего угодно, только не слов: «Первый ученик Фредерик Легран». Конечно, я был счастлив, но главное – ошеломлен. Первый – почему? Каким образом? Это казалось мне результатом какого-то таинственного ритуала, правила игры от меня ускользали. Но я по крайней мере успокоился: уф! я прочно сижу на стуле, счастье мне улыбнулось! Однако это длилось недолго. В девятом классе я учился еще хорошо, в восьмом – довольно прилично, а в седьмом начал сдавать. Я был годом моложе своих соучеников, может быть, меня следовало оставить на второй год. Занимался я не больше и не меньше, чем прежде, и, однако, с каждым месяцем, с каждой неделей терял один-два балла, съезжал на одно-два места; медленно, но верно удачливый игрок превращался в игрока-неудачника. Значит, в этом мире нет ничего незыблемого, приобретенного раз и навсегда? Жестокое открытие. Все рушилось. К тому же мне стало казаться – вероятно, без всяких оснований, – что дома меня любят меньше, чем прежде. Но кому, как не вам, доктор, знать, что от созданного ими мифа люди страдают больше, чем от реальной действительности? И вот вам пример…»
На его лице заиграла насмешливая улыбка, в которой чувствовался, однако, налет грусти.
«– Скажите, вам еще случается иногда гулять в Люксембургском саду?
– В Люко? Еще бы. С ним связана вся моя юность.
– Вот как, и ваша тоже? Тогда вы, наверное, помните ворота, которые выходят на улицу Вожирар?
– Рядом с бывшим музеем?
– Вот-вот. Вы входите. Что у вас по правую руку?
– Киоск с газированной водой.
– Верно! Теперь там торгуют кока-колой. А чуть подальше, посреди лужайки?
– Постойте… Какой-то памятник?
– Правильно. Какой?
– Не помню. Какая-то скала, плющ.
– Да, да. А под скалою?
– Вспомнила! Сидящий титан!
– Верно. Бронзовый гигант, который всем своим напруженным телом подпирает, пытается удержать огромный, придавливающий его камень. Вы сказали «титан». А я звал его иначе. Может, кто-нибудь при мне случайно произнес это название. Так или иначе, для меня этот памятник назывался «Бремя жизни».
– Странно в устах ребенка.
– Не правда ли? Мы жили тогда на улице Мезьер, в типичном буржуазном доме постройки прошлого века, большом и мрачном. Чтобы попасть в коллеж Вовенарга, мне надо было пройти через Люксембургский сад. И знаете, что я проделывал каждый раз? Каждое утро изо дня в день? Какой я совершал ежедневный обряд? С ранцем за спиной я останавливался посреди лужайки. Смотрел на скульптуру. Согбенный человек. Глыба, которая на него давит. И каждый раз, каждое утро эта глыба наваливалась мне на сердце, и я говорил про себя: «Вот и я, я тоже раздавлен бременем жизни»».
Он посмотрел на меня таким взглядом, точно ждал, что в ответ на эти слова я ахну от изумления. Не скажу, чтобы я совсем не удивилась, но меньше, чем он рассчитывал. Многие счастливые дети страдают от тайных горестей.
«– Сколько вам тогда было лет?
– Девять. Обратите внимание: девять лет, а на душе такой груз, словно я уже изведал все муки человеческие. Но не подумайте, что я был хилым или угрюмым ребенком. Ничуть не бывало. Наоборот, я был шумным, озорным мальчишкой, зачинщиком самых отчаянных проказ. Причем повсюду – в классе, на улице, дома. Мы с Реми придумали, например, такую воинственную игру: один из нас с карабином и пистонами прятался в засаде в коридоре, а другие игроки – враждебная партия – должны были пробегать через коридор в комнату так быстро, чтобы их не успели подстрелить. Тактика игры состояла в том, чтобы пожертвовать первым игроком, зато второй успевал пробежать, пока стрелок перезаряжал карабин. Реми был любимцем старого полотера, который приходил к нам в дом по четвергам. Когда наступала очередь Реми стоять в засаде, старик тайком передавал ему второй заряженный карабин. Реми «убивал» нас всех, одного за другим, а мы не догадывались о его уловке – нам и в голову не приходило, что его сообщником может быть взрослый! Так вот, однажды я решил, что попасть в комнату можно прямо из кухни, стоит только перепрыгнуть с одного подоконника на другой, – оба окна выходили во двор под прямым углом друг к другу. Мы жили на шестом этаже, но высоты я не боялся – попытка не пытка; я уже занес было ногу для прыжка, но меня чудом заметил полотер, в последнюю секунду сгреб в охапку и, по всей вероятности, спас меня от смерти… Вот какой я был сорвиголова. В школе перед уроком истории я однажды заложил взрывчатку в замочную скважину шкафа, где хранился скелет «Жозефина»; дверца распахнулась, и скелет с грохотом вылетел оттуда во время урока… Я сам струхнул – у несчастного учителя было больное сердце, и он едва не отправился на тот свет… Я мог бы порассказать вам о множестве других проделок, которым я предавался с упоением. Но, бывало, кончилась игра – и меня словно подменили. Страх и тревога тут как тут. Они снова берут меня в тиски.
– И все из-за плохих отметок?
– Нет, из-за моего вранья».
Он сказал это, почти не замявшись, разве что раза два затянулся трубкой, прежде чем сделал свое признание. Но все-таки я почувствовала какую-то заминку, усилие.
«– Дети вообще любят лгать.
– Само собой. В случае необходимости. В порядке самозащиты. Ну а я (внезапная пауза, негромкое попыхиванье трубкой), я жил и дышал ложью, мучаясь и терзаясь от непрерывной лжи днем и ночью семь лет подряд. Представляете? Семь лет подряд».
На этот раз я и в самом деле удивилась. Он прочел это на моем лице. Сам он улыбается, но смотрит мрачновато. Потом вздыхает, как бы иронически подтверждая: «Я не шучу».
«– Семь лет – сами понимаете, для ребенка это целая вечность. Какие адские муки! Чувствуешь себя виноватым, притворяешься, панически боишься, что тебя разоблачат. И меня разоблачали всегда, почти всегда. Но я опять принимался за свое. Неукоснительно. Изо дня в день. Семь лет подряд. Чудовищно, правда?
– Но что же вы все-таки творили?
– Подделывал отметки.
– И это все?
– Все. Но я их подделывал каждый месяц, каждую неделю, в моем дневнике это было видно невооруженным глазом, я заранее знал, что меня выведут на чистую воду, и опять начинал сначала. Мучаясь и дрожа от страха. Подавленный чувством вины. И бременем жизни.
– Что-то я не совсем понимаю.
– Я и сам не понимаю. Думаю, это объяснялось тем, что, на свою беду, я почти три года был первым учеником. В дневнике у меня стояли только десятки и девятки. При первых восьмерках и семерках у меня почва стала уходить из-под ног. Я создал себе какую-то внутреннюю шкалу оценок, по которой семерка или восьмое место в классе уже были позором. О шестерке и говорить нечего. А человек становится рабом символов, которые сам же создает.
– Неужели ваши родители были так строги?
– С какой стати им было быть строгими? Такой хороший ученик. Может, в этом-то и крылась причина: я не в силах был их разочаровать. До сих пор помню, каким кошмаром стала для меня первая пятерка. А ведь это, в общем, была вполне приличная средняя отметка. Я как сейчас вижу эту жирную пятерку, синими чернилами вписанную в мой дневник. Принести эту постыдную отметку отцу было просто выше моих сил. Понимаете? Выше сил. Я ее стер и вместо нее поставил девятку. Потом, сдавая дневник учителю, я вынужден был снова стереть девятку и восстановить пятерку. Потом я снова восстановил девятку, но протер бумагу до дыр. Что было делать? Пришлось вырвать страницу. А потом не оставалось ничего другого, как подделать подписи отца и директора. В дальнейшем шестерок, пятерок и даже четверок и троек стало гораздо больше, я счищал и подделывал отметки, и это превратилось в пытку, которую вам нетрудно вообразить.
– Представьте, трудно. Я не понимаю, почему вы не перестали этим заниматься. Особенно после того, как вас уличили.
– Я пытался. Бывало, иду я по Люксембургскому саду, сгибаясь под тяжестью ранца, в котором лежит дневник, оскверненный какой-нибудь необъяснимой четверкой, пятеркой или четырнадцатым местом. Бреду к дому, приняв стоическое решение больше не лгать, показать родителям мой опозоренный дневник в его истинном виде, мужественно снести их разочарование, холодное, неласковое выражение их лиц. Но по мере приближения к дому ноги у меня становятся ватными, на сердце ложится огромная тяжесть, и я начинаю бесцельно слоняться по аллеям. Я вел сам с собой изнурительную борьбу и неизменно ее проигрывал. Спрятавшись за каким-нибудь высоким стволом в английском саду, я вынимал дневник и подчищал отметку. Только после этого я отваживался приблизиться к дому, подняться по лестнице и позвонить в дверь.
– Ну а потом?
– Видите ли, потом все происходило как бы помимо моей воли. Последствия обрушивались на меня, как античный рок. Я был уже не актером, а жертвой. Понимаю, объяснить это трудно… Я и сам только теперь, в разговоре с вами, пытаюсь как-то разобраться в том, что меня пугало, чем была вызвана эта мания. Может быть, я считал, что, если я вдруг сразу предъявлю родителям свои плохие отметки, я сам как бы публично и даже с каким-то цинизмом и равнодушием распишусь в своем падении. А скрывая их, я как бы отмежевываюсь от них. Оттого что отец обнаруживал обман постепенно, его разочарование обращалось в гнев, к тому же направленный совсем на другой объект. Этот гнев был, в общем, не так уж страшен. Но зато выдержать взгляд отца, открывшего дневник и увидевшего клеймо – плохую отметку, – нет, на это я решиться не мог, не мог даже подумать об этом без ужаса. Его глаза затуманятся упреком, огорчением. Нет, такое испытание, такая мука были выше моих сил».
IV
Эти детские страхи, искаженное представление о шкале ценностей, когда стыд ребенку перенести легче, чем сознание своей бездарности, а гнев отца предпочтительней его разочарования, что-то мне упорно напоминали.
«– Вы и в самом деле стали плохо учиться?
– В том-то и дело, что нет. По некоторым предметам я, хоть и не блистал успехами, как раньше, все же достаточно успевал, чтобы в конце года оказаться в списке лучших.
– Так чего же вам не хватало?
– То-то и оно, что это меня не успокаивало. Вернее, нет, успокаивало – на время летних каникул. На три месяца я освобождался от бремени жизни. Но я не забывал: стоит вернуться в город, и все начнется сначала. Последние недели отдыха были отравлены муками приговоренных к смерти, которые все усугублялись. А впереди в погребальном мраке маячил Париж. Стоило мне подумать об этом, и меня начинало мутить. Невеселая история, не правда ли?»
Я улыбнулась. Подошла к книжной полке. Открыла том воспоминаний Кафки и прочла отрывок, посвященный годам его учения в лицее [52]52
Речь, без всякого сомнения, идет о следующем отрывке: «Конечно, я должен был провалиться на вступительном экзамене – по я выдержал. Значит, провалюсь на переходном, но я его сдал и продолжал переходить из класса в класс. Казалось, у меня должна была зародиться надежда. Куда там чем большие успехи я делал, тем тверже я был убежден, что в конце концов все кончится катастрофой. Я часто представлял себе зловещее сборище преподавателей, которые сошлись вместе, чтобы разобраться в этом беспримерном и возмутительном случае – каким образом самый бездарный и невежественный ученик мог под шумок достигнуть таких высот и очутиться в классе, который уж теперь-то, когда к нему привлечено всеобщее внимание, безусловно, с позором изверг нет его из своих рядов при ликовании всех праведников, избавленных наконец от этого самозванца». Прим. автора.
[Закрыть].
Он выслушал меня с величайшим вниманием, потом покачал головой.
«– Ну что ж, если угодно, какое-то сходство тут есть, но, пожалуй, в обратном смысле. Юный Кафка придумывал этот клубок кошмаров, чтобы найти оправдание своей несовместимости с бытием. Я же наоборот… (Усмехается.) Но я чувствую, что снова противоречу сам себе. Я собирался сказать, что я-то как раз бунтовал против приспособленцев, против лжеправедников, против самозванцев – да, да, – они удобно устроились на стульях, которые успели занять, хотя не превосходили меня ни умом, ни прилежанием, но они уже на школьном опыте уловили, как себя следует вести в жизни, овладели искусством втирать очки, разыгрывать ученость, когда ее нет, угодничать перед начальством, изучив его слабости, усвоили набор трюизмов, которые повышают твои акции, и научились губить конкурентов с помощью мнимо доброжелательных намеков… Но я имел в виду и другое – во мне говорило также чувство собственной неполноценности. Ведь я мог быть первым – и перестал им быть, а значит, я слишком ленив, рассеян, предпочитаю занятиям развлечения…
– Это было справедливо?
– Отчасти. Во всяком случае, при сравнении.
– С кем?
– С Реми. Мать вечно ставила его мне в пример.
– Бедняга! Было отчего его невзлюбить… А он так хорошо учился?
– Превосходно, и притом по всем предметам. Если я, кончив играть, вновь погружался в свои тревоги – удел строптивцев, – он преспокойно садился за стол, готовил уроки и без всяких усилий получал прекрасные отметки. Говорю вам, в двенадцать лет он уже установил очередность общественных ступеней, по которым ему надлежит подняться, и при этом разумность и незыблемость социального механизма не внушали ему ни малейших сомнений. Ему все было понятно, и все его устраивало.
– А вам не удавалось почерпнуть в его взглядах хоть капельку оптимизма?
– Наоборот. Его уверенность в будущем еще неумолимее подчеркивала мою собственную душевную неустойчивость. Мои вкусы, мысли, планы непрерывно менялись, вытесняя друг друга. Я собирался быть то хирургом, то парикмахером, то путешественником, то машинистом, то плантатором, то преподавателем химии… Но все эти стремления по очереди гибли, подорванные сомнениями и неверием в свои силы. Стать хирургом или парикмахером – но для этого нужна незаурядная ловкость. Машинистом… а вдруг случится крушение? На худой конец преподавателем химии – мне как-то удалось поставить два-три опыта… Ну а вдруг ученики меня освистают, как беднягу Фийу, которого мы прозвали Вонючкой? Стать плантатором, землепроходцем, а значит, оказаться одному в незнакомой стране – это мне-то, который и на родине чувствует себя чужим, неприкаянным, изгоем? Нет, никогда мне не найти своего места в мире взрослых, в социальной схватке, к которой на моих глазах безмятежно готовился Реми.
– Все это очень интересно. Ваши страхи, негодование, ложь по крайней мере в одном совпадают с ощущениями Кафки – и то и другое крайности. Я уже давно подозреваю, что наша система оценок, отметок, экзаменов пагубно действует на чувствительные и наивные, неокрепшие умы. Не будь этой системы, и Кафка, и вы легко излечились бы от нравственных мук, которые отравляли ваше детство. Ребенка с натурой менее прямой они вообще могли завести бог знает куда.
– Вы правы. Абсолютно правы. Тому свидетельство история с электрической железной дорогой. И с аттестатом.
– Что за история? Расскажите.
– Стоит ли? Не довольно ли разговоров о моем детстве? Не подумайте, что я уклоняюсь, но какое, черт возьми, это имеет отношение к здоровью моей жены? Я не вижу никакой связи.
– Ни вы, ни я не можем судить об этом, дорогой мсье. Любое воспоминание, которое вас тяготит, может нам что-то прояснить.
– Мне, однако, хотелось бы предстать наконец перед вами в более выгодном свете…
– Ну-ну, не надо кокетничать, расскажите все как есть.
– Хорошо. Теперь я сам над этим смеюсь, и вы тоже будете смеяться, потому что, как видите, я не так уж плохо кончил. В противном случае первый же мой промах мог бы послужить доказательством моих дурных наклонностей! Какое предосудительное прошлое! Как подумаешь – просто дрожь берег! Ну так вот. Мне было лет десять-одиннадцать, близилось Рождество, мой рыщущий взгляд обнаружил на шкафу краешек большой красной коробки, при виде которой сердце мое учащенно забилось: а что, если это предназначенный мне подарок? Я подставил скамеечку, проверил – о чудо, электрическая железная дорога! Целую неделю я был счастлив. И вот наступает последний день занятий. А в моем дневнике – «постыдные» отметки. Ясно, что я их должен стереть…
– Ради электрической железной дороги?
– Я считал, что да, но, конечно, я все равно стер бы их. Страх, что меня лишат подарка, был вызван чистейшей мнительностью – по совету директора лицея меня никогда не наказывали.
– Разумный человек. Продолжайте. Итак, вы решили стереть…
– Но в Люксембургском саду я вдруг вижу свою мать, она сидит в кресле с приятельницей. Делать нечего – мы возвращаемся домой вместе. Я бегу прямехонько в уборную и прячу дневник за канализационную трубу, а потом заявляю, что забыл дневник в лицее. «Сходи за ним». – «Завтра». – «Нет, сейчас». Четверть часа спустя возвращаюсь. «Классная комната заперта». Но мать говорит: «Попроси консьержку открыть тебе дверь». Что делать? Как быть? Старуха, владелица писчебумажной лавки на углу нашей улицы, моя старая знакомая, одалживает мне листок бумаги и конверт («Хочу разыграть приятеля»). Возвращаюсь с письмом от консьержки: директор увез ключи с собой.
– Ну, знаете, дорогой мой!
– А я о чем толкую! Мать просит: «А ну-ка напиши слово «сегодня»». Старательным почерком вывожу «Сиводня» через «и» и «в». «Те же самые ошибки, – говорит мать. – Ты уличен. Пойдем вместе в школу». И мы идем в школу. Может, за это время она, на счастье, сгорела? Приближаемся к школе, ноги у меня подкашиваются, в глазах темно, еще немного, и я потеряю сознание. Мать увидела, как я побледнел, ей стало меня жалко. «Пойдем домой». Но ей пришлось поддерживать меня, вести под руку по ступенькам. Конечно, я во всем сознался. Но вы сами видите, до каких крайностей…
– Меня удивляет одно. В Америке, один раз поймав вас на лжи, вас немедля повели бы к психоаналитику и травмировали бы, может быть, на долгие годы. Но почему никто не подумал о том, что вас еще в семилетнем возрасте следовало показать психоневрологу?
– В ту пору это не было принято. По-моему, в двадцатые годы такая мысль просто никому не могла прийти в голову. Даже когда я перехватил табель за триместр, посланный моим родителям по почте, окунул его в хлорный раствор и, подделав подписи учителей, разными чернилами проставил в нем одни только хорошие отметки по всем предметам. Я проделал это так тщательно, что вначале вообще никто ничего не заподозрил.
– Час от часу не легче!
– И, однако, я, как всегда, понимал, что правда в конце концов обнаружится.
– И кто ее обнаружил?
– Мать. При первом же визите к директору лицея. Это случилось в моем присутствии.
– И что же вы сделали?
– Другой ребенок на моем месте и от меньшего пустяка попытался бы утопиться. Я же только бродил по улицам несколько часов подряд. Потом вернулся домой. Мать плакала, но не сказала мне ни слова.
– По совету директора, конечно?
– Конечно. Но директор высказал предположение, что я, мальчик от природы хороший, попал под влияние какой-нибудь «паршивой овцы». Пусть, мол, мать последит за моим поведением и моими знакомыми – она окажет услугу всем. Бедняжка мама! Вообразите, каково было этой стыдливейшей в мире женщине пытаться выведать у сына, нет ли у него «дурных товарищей». Я в своей невинности считал плохим товарищем того, кто ябедничает или не подсказывает на уроках. Конечно, у меня такие были. «Фреди, не дружи с ними больше! Поклянись, что не будешь с ними дружить!» Представляете себе мое удивление! «Если ты будешь с ними дружить, ты весь пожелтеешь, уши у тебя оттопырятся, и все будут про это знать, и дядя запретит тебе играть с Реми!» Я был слишком потрясен, чтобы возражать или задавать вопросы. Я пожелтею и уши оттопырятся только из-за того, что такой-то и такой-то – гадкий мальчишка? Еще одна загадка. Мне понадобились годы, чтобы наконец постичь непостижимое.
– Это делает честь вам и вашим товарищам. Да и Реми, наверное, тоже?
– О, в этом отношении он был натура совершенно здоровая.
– Только в этом отношении?
– Нет-нет, во всех отношениях. Я это прекрасно понимал. Он был образцом, который и подстегивал меня, и приводил в отчаяние, потому что постоянно напоминал о моем собственном ничтожестве. Так, однажды… Но вы знаете, который теперь час? Вот уже больше часа вы заставляете меня молоть языком! Не хватит ли на сегодня?»
На первый раз было, пожалуй, даже слишком много. Тут нельзя перегибать палку: тише едешь – дальше будешь. Он подошел к окну полюбоваться Парижем, с моего этажа город виден от Монпарнаса до Монмартра. Мы еще потолковали о том о сем и договорились встретиться на будущей неделе. На прощанье он улыбнулся мне доверчивой улыбкой, обаяние которой для него отнюдь не секрет.







