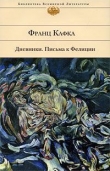Текст книги "Дневники белокурого демона (СИ)"
Автор книги: Не-Сергей
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Тетрадь первая
Привет.
Блин, кому привет? Идиотская идея вести дневник. Вообще не понимаю, нахрена это нужно? Кому я это всё пишу? Себе? Я и так всё знаю и помню. Даже слишком хорошо помню. А давать это кому-то читать… О, нет.
Этот долбаный психолог пытается убедить меня, что мне необходимо выговориться, хоть вот так, раз уж я не желаю с ним откровенничать. Выпустить из себя свои мысли, эмоции, воспоминания. Как будто после этого всё исчезнет, взмахом волшебной палочки. Ага! И я тут же стану прежним и сделаю вид, что со мной ничего не случилось. Не было этой страшной ночи, которая растоптала меня, сломала, похоронила внутри всё ещё подвижной оболочки. Зачеркнула всё, что было до этого. Сделала прошлое чужим и странным, пустым и никчемным. Как и меня самого.
Психолог говорит, что мне нужно зайти в воспоминаниях как можно дальше. Вспомнить побольше важных событий моей жизни. А потом заново пережить ВСЁ. Придурок. Я не хочу переживать это снова!!! Я хочу забыть! Перестать существовать. Ничего не чувствовать. Пусть этот узел внутри уже развяжется. Отпустите меня все. Сколько можно меня теребить? Я не знаю, что делать! Не знаю. Не умею жить дальше. Как раньше уже не смогу. Как сейчас – невозможно. Во мне гнойным нарывом пульсирует эта ночь, не позволяя вдохнуть больше воздуха. Мне всё ещё больно. До сих пор. Три месяца. Я издёргался от этой боли. Я устал. Смертельно устал. Хочу покоя. От всех. От самого себя.
Мне опять снился кошмар сегодня. Как и вчера, и позавчера. И каждую ночь. Я уже не помню, когда нормально спал. А было ли такое? Со мной ли? Это я – тот человек, который любил поспать и поваляться в постели? Уже не уверен. Как не уверен уже ни в чём. Я сплю не более четырёх часов в сутки, если суммарно. Урывками. Иногда просто выключаюсь почти мгновенно, там, где меня застал сон, но вскоре просыпаюсь с криком.
А тогда я не мог кричать. Из горла вырывалось только сдавленное сипение. Я не мог даже дышать. Очень странно в такой ситуации бояться задохнуться, но я боялся этого больше всего. И ещё очень пугало, что асфальт подо мной такой мокрый. Это ведь очень странно, когда жара, а асфальт такой мокрый, липкий и оглушительно пахнет железом.
Иногда мне снится произошедшее. Я вижу всё, до мельчайших подробностей. Снова и снова я переживаю этот ужас. И с каждым разом страх всё больше притупляется. Всё чаще мне хочется вернуться назад и всё изменить. И это кажется настолько возможным, что я начинаю подозревать себя в помешательстве.
А иногда мне снится просто пустыня. Она ничего не делает. В ней ничего не происходит. В ней просто ничего нет. И этот сон самый страшный в своей правдивой реальности.
Даже если не закрывать глаза, передо мной будто выжженная пустыня без конца и края. Она сверкает темным глянцем остекленевших прокалённых песков. А в ней отражается безликая пустота неба над головой. Только за спиной остались города и дороги. Уже не мои, чужие. Бессмысленные. И вернуться невозможно. Глупо. А куда теперь идти – непонятно. Некуда. Впереди только пустота и безысходность. Нет больше широких проспектов будущего. Потайных тропинок личной жизни. Воздушных замков с огромными витражными окнами. Мечты выглядят нелепо. Слишком ярко, до рези в глазах. Кому они нужны теперь? Смешные детские картинки с обложки прошлой жизни. Мне остаётся лишь лежать на твердой, горячей поверхности оплывших барханов и отчаянно скулить в поглощающую звуки пустоту безысходности. Безысходность. Такое странное слово. Никогда раньше не задумывался над глубиной его смысла. Это ведь не отсутствие выхода, это отсутствие исхода. Как это точно.
– Артур, прошу Вас, мы ведь уже обсуждали эту тему, – лысеющий полноватый мужчина устало опустился в крайне неудобное на вид дизайнерское кресло. – Почему Вы снова вынуждаете меня к этому возвращаться и тратить время – оплаченное Вами время! – на повторение того, что я уже говорил Вам? – психолог вздохнул и сомкнул кончики пальцев рук на объемном животике. – Этот дневник необходим не мне. Он нужен именно Вам. Вам необходим хотя бы монолог, если диалог Вас категорически не устраивает, – в его голосе едва угадывались нотки обиды. Или же разочарования?
– Но я чувствую себя глупо, Георгий Карлович, – снова попытался донести свою мысль до упертого дядьки Артур. – Это идиотизм какой-то. Я словно сам с собой разговариваю.
– Отчего бы и не поговорить с умным человеком? – заученно-доброжелательно улыбнулся собственной бородатой шутке мужчина. – Артур, либо Вы мне доверяете и в этом случае стараетесь следовать моим указаниям. Либо Вы отказываете мне в доверии, и я рекомендую Вашим родителям другого специалиста. Вот только сомневаюсь, что в нынешнем Вашем состоянии чьи-либо методы терапии покажутся Вам разумными. Поймите, Вы пока не можете в полной мере адекватно оценить эффективность того, что я предлагаю. Проблема весьма серьёзная. Нам необходимо применить комплексный подход.
– Я верю в эту Вашу эффективность и прочий профессионализм! – подскочил с дурацкого микродиванчика парень и принялся вышагивать перед Георгием Карловичем, больше не в силах выдерживать заумный спор. – Я говорю, что он не подходит мне!
– Артур, присядьте, будьте добры, – психолог твердо, но чуточку настороженно указал взглядом на то место, где минуту назад сидел пациент и, дождавшись, когда его просьба будет выполнена, продолжил: – Прежде чем делать такие выводы, давайте просто попробуем. И будем судить о том, срабатывает ли этот метод в Вашем случае, только после появления первых результатов или их отсутствия.
Артур глухо застонал и спрятал лицо между коленями, прикрыв голову руками.
Этот кретин-психолог, оказывается, собирается читать мой дневник. Жесть. Почему они все не могут просто оставить меня в покое? Зачем непременно нужно во мне ковыряться? Сдирать подсохшую корочку с гнойника, и без того болезненно дергающего нерв. Я уже дал слово, что не повторю попыток уйти. Что им всем ещё от меня нужно?
Извините, Генрих карлови… Простите, Георгий Карлович. Сорвался немного.
Пиздец. Сижу и разговариваю непонятно с кем. То есть пишу непонятно зачем.
– Мне бы хотелось, чтобы Вы вспомнили всё, что имело в Вашей жизни наибольшее значение. Всё, из чего она состояла до того происшествия.
Сочувственный взгляд полный фальшивого понимания.
– Особенно то светлое, чем она была наполнена. Это ведь не слишком трудно?
– А Вы будете это читать? – Артур почувствовал, как подкатил к горлу истерический смешок, и едва удержал его внутри.
– Да, я буду это читать. Но обещаю Вам, что обсуждать ваши записи мы пока не будем.
Успокаивающие жесты, которые так раздражают, у Карловича их много. Наверное, им и учат столько лет. А сколько, кстати? Сколько нужно учиться, чтобы морочить людям головы? Лишь бы не оказалось, что они проходят двухнедельные курсы, потому что подчиниться придется. Хотя бы чтобы успокоить плешивого психолога и перепуганных попыткой суицида родителей.
– Хорошо. Я попробую, – долгий тихий выдох.
Воспоминания. Как можно отделить наиболее важные от мелких и незначительных? Как можно выбрать, что составляло основу моей прежней жизни, а что прошло мимо, лишь задевая краем?
Самое первое, что я помню, наверное, то, как меня учили держать ложку. Это многим кажется странным. Моя мать не верит, что я могу помнить такое. А оно врезалось в мою память яркой и отчётливой картинкой. Или это память о сне?
Я хорошо помню мой деревянный стульчик для кормления. Помню ощущение шершавой фанерки маленькой столешницы под пальцами. И то, что я сидел неожиданно высоко. Помню тарелку с коричневым мишкой и невзрачными цветочками на дне. Неудобную ложку, с которой так легко было управиться левой рукой, но мама и бабушка почему-то упорно перекладывали её в правую. Помню, как они пытались убедить меня, что ложку надо держать именно в той руке, в которой неудобно. А я не мог даже толком зачерпнуть вязкую кашу, настолько рука была неприспособленна к этому. Это казалось очень несправедливым, но выбора мне никто не предоставил. И я подчинился. Я научился держать ложку правой рукой.
Позже мне пришлось учиться правой рукой писать. Это было трудным испытанием. Но к тому времени меня долго приучали всё делать правой, и я уже не помнил, что левая рука значительно ловчее и пользоваться ей удобнее.
Мой корявый почерк очень огорчал родителей и учителей. Но ни они, ни я не понимали, почему мне так трудно научиться писать ровные буквы, попадая в строчки. А мне это казалось почти невозможным. Я исписал тонны прописей, прежде чем мои буквы перестали дрожать, вызывая рябь в глазах.
А в четырнадцать мой корявый почерк изменился внезапно. В одночасье. Вернувшись из летнего лагеря, я записывал свой адрес новому другу, у меня получилось неожиданно красиво и без лишнего напряжения. А друг восхитился и посетовал, что ему так не дано. Наверное, тогда я впервые подумал, что чудеса случаются, и я на них способен.
Как наивно.
– Арти!!! Артур!!! – громкий оклик издалека. – Артурище!!! Ты вернулся?!
Ураган счастливого позитива накинулся на мальчика и повалил на траву.
– Ты не представляешь, как тут без тебя скучно было!
Игорь оседлал поверженного друга и уперся поцарапанными ладонями с обкусанными ногтями в его ещё по-детски узкую грудь. А Артур внезапно залюбовался этой вытянувшейся за лето фигуркой, блестящими каштановыми завитками у лица и шеи, сухой травинкой у самого уха, просвечивающей теплым золотом на солнце, потрескавшимися губами и глазами цвета блеклой летней травы с жаркими выгоревшими прожилками.
– Ты почему так долго?! Ты же говорил, что на одну смену всего! А сам на всё лето меня бросил!
Короткий ощутимый удар ладонями по ребрам.
– Блин, Горе, там так классно было, я вообще бы не уезжал оттуда! Море – это… это обалдеть просто, что такое! – Артур взмахнул руками перед лицом друга, для убедительности, и тут же раскинул в стороны, вспоминая, как вот так же лежал на теплой соленой воде, и она его бережно поддерживала, покачивая, словно в колыбели.
– То есть… ты сам не хотел назад ехать? – как-то непривычно напряженно спросил Игорь, но разморённый воображаемым морем мальчик не придал этому значения.
– Ага!
– Ну ты и козёл, – друг поднялся на ноги и сплюнул в стоявшее над травой марево.
– Горе, ты чего? – удивился Артур и приподнялся на локтях.
– Я для тебя Игорь Вадимович.
– Да ну ты чего?! – Артур подскочил с резвостью, доступной только невычерпанной силе детства.
– Ничего, – хмуро бросил Игорь и, отвернувшись, пошел прочь.
– Да погоди ты!
Артур схватил друга за рукав, разворачивая к себе, но такого взрыва в ответ не ожидал.
На него набросился грозный смерч из кулаков и жестких кроссовок. От неожиданности мальчик даже растерялся и не сразу начал отбиваться. Оба повалились в жесткую траву и покатились, сплетаясь в отчаянной схватке непримиримого максимализма.
– Я ждал тебя! Ждал! А ты! – кричал сквозь мелькающие руки и растрепавшуюся длинную челку Игорь.
– Что тут происходит? – очень серьёзно спросил другой, уже не мальчишеский, но ещё не мужской, надломленный взрослением голос.
Горе замер, вцепившись в футболку Артура, втянул носом красную влагу. Медленным рваным движением, как на испорченной киноплёнке, повернул голову, спросил хрипло:
– Ты ещё что за хрен с горы? Пошел на хуй, еблан. У нас тут свои дела, и тебя они не касаются.
Артур судорожно пытался восстановить дыхание, чтобы вставить хоть слово.
– Ошибаешься, козлина. Это мой друг, и это моё дело. И на хуй пойдёшь ты!
Сильные руки вздёрнули Игоря, с трудом оторвав его от добычи.
– Друг? – прищурился тот. – С каких это пор?
– А мы уже почти три месяца дружим, понял? Так что отвали от него, – предупреждающий толчок в грудь обеими руками. – Ещё раз тронешь, и я тебе ебало с жопой сравняю.
– Олег, не надо, – просипел Артур, шатко поднимаясь на четвереньки и пытаясь сообразить, как спасти ситуацию, в которой даже не может толком разобраться. – Горе, это правда мой друг новый. Мы в лагере познакомились.
– Друг, значит, – тихо проговорил Игорь. – Новый. Ну-ну.
Арти выпрямился и неуверенно коснулся его плеча, но тот вырвался и отскочил с неожиданной прытью.
– Вот и целуйся со своим новым другом! А ко мне не подходи, урод! – на его глазах выступили крупные злые слёзы. Артур ещё подумал тогда, что никогда не видел таких огромных слезинок. – Ненавижу тебя, понял?! Ненавижу! Видеть тебя не хочу больше! – он так рванул с места, что вверх взмыло облачко пыли и, едва достигнув уровня колен, лениво опустилось на землю, надолго застыв между травинками пегой дымкой.
– Убежал, – растерянно сообщил очевидное Олег. – И что это было? Особенно та часть про поцелуи…
– Мы не целовались! – в панике выкрикнул мальчик, будто это и было самым важным оправданием произошедшему, полностью снимающим с него непонятную вину.
– Я так и понял, – кивнул новоиспечённый бывший друг и спокойно ушел, оставив Артура собирать осколки шокированного рассудка воедино.
Горе. Горюшко моё. Как ты злился поначалу, когда я так тебя называл. А ведь придумал это не я, а твоя мама. Но только мне ты прощал дурацкое прозвище. Непоседливый магнит для неприятностей. Задорная хлёсткая волна позитива. Мне казалось, что мы всегда были вместе и всегда будем.
Почему я тогда ничего не понял? Почему до меня всё доходит задним числом? Изменило бы моё понимание хоть что-нибудь в твоём глубоко зашоренном гетеросексуальном мозгу? Как же я любил тебя. Наверное, никого и никогда я не любил так искренне и так чисто. Просто восхищаясь, любуясь, слушая голос. Впитывая всеми порами твои улыбки, твой смех, каждый жест, взмах ресниц. Я тогда ещё не понимал, что это такое. Я и сейчас не уверен, что понимаю.
Внешний мир для меня тогда ещё не нёс в себе чёткого сексуального подтекста. Я уже знал, что такое секс, но он ещё не имел для меня определённого физического значения по отношению к конкретным, реальным людям. В сущности, именно Олег показал мне, кто я есть на самом деле и как можно связать мечты и смутные желания с конкретным объектом. Да, я всегда был немного странным и никогда не жил полностью в этом мире.
Ты дружил со мной, Горе. Дорожил, как братом. А я тебя предал ради нового этапа в своей жизни. Ради неизведанных ощущений. И даже не осознал этого, взлетая на волне эйфории первой влажной влюблённости. Как ты был прав тогда насчёт поцелуев… Мы целовались с Олегом до одури, до черных мушек в глазах, до головокружения. Не решаясь зайти дальше из-за неуверенности и детского страха сделать что-то не так, ведь фантазии так эфемерны, а реальность так требовательна. И лишь однажды, уже перед отъездом из лагеря, всё-таки позволили себе большее – спонтанную неуклюжую ласку рук на трепещущих от несмелых прикосновений членах. Сладкую жадную истому и мокрые пятна на растянутых трусах. Олег старался держаться, как опытный и уверенный самец, но даже мне было очевидно, что и для него такое случилось впервые. Я поддержал его игру. Я почти всегда поддерживаю чужие игры, если это не требует излишних психологических затрат. Как ему нравилось чувствовать себя брутальным мачо передо мной. Если бы ты знал, Горе, каким счастливым я себя чувствовал рядом с ним. Счастливым от того, что могу прикоснуться к нему в любой момент. Поцеловать. Почувствовать тиски его рук на своих ребрах. Увидеть, какой гордостью горят его глаза и знать, что это моя заслуга.
Игра в отношения.
Может быть, именно тогда я начал превращаться в того, кем стал. Может быть, уже оттуда протянулась леска, об которую я споткнулся.
Три месяца в клинике. За такой срок многое можно передумать, а я думал о тебе, Горюшко. Я вспоминал тебя. И тогда это было самым острым, тоскливым и болезненным воспоминанием.
– Аааааа!!!! – разрывающий перепонки протяжный переливчатый крик. – Сына!!! Сыночка!!! Что ж ты натворил с собой, демон?! Да что же это?!!!
Слёзы в ее глазах, и больше ничего не видно в тошнотворной кровавой пелене. Мельтешат перед глазами странные пятна-вспышки, ощутимо вырезая целые куски зрения. Хвалёное блаженство смерти от вскрытых вен оказалось надувательством, превратилось в пьяный звон неумолимо пустеющего тела. Вязкий горячий привкус во рту противно, навязчиво опутывает непослушный язык.
– Отойдите. Отойдите от него, дайте персоналу оказать ему помощь. Женщина! Женщина, успокойтесь немедленно! – строгий, дребезжащий прожитыми годами женский голос. – Это больница, здесь, между прочим, есть и другие больные, и им необходим покой для выздоровления. И они его заслужили, потому что вены себе не резали. Они хотят жить и спокойно спать! И имеют на это полное право! Прекратите верещать. Спасём мы вашего… сына. Сейчас доктор Степанов подготовку к важной операции прервёт и придёт самолично спасать ваше сокровище, – неприкрытая злоба и презрение шуршат высушенными хрусткими листьями в каждом слове.
Зачем я это сделал тогда? Всё так просто, что даже странно объяснять. Я не мог этого не сделать. Мне кажется, нет более веской причины уйти.
Первые дни в клинике после той страшной ночи. Я понял, что меня заставят, вынудят жить дальше. Боль, то разрывающая, то саднящая. Изнутри. Не прикрыть, не прижать рукой, не заставить примолкнуть хоть ненадолго. Болело всё. От кончиков переломанных пальцев до самых глубин раскуроченной души. И было немыслимо найти повод для нового вдоха.
Меня уже не существовало. Моя смерть ничего существенно не изменила бы. Я просто хотел довершить её смертью бессмысленно страдающей оболочки.
Почему я сделал это? Потому что ты всегда был рядом, ждал меня за чертой, Горе, я чувствовал. Мне не было страшно уйти от тех, кто на меня давит одним своим присутствием, к тому, кто всегда меня прощал и принимал без условий и оговорок.
Вот видишь, Горюшко, как всё сложилось. А ведь ты меня бросил. Да так, что не вернуть, не докричаться. Квиты.
– Остынь, Арти! По-хорошему прошу!
– Что ты творишь, Гор?! Отдай мне мой телефон!
– Отвали, пидарас! Сказал же, ну! – неприкрытая злоба в искривлённой презрением усмешке.
– Я не пидарас, ушлёпок! У меня, между прочим, девушка есть!
– Это не отменяет того, что ты пидарас, – по лоснящейся оголённой коже торса стекает битый, многократно отражённый, свет фар, беспрепятственно залетающий в распахнутое окно. – Вот какого хуя ты на меня опять пялишься, коза?
– Ублюдок, – яростное шипение и новая попытка отобрать телефон.
Горячее тело жжёт руки, обжигает щёку. Тесное соприкосновение с ним встопорщивает тонкие волоски на спине.
– Уймись, сказал, – улыбка торжествующей силы. – Так что нам пишет благословенный Вадим? Отъебись, дай дочитать! Арт, блядь!
Крепкая рука болезненно выворачивает кисть. Следом тяжесть, прижимающая к жёсткому дивану. Его тяжесть. Столько раз испытанная собственными мышцами, проверенная на упорство.
– Ща, погоди. О, да ты у нас котик? – глумливый смех над головой. – "Котик, я так соскучился, что начинаю без тебя!" Блядь, это нечто! Пиздец на улице голубых синяков! Он, блядь соскучился и теперь пыхтит там одиноко, и дрочит в одну харю на твой светлый образ. Или нет, он уже кого-то нашел и трахает его с твоим именем на устах. Романтика, мать вашу! Не, ну ты понял, что за чувак? Охренеть.
Артур леденеет, каменеет всем телом от густеющей в животе паники.
– Не, Арти, этот извращенец тебя не любит. Он недостоин такого сладкого мальчика, как ты. Удаляем. Не дёргайся, – острый локоть впивается в позвоночник, – Мы тебе получше найдем. Он, сука, вообще охуевший был. Чё, жалеешь? Не жалей. На хуй их всех. Хочешь, я тебя сам трахну? Мне не в лом, – шершавые губы на пронизанной электрическими разрядами ушной раковине, пьяный смех на краю уплывающего сознания. – Ладно-ладно, не пыхти так, диван слюнями заляпаешь. Пошутил я. У меня не встанет на мужика.
А потом тебя не стало. Какая-то запутанная армейская история. Как было на деле, выяснить не удалось никому. Официально – несчастный случай при тренировочном взятии высоты в каких-то хмурых горах, сорвался на камни, страховка не выдержала. Ты сломал позвоночник в шейном отделе. Вряд ли тебе было больно. Наверное, ты даже не сразу понял, что умер. Ты ушёл на два года, а не вернулся никогда.
Тетрадь вторая
– Артур, Вы совершенно не желаете мне помочь, – демонстративно-усталый вздох умудрённого чужими бедами психолога.
– Совершенство – достойная цель, в какой бы области оно не достигалось, – привычный щит язвительности над размягчённой воспоминаниями уязвимой душевной плотью.
– Иронизируете? – искренний прищур на маске лица. – Что ж, чувство юмора свидетельствует о том, что у нас с Вами есть надежда на выздоровление.
– Вы тоже больны? Это печально. Может быть, Вам лучше обратиться за помощью к специалисту, а не к собственному пациенту?
– Оставьте это, Артур, – ленивый дружеский взмах рукой, отметающий лишнее, не задумываясь над его обособленной ценностью. – Давайте поговорим серьёзно? Я просил Вас записывать самые светлые моменты Вашей жизни. Что мешает Вам сосредоточиться на этом?
– Наверное, врождённый реализм, – столь же дружеская поза изломанного худого тела, прилюдно всё ещё хранящего гордую осанку.
– Хорошо, давайте попробуем разобраться, – Георгий Карлович откинулся на спинку своего кресла, зрелище жутковатое, конструкция не кажется достаточно надёжной для того, чтобы удержать на себе полный вес тела. – Что доставляло Вам наибольшее удовольствие ранее? В той жизни, которую Вы упорно называете прежней?
– Секс, – коротко и спокойно, обыденным голосом сообщил Артур, и это не было ложью. Он вообще не любил лгать, предпочитал изворотливо недоговаривать, заставляя собеседника самостоятельно заблуждаться на его счёт. – Секс с мужчинами, – важное уточнение.
Моя внутренняя сексуальность проснулась очень рано. Я не знаю, насколько это нормально вообще. Да и какое значение может иметь нормальность или ненормальность того, что уже произошло, что выбито в камне прожитых событий и никогда не сможет измениться. И можно ли назвать это сексуальностью или эротизмом?
Ещё в детском саду я осознал приятный эффект от прикосновений к себе. Моя извращённая фантазия кишела самыми темными картинками несвободы и унизительного сладострастия. Я болел ими. Дома, когда оставался один, я связывал себя шелковыми нитками из маминой коробки. Ласкал себя, сдавливая бедро потной ладошкой. Эти неосмысленные, смутные желания мутили мой рассудок. Лёжа под одеялом в кровати общей спальни в детском саду, я спускал трусы до колен, и мои нервы будоражило это прилюдное таинство. Я интуитивно чувствовал всю запретность моих бредовых фантазий и возбуждался от того, как они сплетаются с постыдными действиями. Это продолжалось до тех пор, пока заподозрившая неладное воспитательница не сорвала с меня это одеяло под всеобщий хохот. Было не так стыдно, как нестерпимо само постороннее вмешательство в интимную сторону моей жизни. И смех сверстников поселил в душе тогда ещё крошечную искорку непримиримой враждебности к непониманию. Зародилось, мерцающее пока, осознание того, что то, что для меня абсолютно приемлемо и обыденно, для других мерзко и смешно.
В детстве всё быстро забывается, но какие-то частички всё же неумолимо оседают внутри, покрывая слоем ила дно даже самого чистого водоёма. Дно моей души покрыто довольно толстым слоем вязкой мути.
Однажды, уже в подготовительной группе, я попросил своего друга собрать всех желающих в теремке на нашей уличной площадке и пообещал снять при всех трусы. Не спрашивайте меня, зачем я это я сделал, у меня нет ответа на этот вопрос. Спонтанное решение. И, да, я их снял. А потом пришла воспитательница и устроила скандал. Честно говоря, я тогда растерялся, потому что не понимал, что её так взвинтило. Даже, когда я почти откусил одногрупнику палец, чтобы проверить силу своих челюстей, такого ора не было.
Позже, когда я в туалете всё того же детсада дернул одного из своих наивных сотоварищей за свежеобрезанный член, маму попросили заняться моим воспитанием на дому. На её причитания и риторические возгласы «Ну, зачем, сыночка?!» я мог ответить только правду – я никогда не видел члена с яркими большими пятнами зелёнки, и мне было любопытно. Я же не знал, что это больно, а то бы непременно дёрнул ещё раз. Моя детская жестокость не знала предела в неистребимом исследовательском азарте. И эта жестокость была чистой и незлой. Хотите верьте, хотите нет, я не желал никому зла, я просто не понимал многих вещей. Как не понимаю многого до сих пор. Продолжая причинять боль и зачастую невольно наслаждаясь этим, даже не отдавая себе отчёта в том, что делаю. Однако, постепенно во мне поселилась навязчивая мысль, что многое я делаю не так, и большинство моих желаний постыдны, недопустимы, неприемлемы, ненормальны. Если от них невозможно избавиться, их нужно скрыть. Вот только помнить об этом постоянно слишком трудно.
– Артур! Да что же это за ребёнок такой?! Куда ты несёшься, бес безрогий?! Немедленно вернись в дом! Мы сейчас обедать будем! Вернись, оглоед!
– Ма, я недолго! – грязные пятки мелькают, выпирая из открытых сандалий, которые мальчишка слишком быстро перерос.
Несут быстрые ноги по пыльным дорожкам, по траве, через соседские заборы, к зелёным водам вовсю цветущей речки. К друзьям, дожидающимся отцовскую коробочку с крючками. Когда-то им бережно припрятанную, а теперь задорно позвякивающую в кармане шорт сынишки. За это, конечно, влетит, но потом, позже. Тому, другому, завтрашнему Артуру.
Мать никогда не умела быть по-настоящему строгой, её ворчание не воспринималось мной всерьёз, если не переходило в истерику. Вот тогда мне доставалось по полной программе, до синяков и ссадин от первого, что подвернулось под руку, до оглушающего шума в ушах от её крика. Я боялся её в такие моменты вулканических срывов, как боятся стихию. От того, что не понимал. От того, что такая мама никак не укладывалась в радужную картинку уже тогда выдуманного мной мира.
– Это не ребёнок, это демон какой-то, – усталый вздох сквозь приглушенное платком всхлипывание. На тихой ночной кухне только мать Артура и его бабушка. – Что я не так делаю? В чем я ошиблась?
– Погоди огород городить, он тебе ещё не такую тыкву под задом вырастит. Терпения набирайся. Видишь ведь, в кого пошёл-то?
– Да вижу, – понимающий взмах платком и новый всхлип. – Демон и есть… А о Мишке то известно что?
– Окстись, на голову болезная, – короткий удар ладонью по столешнице. – О муже переживай. Не терпится снова в оборот к этому пройдохе чумазому попасть? Мало я тебя лупила по молодости. А теперь уж жопу отрастила такую, что коромыслом не перешибёшь.
– Ой, страшно мне за Артура, – сдавленное рыдание в голосе. – Кем вырастет, а? Ведь совсем без царя в голове.
– Кем растить станем, тем и вырастет, – твердый голос властной женщины не оставлял шанса возразить ей.
Всё своё детство я провел в почти непрерывном сексуальном возбуждении, и способы самоудовлетворения становились всё более виртуозными, хотя поначалу меня больше увлекало само состояние индуктивного тонуса. Возможно, именно поэтому к моменту становления сексуальности, направленной вовне, я уже изрядно перегорел. И не сразу активно включился в общую азартную игру во взросление.
У меня были определённые сомнения в том, что кому-то можно доверить собственное удовольствие, и этот кто-то справится лучше меня самого. Где-то внутри жил червячок, незаметно для всех точивший мою уверенность в себе, нашёптывающий мне, что я порочный и очень нехороший. Не думаю, что этот червяк издох, скорее с возрастом он перерос в упитанного удава. Но наружу я его не выпускал никогда.
Природа щедро одарила меня привлекательным лицом ангела, внешней раскрепощённостью и общительностью. Я легко шёл на контакт, и так же легко забывал через день только что приобретённых знакомых, попросту переключаясь на что-то более новое и непознанное. Для меня это был период поверхностного прощупывания окружающего мира, и мне пока не были интересны его глубины.
– А я тебе нравлюсь хоть чуточку? – тёплый шепот у самых губ и детский запах дыхания.
Щекотная прядь, выбившаяся из тонкой косички, невесомо касается шеи Артура, но он боится сделать лишнее движение, спугнуть, обидеть. Он и так уже до дрожи в коленях боится показать настоящее отношение к её неинтересному несмелому поцелую в гладкую мальчишескую щёку, пока лишённую даже нежного пушка.
– Да…
– Давай встречаться?
– Если хочешь…
Девочки, девушки, женщины. Сколько их было и, по сути, не было ни одной. Были, потому что так принято, потому что так должно быть, потому что так можно выглядеть не слишком странным. Потому что сначала я пытался через вас реализовать всё то, что мучало меня всю жизнь. Найти то, о чем сам до сих пор имею лишь смутное представление. Мне было интересно с вами говорить и проводить время. Мне было страшно оказаться с вами наедине, а тем более в постели. Поначалу. А потом это стало немного скучным. Простите меня за это. За все дурацкие шутки, отпущенные сразу после секса. Я лишь пытался скрыть неловкость от собственной неудовлетворённости. Меня радовало только то, что у меня получалось. И получалось, без ложной скромности, неплохо. Сама возможность подарить кому-то максимально концентрированное или тягуче выверенное удовольствие была для меня много большим, чем возможность получить его самому. Я заигрался.
– Я думала, ты не такой! – слезы, перемешанные с синими разводами туши. – Я думала, что ты меня любишь…
– Я не говорил ничего подобного. Прости, если заставил так думать, – искреннее раскаяние на лице, комок нетерпеливого томления под ребрами. Финальная сцена этого фантасмагорического жизненного спектакля про абсурдно романтических героев. Ожидающий в буфете запотевший фужер манит больше, чем наскучившее действо.
– Прости?! Что мне с твоих извинений? Я хочу быть с тобой. Объясни мне, что я делаю не так? Почему ты меня бросаешь? Нам же хорошо было… Мы так смотримся вместе, – проманикюренная лапка втирает некрасивые разводы в нежную кожу лица.
– Я не хочу ничего объяснять. Ни мне, ни тебе это не доставит удовольствия. И уж точно ничего не изменит. И покончим с этим. Прошу тебя, просто не звони больше, – легкий хлопок двери, пустой коридор, поднимающееся изнутри, раздражающее до бешенства, чувство вины.
Побег из почти захлопнувшейся ловушки нескончаемых обязательств.
Она отравилась таблетками. Театрально, с эффектным появлением на сцене в роскошном красном пеньюаре, в окружении лепестков от последнего подаренного мной букета. Даже в милиции быстро признали, что умирать она вовсе не собиралась, просто не смогла предугадать всех случайностей.