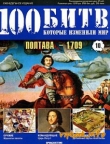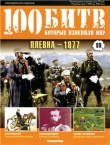Текст книги "Белый генерал. Частная война (СИ)"
Автор книги: Greko
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Белый генерал. Частная война
Глава 1
Зеленые горы, багровый закат
Боль штормовой волной ударила и откатилась, не справившись с гранитом его воли.
«Почему из уравнения „в бане и морге все равны“ исключили госпиталь? – думал он, стараясь отвлечься. – На больничной пижаме нет ни погон, ни эполетов».
Баня… Страдающее сознание зацепилось за это слово, не желая думать о морге, и тут же всплыло воспоминание о недавних посиделках со звездными приятелями.
«Три генерала под окном трындели поздно вечерком», – хмыкнул он, припомнив глупый разговор после очередного посещения парной.
– Вся наша жизнь, награды и звания, не говоря уже о миллионах жертв, о последовательном выбивании русского народа, – сказал тогда Сеня, – проистекает из дикой случайности. Война? Да, но ее предопределила Революция. Революция? Да, но ее предопределила мировая война, начавшаяся с нелепого убийства в Сараево. С ошибки шофера, перепутавшего адрес и привезшего эрцгерцога прямо к магазину, где стоял Гаврила Принцип. Он вышел на улицу и застрелил Франца-Фердинанда первым же выстрелом. Когда думаешь о цепи таких случайностей, невольно забываешь об атеизме.
С Сеней тут же заспорили. Напомнили ему о материалистическом понимании истории, о причинах, а не поводах и прочей ерунде. Но разговор, что называется, запал. Сейчас, на больничной койке, понимая, что незримый рефери открыл отсчет финальных минут, генерал о нем вспомнил. Еще школьником он мечтал отвести руку Гаврилы Принципа, но став постарше, понял, что этого недостаточно. Австрийская оккупация Боснии в 1878 году неизбежно вела к появлению националистов вроде Принципа. Если бы тогда укоротить жадные австрийские руки, затоптать этот фитиль к пороховой бочке Европы…
«Лишь бы не было войны!» – этот пораженческий лозунг возник из неимоверных страданий, выпавших на долю русских, украинцев, белорусов в XX веке, заставивших их забеспокоиться о выживании как народов. Умирающий генерал это слишком хорошо понимал, но сердцем принять не мог. И мучился от собственного бессилия.
Он вздохнул и замер – грудь сковал спазм. Слова застряли в горле, вместо них вырвался только сиплый клекот, в глазах медленно темнело. Последним усилием воли он потянулся к лекарствам на прикроватной тумбочке, но рука бессильно упала вниз.
Свет в конце тоннеля не пропадал, а разгорался с каждым мгновением. Жизнь после смерти, вопреки его мировоззрению, оказывается, существовала, и он принял это как новую вводную.
– Мы еще повоюем!
* * *
Вторые сутки жесточайших боев подходили к концу. Все три гребня Зеленых гор и пространство между ними, заросли кукурузы и стройные ряды виноградников, окопы и редуты – все превратилось в месиво из развороченной земли, древесной трухи, осколков чугуна и мертвой плоти, обильно политое дождем и кровью. Да, давненько русский флаг не реял над столь ожесточенном сражением – лицом к лицу, штык на штык, не поддаваясь, не отступая. Со времен Бородина, не иначе. Ярость и упорство обеих сторон достигли нечеловеческих высот – обычные люди не могли такого выдержать. Но русский солдат смог. И турецкий – следует отдать ему справедливость – тоже. Картечные залпы в упор, огневые мешки, артиллерийские дуэли, штыковые атаки, контратаки, фланговые удары, беспорядочная рукопашная, устройство наскоро хотя бы подобия брустверов – многие были сложены из трупов, – временное отступление и гибель солдат, гибель офицеров, гибель несчастных коней… Смерть славно попировала на этом клочке болгарской земли, обильная жатва ей досталась. Кругом, куда ни кинь взгляд – тысячи тел калужцев, владимирцев, эстляндцев и ревельцев в окровавленных и измазанных грязью темных мундирах, множество красных фесок убитых врагов, кишки, озера крови, оторванные руки-ноги. Иной раз и не разберешь, кого видишь – русского или турка, настолько безжалостно расправлялось с человеком придуманное им же оружие. Ад! Кромешный ад!
И все бессмысленно. Все жертвы напрасны. Эти медные лбы, эти бездарности, эти скоты в аксельбантах, завистливые ничтожества, они так и не прислали мне подкреплений.
С самого начала знал, что так выйдет. Честно признаться, глодали меня сомнения в успехе предприятия, но мы смогли. Мы сдюжили! Несмотря на дождь, превративший склоны в вязкую массу! Мы лихо навалились на вражеские окопы, сходу взяли все три гребня, заткнули пасти турецким пушкам, уже видели окраины Плевны. Но дорого встали нам залитые кровью редуты Исса-ага и Кованлек – полки уменьшились до батальонов! Под грохот барабанов, с развернутыми знаменами мы двигались вперед. Подкрепления! Одна свежая бригада, и мы ворвались бы в паникующий город.
Но в ставке шел пир горой, там праздновали день тезоименитства императора, и шампанское лилось рекой, в то время, когда здесь бурным потоком лилась русская кровь. Главнокомандующему и его подпевалам было не до того, чтобы держать руку на пульсе ожесточенной битвы. Ничего лучше не придумав, как долбиться в лоб в Гривицкий редут, заваливая его трупами румын, упустили момент, когда чаша весов качнулась в нашу сторону – здесь, на Зеленых горах. Победа была так близка, и мы ее упустили. А теперь не имели сил сохранить даже то, чего добились. Осман-паша бросал в атаку на наши позиции все новые и новые таборы. Орда! На нас накатывалась по меньшей мере половина плевенского гарнизона, а ставка бездействовала. «Авось пронесет!» – так рассуждали, не ведая о том, что творят.
Я чувствовал, как гнев наводнением заливает все мое существо без остатка. Знал за собой такой грех, боролся с ним всю жизнь, не давая ему лишить меня трезвости мысли, столь необходимый в пылу сражения. Хотелось сунуть голову в ведро с холодной водой, да только где ее взять – солдат нечем поить, нечем раны промыть…
Белый мундир весь в грязи, и эта неопрятность отчего-то теребила душу как заноза. Три коня подо мною убило за прошедшие сорок часов. Полетал с седла, извалялся в земле, шинель изодрал так, что пришлось выбросить.
Солдаты взмолились:
– Вашество! Себя не жалеете, животину пожалейте. В вас же прицельно бьют. Все знают белый мундир Ак-паши.
Пришлось уступить, тем более что надобность лично вести роты в атаку отпала – к ночи 30-го августа мы перешли к обороне, надеясь сохранить достигнутое. Окапывались. В ход пошло все – манерки, штыки, вражеские сабли и ятаганы, пальцы, ногти…
Боже, но как же терпелив русский солдат! Сколько в нем внутренней силы! Его воля, его способность все превозмогать наводят страх на врага, лишают его мужества. Мимо меня провели под руки раненого с пробитой навылет шеей и непокрытой головой – он ругался на истомленных товарищей за то, что отняли у него ружье. Как можно не побеждать с такими молодцами⁈
– Господин генерал!
Я обернулся – меня окликнул порученец командира 4-го корпуса, генерал-лейтенанта Зотова, фактически руководившего всем сражением под Плевной. Чистенький офицерик, без пятнышка на мундире, сапожки блестят, не то что мы – вылитые оборванцы!
– Мне приказано передать вам записку.
Клочок бумаги показался мне пудовой гирей:
«По приказанию Великого Князя главнокомандующего, если вы не можете удержаться на занятых вами позициях, то начните, но, по возможности, отнюдь не ранее вечера, медленное отступление к Тученице, прикрываясь конницей Леонтьева».
Из моей груди вырвался полурык, записка полетела на землю.
– Что ответить Его Превосходительству? – испуганно спросил посланец.
– Передайте ему на словах так: если вы способны превратить победу в поражение, то прошу меня уволить!
Стоявшие вокруг офицеры моего штаба дружно охнули. Порученец скотины Зотова поспешил ретироваться. Мы вернулись к наблюдению за полем боя.
Пули засвистали над головой все чаще и чаще – турки подбирались с фланга ко второму редуту на среднем гребне. Таким манером они нас быстро отправят на свидание к своему Аллаху.
– Алексей Николаевич, голубчик, распорядитесь, чтобы казаки спешились и прикрыли огнем левое крыло, – попросил я своего начальника штаба.
Подполковник Куропаткин козырнул и принялся раздавать наставления хорунжему Дукмасову. Этот лихой, но толковый и распорядительный казак, отличившийся в схватках с черкесами у подножия Балкан, пришелся мне по сердцу, я даже планировал взять его к себе ординарцем. В порученцах у меня нужда: накануне выбыли из строя оба брата Верещагины[1]1
Верещагины – Сергей и Александр, братья знаменитого художника Василия Верещагина
[Закрыть] – младший, из вольноопределяющихся, самый бесшабашный, был убит наповал, а старший, из казаков, ранен. Я проследил взглядом, как хорунжий, получив приказания, запрыгал козликом вниз по склону, придерживая на бегу шашку. Пышный чуб теребил ветер.
Я зевнул. Бессонная ночь давала о себе знать. Ни на секунду не прилег, все время в окопах – подбадривал солдат, чтобы они, вымотанные до предела, не имея возможности принять горячую пищу, даже просто подремать, копали и копали ложементы. Уходить с занятых позиций никто не хотел. Удивительно, полки наполовину состояли из не нюхавших пороху новобранцев, заменивших выбитых во время бесславной второй Плевны. Если вчера они колебались, и пришлось личным примером поднимать людей в атаку, то на следующий день их уже приходилось сдерживать!
Шквал огня обрушился на редут Кованлек. Фонтаны земли взлетали в воздух, а вместе с ними летели в разные стороны тела – их уже столько навалило перед и в траншеях, что бомбы не могли их не зацепить.
– Началось! – хмуро сообщил Куропаткину. – Я на редут к Горталову. Пусть кто-нибудь скажет моему денщику, чтобы привел запасного коня.
– Михаил Дмитриевич… – заспорил Куропаткин.
Отмахнулся от него и поспешил к траншее, связывающей косой линией редуты на среднем и третьем гребне. Проход был завален убитыми, вокруг густо, одуряюще пахло кровью и дерьмом.
– Ваше превосходительство! – ахнул незнакомый молодой обер-офицер, с ужасом смотревший вместе с командой подчиненных на траншею. – Куда вы! Турки продольно бьют! Вон уже сколько навалили! Десятками кладут!
В подтверждение его слов в траншею влетела картечь, заставляя шевелиться мертвых и добивая громко кричавших тяжелораненых.
– Вперед! Пока они перезаряжают – вперед! – закричал я и побежал по осыпающемуся окопу, перепрыгивая через павших. В одном месте пришлось даже пробираться боком.
За мной поспешали хрипло дышавшие солдаты со своим командиром.
Проскочили!
Юный прапорщик с белыми от страха глазами достал и поцеловал маленький золотой образок, надетый, наверное, рукою матери при отправлении на войну.
Нам навстречу попалась группа солдат, отступавших от редута. Остановил их бодрым окриком:
– Ребята, не годится показывать спины проклятым туркам!
Прониклись. Общей группой поднялись к редуту.
Его комендант, майор Горталов, осунувшийся и черный от порохового дыма, нашелся у разбитой пушки с покореженным лафетом. Я был несправедлив вчера к этому офицеру. Застал его на поле кукурузы, в тылу, и отчитал. Он объяснил мне, что разыскивал разбежавшуюся роту. Во время захвата Кованлека он действовал настолько наихрабрейше, руководя батальоном владимирцев, что я, не ограничившись извинениями, назначил его комендантом редута. Федор Матвеевич обещал мне стоять насмерть.
– Вентиляцию мне соорудили, – сообщил майор, продемонстрировав простреленное кепи.
От турецкой линии раздались «Алла, Алла!», показалось зеленое знамя.
– Снова идут, – как о чем-то само собой разумеющимся, сообщил офицер. – Хорошо, что вы пришли. Солдаты, когда вас видят, бьются с огоньком. «Скобелев с нами» – это у них как молитва.
Оставив меня в одиночестве и не спрашивая разрешения, Горталов побежал раздавать указания. Он словно пересек незримую черту и уже не числил себя среди живых. А у мертвых свое отношение к субординации.
Я двинулся вдоль бруствера, к которому плечом привалились солдаты, наведя ружья на приближающегося врага через слабое подобие амбразур. Защита от шрапнели или от пуль, залетавших по крутой траектории, – так себе, ни рыба, ни мясо, ни богу свечка. Но какая есть. По ней замолотили пули турецкого отряда прикрытия наступающих.
– Ребята! – подбадривал я батальонный участок обороны. – Не робей. Бей в полфигуры! И только залпами! Слышите? Залпами!
Турки двинулись густыми цепями, позади гарцевал кавалерия, выполнявшая роль погоняла. Офицеры стегали колеблющихся нагайками.
– Батальон – пли!
Редут огрызнулся огнем. Турки заколебались.
– Пли!
Второй залп вышел смазанным, поспешно-разнобойным. Если дать развиться этой суетливости, все пойдет насмарку. Я вскочил на бруствер, не кланяясь вражеским пулям, выхватил саблю и закричал.
– Меня слушать! Стрелять по моей команде! Целиться ниже! Пли!
Отличный вышел залп, идеальный – три сотни курков щелкнули как один, в воздухе разнесся звук, будто с треском разорвался огромный кусок холста. Турки замерли как вкопанные в ста шагах от траншей, а кое-кто хлопнулся на землю целым и невредимым, но до смерти перепуганным. Я разглядел подробности, когда ветер разогнал удушливый пороховой дым, укутавший белой кисеей всю позицию и на короткое время укрывший меня от вражеских стрелков.
– Пли! – взмахнул саблей, и в ту же секунду случайная пуля выбила ее из рук.
«Янычары», как мы по привычке называли вражеских солдат, хотя янычарский корпус был уничтожен полстолетия назад, подались назад. Пятились, но не бежали. Упавшие на землю вставали и присоединялись к товарищам.
– Пли! – дал отмашку рукой.
Новый залп обратил турок в бегство. Очень вовремя. Проклятые винтовки Крнка, «крынки», как называли их солдаты, – на пятом выстреле у половины не срабатывал механизм экстракции, и приходилось извлекать гильзу шомполом, теряя драгоценное время.
Я спрыгнул обратно в траншею, провонявшую кислой гарью. Поднял изломанную саблю и кое-как воткнул ее в ножны. Скривился. Закопченное от порохового дыма лицо свербело и чесалось. Георгиевский крест съехал набок.
«Хорош генерал!» – подтрунивал я над собой.
Огляделся.
Скорчившиеся, изломанные в диких позах, растерзанные свинцом тела, оставшиеся там, где их застала смерть, – на них не обращали внимания. Надрывались в крике умирающие раненые, широко разевая пересохшие рты:
– Братцы! Братцы! Водички! Крестик, крестик дайте…
Те, кто имел шанс выжить, тихо стонали и просили их вынести или хотя бы убрать из-под ног:
– Кто-нибудь… спасите… в угол меня… к стеночке… Голубчики!
Пока шло отражение атаки, до них никому не было дела – порой могли и затоптать. Теперь ими начали заниматься, перевязывали. Но вынести? На это не хватало ни времени, ни людей. Хорошо хоть не дошло до штыковой, тогда список потерь был бы куда выше, а раны еще страшнее.
Солдаты, безразличные к смерти и страданию после всего пережитого за последние сутки, зачерствевшие душой, возбужденно переговаривались и косились на меня с выражением восторга на лице. Пример личной храбрости в который раз не оставил их равнодушными.
Меня часто спрашивали, зачем я бравирую смелостью, играю со смертью в орлянку. Я лишь пожимал плечами, отмалчиваясь. Как объяснить, что чувствовал, будто мой ангел подхватывал меня и укрывал своим крылом? Что смерти от пули на поле боя бояться не нужно? Как?
Я и умывался по утрам перед траншеями, пока сидели в осаде. Клавдий, денщик, вечно нудел, сливая мне на руки, и приседал, когда рядом жужжали пули. Редкий трус! Все просил меня о медали. «Когда в окопах увижу, когда себя в бою покажешь, тогда и будет тебе крест», – неизменно отвечал я. И он столь же неизменно отсиживался в тылу.
– Федор Матвеевич, – окликнул я Горталова. – Я возвращаюсь. А вы готовьтесь к новой атаке. Осман-паша в нас бульдогом вцепился. В отличие от нашей ставки, он уже сообразил, что эта позиция дает неоспоримое преимущество для обстрела города. Так что новой атаке – быть. Вы заранее людей от редута отведите назад, за гребень, чтоб безопасно от артиллерии.
– Как же можно⁈
– А вот так! Наблюдателей оставьте. Как обстрел завершится, тогда и займете позиции. Я назад, на второй гребень. Нужно готовить линию прикрытия на случай отступления. Если станет совсем тяжко, отходите.
– Нет! Я дал клятву стоять насмерть!
– Освобождаю вас от этой клятвы!
– Михал Дмитрич! Русского офицера освобождает от клятвы только смерть! – упрямился Горталов.
– Не говорите глупостей! – вскипел я. – Война не закончилась. Вы еще пригодитесь.
Тяжелый разговор. Продолжать его показалось невмоготу. Я развернулся и отправился обратно к Куропаткину, весь во власти тяжких дум и плохих предчувствий.
– Наполеон награждал своих маршалов, если они дарили ему полчаса, – с горечью сообщил я Алексею Николаевичу. – Мы выиграли армии целые сутки, и что взамен?
Вопрос был риторическим, и мой начальник штаба, оставив его без ответа, принялся докладывать обстановку.
На Кованлеке снова загремели разрывы. Турки подтягивали артиллерию с других участков, а нам нечем было ответить. Целых орудий осталось – по пальцам пересчитать. Их берегли, чтобы отбиваться картечью.
– Снова атакуют, – сообщил мне очевидное Куропаткин, когда с третьего гребня послышалась ружейная трескотня.
– Готовьтесь, придется прикрывать отступление, – распорядился я севшим от волнения голосом, вслушиваясь в музыку боя.
Чутье мне подсказывало, что эта атака станет последней, но я ошибся – редут устоял. Мой совет отвести роты из-под огня в безопасное место отлично сработал. Но силы были на исходе.
– Прикажите очистить Кованлек, – еле выдавил из себя.
Ваня Кошуба, ординарец, совсем мальчишка, убежал передать мое распоряжение.
Этот приказ – он запустил во мне странный разрушительный механизм. В висках, как метроном, с нарастающей силой принялась стучать кровь. Все сильнее и сильнее!
Крики турок, доносившиеся с Кованлека, звучали все ближе, зловеще и свирепо, обещая «москоф» мучительную смерть. Ручейки владимирцев устремились к впадине, разделявшей две гряды.
– Майор Горталов отказался покинуть редут! – издали, за сто шагов, закричал мне вернувшийся ординарец.
– Коня! – зарычал я.
Денщик Круковский, возникший как из-под земли и трясущийся как осиновый лист, сунул в руку поводья. Я взлетел в седло. Вытянулся, опираясь кончиками сапог на стремена. Все происходящее на поле боя почему-то превратилось в последовательность сменяющих друг друга картинок, как в парижском оптическом театре месье Рене, – под барабанный стук сердца.
«Горы трупов… Тысячи раненых, убитых, изувеченных, обезображенных – все это напрасно? Бегущие солдаты. Разбитые орудия… Неужто достанутся врагу, хоть и со снятыми кольцами? Победа, обернувшаяся отступлением, поражением. Как такое оказалось возможным⁈ Отдаем взятое с боя. Турки торжествуют…»
Я глухо застонал, все больше заводясь. Предельное нервное напряжение подбиралось к своему пику.
С высоты коня увидел красные фески, замелькавшие на гребне, уже в наших траншеях. Что может быть горше картины потери укреплений, удерживаемых сутки такой ценой⁈
Получи, Миша, горше!
На моих глазах турки принялись добивать оставленных на редуте раненых. Кто умер быстро, тому повезло – хорошо если просто разбивали прикладами головы, как спелые арбузы. Этого «янычарам» показалось мало. Со звериной жестокостью они, мстя за пережитый страх, терзали и расчленяли ятаганами тела, отрубая руки и ноги, отсекали ножами уши и носы. Вырезали кресты на коже, сыпали горячие угли на груди беззащитных русских солдат. Из кровавой взвеси, которая медленно поднималась над нашими прежними позициями, доносился кошмарный крик-вой нестерпимой боли и ужаса. Там умирали жуткой смертью лучшие – те, кто выполнил свой долг до конца, а я был бессилен им помочь, и мука все сильнее терзала душу, выворачивала ее на изнанку.
Но что это⁈
На край бруствера, как я час назад, взобрался майор Горталов – живой, невредимый и с саблей в руках. Решил принять последний бой? Зачем, Федор, зачем⁈
Турки бросились к нему с победными криками, Горталов отмахивался саблей, но чертовы басурмане наседали со всех сторон, стальные иголки длиной с локоть, венчавшие «янычарские» винтовки, впились ему в живот, грудь, спину, бока, кепи свалилось с головы и… я увидел, как истерзанное тело майора подняли на штыках вверх под утробный рев.
Заломило висок, грудь перехватило так, что не вздохнуть. И в тот момент меня крепко ударило в голову, она как-будто взорвалась.
«Ангел мой отлетел», – мелькнула последняя мысль, прежде чем я провалился в черноту.

Смерть майора Горталова, рисунок из «Военной энциклопедии» Сытина
Глава 2
Моя личная чертовщина
Голова болталась, как у китайского болванчика, в ушах стоял неумолчный колокольный звон, меня качало, как на волнах.
– Голову, голову придержи, растыка!
Две руки прекратили тряску, но плавные колебания продолжились до того момента, как стало чуть темнее, и спиной я почувствовал толчок. Вокруг, судя по звукам и редким касаниям, суетились люди, звали лекаря, а я постарался разлепить веки. Две попытки вызвали вспышку боли в висках, третья удалась – сквозь щелочку и разноцветные круги в глазах я увидел несколько сапог и кусок парусины.
– Палатка медсанбата, что ли?
Я нахмурился – что за чертовщина, какой еще медсанбат?
– Обычный, медико-санитарный батальон.
Странное название для полевого лазарета или перевязочного пункта, хотя все слова понятны, sanitas – здоровье на латинском. Но кто со мной говорит? Этот голос – он звучал не извне, не в ушах, а изнутри. И был недовольным, но жестким, как у полкового командира.
– Кто-кто… Конь в пальто!
Я оторопел и с трудом перекрестился. Похоже, поймал головой пулю на излете. Контузия, сложившаяся воедино с нервным потрясением. У меня бред? Или все куда хуже? Откуда этот голос взялся?
– Полегче что-нибудь спроси! Помереть спокойно не дают! Даже такой дурацкой смертью, как моя.
В тоне моего собеседника явственно читалась горечь и гнев. Но кто ему помереть не дал?
– Если бы я знал.
И добавил с насмешкой:
– Про раздвоение личности слышал? Теперь только смерть разлучит нас.
Нет, я не хочу!
– Кто тебя будет спрашивать! Терпи, казак, гостя.
Да какой я казак, служил по пехоте! Даже не обер-офицер, а генерал-майор!
– Ой-йой-йой, какие мы важные.
Внутренний голос затих. Хмыкнув, я с трудом раскрыл глаза пошире и уставился на лысого мужика в черкеске. Он разгладил рыжую бороду надвое, до самого подбородка:
– Проштыкнулся ты, Мишка, как дед твой любил говаривать.
Действительно, чертовщина – родного батюшку не узнал! Но ведь не от него же я слышал столь странные речи?
Отец укоризненно покачал головой, не сводя с меня любовного взгляда и массируя левую сторону груди, прямо по газырям:
– Надо в Ставку тебе ехать. Гадать не берусь, чем закончится твоя эскапада.
Волна тепла при взгляде на него вылилась в неожиданный порыв – я склонился с кушетки, на которой лежал, и поцеловал крепкую, но подрагивающую руку.
«Лысый-бородатый» всхлипнул, сложился пополам, прижал к себе:
– Думал все – нету наследника! Собирайся да езжай, Мишка, Государь ждать не любит. Помогай тебе Всевышний!
Словно устыдившись своего порыва, он разорвал объятия, перекрестил меня и вышел из палатки. За ним последовали все, кто толпился вокруг походной кровати, чтобы не мешать моим сборам. А я чуть не застонал им вслед – перед глазами встало наколотое на штыки тело Горталова, истерзанное, истекающее кровью… Подлецы в аксельбантах, скоты штабные! Сейчас будут прятать подленькие ухмылочки, да втихаря радоваться, что подсидели!
– Замполиты и особисты, особисты и замполиты, ничего не меняется, – снова зазвучали в голове чужие слова.
Каких сил мне стоило не задать вслух рвавшийся наружу вопрос – отдельный разговор, но мой внутренний голос, моя чертовщина, немедленно ответила:
– Заместители командира по политической части, они же комиссары.
Комиссары Конвента?
– Почти. Сами воевать не умеют, а всех учат. И не дай бог оступишься – съедят с потрохами.
А особисты?
– Особые отделы, контрразведка, все вынюхивают, не было ли у тебя умысла. Сущие жандармы.
Ага, ясно, но у нас из жандармов только Мезенцов, но от него я худого не видел. Но откуда у моего внутреннего голоса все эти словечки? Не схожу ли я с ума?
– Вот и у меня такие же вопросы.
Зрение потихоньку пришло в норму, хоть и виделось все размытым и зыбким. Обнаружил, что лежал ни в каком не в госпитале, а в своей палатке. В нее скользнул солдат в белой рубахе с погонами, нетуго перепоясанной черным ремнем, и в белых же мешковатых брюках, заправленных в высокие сапоги. Вороватая физиономия со смоляными кудрями пеной, носом уточкой и серыми глазами – ну точно, денщик мой Клавдий Круковский, продувная бестия – такого забудешь! От него ощутимо попахивало чесноком и спиртным, не иначе, хлопнул водки и закусил салом.
– Михал Дмитрич! Очнулись⁈ Мы тут места себе не находим, глаз не смыкаем! От Государя трижды нарочные приезжали, все спрашивали: как там наш генерал? – запричитал рядовой, размахивая руками. – А я-то, я-то… Куда ж мне без вас⁈
– По такому случаю не грех и выпить, да?
Солдат смущенно потупил глаза, но ни тени раскаяния не промелькнуло в его лице:
– Вашество! Ну сколько же можно⁈ Вечно вы надо мною смеетесь!
– Цыц, Клавка! Подай причесаться и мундир чистый!
– Свитский аль походный?
– Сам не сообразил? В Ставку поеду.
– Шпагу с бриллиантами? – елейным тоном спросил Круковский, состроив невинную рожу.
– Так ты тоже из этих, с аксельбантами? – ехидно уточнила «моя чертовщина».
Я крякнул и рыкнул на денщика:
– Походный китель давай!
– Да вы, батенька, фрондер! – не унимался незваный гость.
Денщик, обиженно ворча, вынул и водрузил на дорожный поставец зеркало и гребень, а потом полез в кожаный сундук. На свет явился белый полукафтан с золотыми погонами и пуговицами, затем Клавдий пододвинул ко мне поставец и помог встать. Я привычно взял гребень, не глядя, прошелся по бакенбардам и только потом посмотрел в зеркало.
– Вот это патлы! – ахнул внутренний голос.
– Да чтоб ты понимал! – рявкнул я вслух и сам себе удивился: веду разговоры черти с кем и принимаю как данность наличие потустороннего голоса в мозгу. Не иначе как пуля, прилетевшая в голову, что-то в ней сдвинула не туда. Авось пройдет!
Круковский удивленно уставился на меня, но, привычный к моим чудачествам, лишь укоризненно покачал головой.
– Только вшей плодить, сбрить к чертям собачьим!
Нет, каково? Роскошные бакенбарды, которым завидует вся армия, пушистые, на ширину плеч – патлы? Сбрить??? С босой мордой ходить, словно актеришко?
– А ну, погодь, повернись-ка… Где-то я тебя видел…
Точно с ума схожу. То отца не узнал, теперь себя самого, генерал-майора Скобелева 2-го!
– Скобелев??? Твою мать, точно! Твой портрет у нас в академии висел!
Это просто из ряда вон! Голова снова закружилась, в глазах потемнело и пришлось срочно плюхнутся на случившийся рядом походный раскладной стул. Академик на мою голову, штафирка поганая…
– Но-но! Я боевой генерал, и званием повыше тебя! Был…
Ну да, от инфантерии.
– Ну, в некотором смысле, от инфантерии. Только не знаю, как объяснить…
Да как есть, так и объясняй. Только потом – сейчас в Ставку торопиться надо.
Я надел китель, пристроил на шею Георгиевский крест, и еще один, на грудь, с облупившейся эмалью, но столь мне дорогой – его отдал Кауфман под Хивой, сняв со своей груди! Круковский прицепил аксельбант, так возмутивший внутренний голос, подал саблю, побрызгал одеколоном.
– Нет, ты погоди, погоди… Ты не представляешь, как тебе повезло, – притормозил меня внутренний голос, неожиданно возбужденный. – Год какой?
Какой, какой… Летняя кампания семьдесят седьмого.
– Ух ты жь! Да мы с тобой таких дел тут наворотим!
Заинтриговал, черт! Я уже собрался вывалить на мистического собеседника десятки вопросов, но нас прервали – в палатку стремительно вбежал подпоручик Кошуба, мой ординарец.
– Ваня, что такой всполошенный? – я аккуратно пристроил фуражку на голову, стараясь не сместить повязку.
– Срочно зовут на Царский холм! Как узнали, что вы очнулись, сразу флигель-адъютант прискакал.
– Уже готов!
Мы вышли на улицу. Ко мне подвели белоснежного коня. Сивка! Мой талисман! Так его любил, что в Хиве, имея все возможности, облизываясь на ахалтекинцев – на удивительной красоты лошадей с их точеными шеями и стройными, как у ланей, ногами – сохранил верность этому жеребцу из-под Богородицка. Берег его как главную ценность в жизни и на Зеленые горы с собой не взял. Он узнал меня и радостно всхрапнул.
Ординарец придержал стремя, я неловко взгромоздился в седло, словно давным-давно позабыл, как управляться со своим телом – последствия контузии давали себя знать.
– Михаил Дмитриевич! Я провожу, – юное лицо Ивана с пушком на румяных щеках выражало неподдельную тревогу.
Я благодарно кивнул.
Ординарец свистнул казакам-конвойным, пялившимся на меня во все глаза. Ему выделили коня, и небольшой кавалькадой мы устремились к высокому холму, господствующему над местностью. Легким аллюром двигались через бивуак – под радостные крики солдат, встретивших мое появление всеобщим ликованием:
– Бессмертный!
– Не берет генерала пуля!
Эти и подобные возгласы слились в единое «Ура!», когда я снял белую фуражку и помахал ею в воздухе.
– Владимирцы! – подсказал ординарец. – Половина от них осталась. А тот батальон, что с нами был, так от него лишь четверть уцелела.
Я не ощутил в тоне Вани какого-либо осуждения. Скорее усталость и смирение, жалость к павшим вкупе с воинским фатализмом.
– Большие потери при отходе? – спросил у него, чувствуя, как возвращается моральное истощение.
– Все не так плохо, Михаил Дмитриевич, – успокоил меня Кошуба. – Шуйский полк нас прикрыл. Раненых вынесли.
– Божьим попечением! – я перекрестился, от сердца немного отлегло.
Мы приблизились к холму, окруженному казаками из государева конвоя, в черкесках с кинжалами на поясе и в высоких папахах – терцами и кубанцами. Мне радостно улыбнулись, как близкому родственнику, отдали честь.
– Вас ожидают, Ваше превосходительство!
Я спешился и уже начал подниматься по желтому склону, когда мне в спину донеслось радостно-удивленное:
– А говорили, убили его. Как есть заговоренный!
На вершине на походном стуле сидел государь, Александр II, рядом с ним переминался с ноги на ногу наследник престола. Длинный как жердь великий князь Николай Николаевич Старший стоял, картинно поставив ногу на раскладной табурет. За ним теснилась теплая компания генералов в черных и темно-зеленых свитских мундирах с серебряными кушаками и фуражках с красными околышками – «теплая» в том смысле, что успела немного усугубить. Корзины шампанского были неполны, пробки от бутылок валялись под ногами, в руках у многих еще оставались пенящиеся бокалы. На их фоне я вылитая белая ворона, залетевшая в стаю стервятников.
– Интересно, что празднуют?