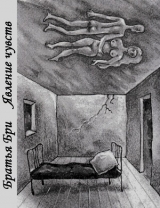
Текст книги "Явление чувств"
Автор книги: Бри Братья
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Как прелестны эти еврейки! Саша перевёл взгляд с прелестных грудей девушки, только что спрыгнувшей с грузовика и бойко стряхивавшей с себя пыль, схваченную при верховой езде. Она подняла голову – сквозь Сашу посмотрели своим отстранённым тонко оправленным взором очки. A через несколько секунд нарисовавшиеся на их стеклах глаза (которые будут сниться ему и через тысячу лет) безо всякой утончённой отстранённости говорили: "Смотрите. Пожалуйста. Мне не жалко. Но только один уговор: сегодня вечером вы должны мне свидание".
Это будет их первое свидание...
История третья
Женечка
Где ещё услышишь то, что услышишь в дороге от случайного попутчика?
Приглушённый стук железных шагов, привносящий благостную размеренность в капризное течение жизни. Душистый парок над почти уютным столиком, заражающий душу вирусом невесомости. И воспоминания вслух, не стеснённые этикетом зависимости.
"Это была коммунальная квартира. Банальная коммуналка. Помимо всего и между прочим – недурственная школа жизни. Ну да дело не в этом...
Подросток лет двенадцати. Слабый, чувствительный, витающий где-то высоко над коммуналками мальчонка. Не очень общительный, не очень уверенный в себе. Это я. Папа... служба, командировки... командировки, служба. У мамы – частые ночные дежурства в госпитале, запоздалая учёба и вечная хандра из-за папиных командировок.
A ещё была тётя Женя. Для меня – тётя Женя, для всех других домочадцев, на зависть мне, – просто Женечка. Кто-то звал: "Женечка!", кто-то другой окликал: "Женечка!", третий обидчиво надоедал: "Женечка!" Но всегда это было – "Женечка!" C разных сторон, из разных углов, по разным поводам – "Женечка"".
Рассказчик, недолго помолчав, усмехнулся и продолжил, в который раз с лёгкостью меняя аранжировку трёхсложья.
""Женечка!.. Женечка!" Можно было подумать, вернее, вообразить, отвернувшись от наскучившего параграфа, что это носится запущенная вдогонку кличка собачонки, пленённой одним из лакомых закоулков нашей коммуналки. Как мне нравилось: "Женечка". Мне так хотелось сказать, произнести вслух: "Женечка". Но приходилось говорить "тётя Женя".
Тётя Женя жила одиноко, в том смысле, что рядом с ней не было родных, близких ей людей. Странно и сугубо нетипично для скворечников, подобных тому, в котором ютились мы, и тем не менее никто толком ничего не знал о её личной жизни. Зато каждый обитатель скворечника почитал чуть ли не первейшей обязанностью пользоваться её, так сказать, полезностью, а она, казалось, была создана, если позволительно так выразиться, полезной вещью. Живёт себе такая полезная штучка, никому не мешает, никого не трогает да ещё обладает столькими полезностями, что чуть что, вот они – под рукой.
Помогала тётя Женя и маме. Такие люди, как мама, слабые, импульсивные, подверженные любому сквозняку жизненной неустроенности, нуждаются в добром сердце, иначе они завянут, зачахнут, испепелятся в собственном соку душевных колебаний и передряг. Тётя Женя приходила, садилась на тахту рядом с мамой, брала мамину руку в свои и, смотря ласковыми, участливыми глазами, слушала мамин бесконечный сумбур. Мама говорила, говорила, и ей становилось легче. Порой такие исцеляющие душевные излияния оканчивались резким потеплением климата внутри мамы, и две добрые соседушки закатывали пирушку – чай с пирогами с повидлом или булочками-завитушками. Для меня это всегда было праздником.
Между нами, тётей Женей и мной, выстроился мостик взаимной привязанности. Со стороны тёти Жени это проявлялось в практической заботе обо мне, так сказать, в повседневных мелких делах, которые по разным причинам выскальзывали из-под маминых рук. Мог ли я тогда глазами неоперившегося птенца за лесом этих бытовых мелочей, всегда начинавшихся ласковым "дружочек" в мой адрес, разглядеть боль и радость сиротского женского сердца? Ну а что же я? Храня мою любовь здесь, – рассказчик сердечным жестом показал, где он хранил свою любовь, – как и несколько других самых сокровенных сокровищ, я ничем не выдавал себя, кроме некоторой напускной, ненастоящей, театральной дерзости.
И вот тот день. День маминого дежурства. День папиного отсутствия (папа по обыкновению застрял в командировке). День, не выпрыгивающий из череды похожих друг на друга дней. И день, последний кусочек которого, дремотный вечер, готовил нечто такое, что не пробудило его самого, но что перевернуло, извратило, изнасиловало моё внутреннее существо на долгие месяцы и даже годы.
Я уже лежал в постели (а наутро должен был идти в школу), когда в комнату вошла тётя Женя, чтобы выполнить свои материнские обязанности. Она пошелестела на столе, за которым я делал уроки, дважды щёлкнула замком моего портфеля, поправила одёжку, небрежно брошенную мною на стул, недолго просто постояла, очевидно, для того, чтобы суета уступила место покою, и, перед тем как выключить торшер и уйти, подошла ко мне, чтобы поцеловать меня в лоб и оставить мне "спокойной ночи, дружочек". Ласково смотря на меня своими грустными карими глазами, тётя Женя склонилась надо мной. И в это мгновение... из-за розовых пионов на голубом (да, розовые пионы на голубом)... и в это мгновение из-под её халата (вероятно, наскоро запахнутого и теперь по-предательски не к месту распаковавшегося) выскочило существо. Нет-нет, я не оговорился и тем более не даю волю фантазии. В те мгновения я воспринял это как некое живое существо. Почему? Не скажу и теперь: не знаю... Обморочно-бледное, но живое, дышащее, с выпяченным, даже торчащим... рыльцем, причудливым, словно обескоженным кофейно-молочным рыльцем, одновременно пугающим и притягательным. Оно словно красовалось и бравировало выпяченностью своей натуры и завораживало, завораживало...
Предательство халата, кажется, не смутило тётю Женю. Она быстро спряталась под ним, чмокнула меня и, пожелав спокойной ночи, вышла.
Я, двенадцатилетний, конечно же, кое-что знал о том, что скрывается под женской одеждой. Но неожиданная встреча лицом к лицу с обнажённой женской грудью повергла меня в шок и парализовала какую-то часть моего сознания, породив взамен странного, а скорее, дикого мутанта, склеенного из обрывков мыслей, чувств и образов.
Сначала я долго не мог уснуть. Всякий раз как я закрывал глаза, ко мне из ниоткуда приходило обморочно-бледное существо. Я чувствовал его жизнь, ощущал его тепло, слышал его дыхание, улавливал его движение ко мне, его восприятие меня. И мною овладевал страх, и тогда я открывал глаза. Я лежал, видел предметы комнаты, но ничего толком не понимал. Я был отгорожен от этого как бы второго плана миром новой страсти, пленившей меня. Что-то снова заставляло меня закрывать глаза, и снова мы встречались, я и обморочно-бледное существо. Через какое-то время я уже не силился возвратиться в комнату, я остался в мире моих видений, один на один с ним. То непонятное, что удерживало меня там, было сильнее страха, ещё жившего во мне. C каждой минутой во мне нарастало какое-то желание, странное, ускользавшее от осознания, сложное, многоликое. Желание общения, какого-то другого, не языкового, может быть, вообще не знакового, но общения. Желание доставлять ему, этому существу, хорошее, приятное, благостное. Желание какой-то близости, какого-то единения. И ещё, и ещё...
Тогда, да и много позже, я, естественно, не пытался что-то определить, выразить словами. А в те минуты, часы я просто захлёбывался, задыхался этим кошмаром.
Моё желание выросло в жажду. Существо, как 6ы услышав меня, приблизилось ко мне и коснулось меня, сначала своим торчащим упругим рыльцем, а потом и всем своим телом, всей прохладной мякотью, всей плывущей на меня плотью. В это мгновение я не испытывал ничего, кроме какой-то гадости на себе и чувства гадливости в себе; мой живот, казалось, выворачивало наизнанку, как будто кто-то невидимый и гадкий хватал его ртом и втягивал в свою утробу. Но отвращение быстро, само собой, с новыми, более долгими, тесными, вязкими встречами уступило место сладкому, ненасытному чувству во всех членах. Живот вожделел прикосновений и блаженствовал от них, подёргиваясь, словно в припадке. Существо становилось тёплым, нежным и родным мне. Я обнимал его, прижимал к себе, ласкал, целовал и не хотел, чтобы это кончалось. Я любил его. Временами внезапно ко мне приходила мысль, что мы должны расстаться, и тогда я, прижимаясь и прижимаясь к нему все ближе и сильнее, отчаянно и горько плакал. И всё-таки оно исчезло. Я долго искал его, утопая в холодной, бездонной бесконечности и в собственных нескончаемых слезах. И, наверное, я бы умер от тоски, если бы не пробудился... в жару, в окружении мамы, тёти Жени и доктора.
Болезнь моя не ушла с выздоровлением тела. Порой возвращался ночной призрак, чтобы утолить неясное томление во мне. Но и его растворило время. Зато время лелеяло и взращивало другое ответвление болезни. Я не на шутку сторонился девочек и женщин. Я избегал разговоров с ними. Я боялся смотреть на них. Я прятался от них, в прямом смысле. Из-за них мне опостылела школа. Иногда я ненавидел их, хотя ненависть была вообще не свойственна моей натуре. Стыдно признаться, но однажды в школьном гардеробе (в раздевалке, как мы тогда говорили) я толкнул девочку, одноклассницу. Её звали Соня, Малей Соня. Мы снимали с крючков свои пальто, и она случайно коснулась ладонью моей руки. И я... почувствовал её ладонь, её девичью ладонь... В ней... была нежность, какая-то особая, непостижимая нежность. Пожалуй, выражусь иначе, и вы поймёте, о чём я. В её ладони было тепло... созревающей самки. В её ладони было всё её тело, всё её девичье, самочье тело. Это случилось вдруг, и что-то во мне возмутилось, разозлилось даже. И я пихнул её. Она упала, и тут я увидел её лицо, её губы, набухшие, поддавшиеся обиде. И мне захотелось поцеловать её... в эти размякшие губы. Я испугался этого, сорвал пальто и поспешил прочь.
Не знаю, странно это или вовсе нет, но лишь на двух лиц не распространялось моё, так сказать, преломлённое восприятие женщины: маму и тётю Женю. Не знаю я, и чем и где заканчиваются подобные истории. Меня исцелил... кто бы вы думали?.. Да-да, тётя Женя.
Стукнуло мне тогда семнадцать. Уж не ведаю, чья это была затея. Мама видела всё, я имею в виду мои странности, а, следовательно, в курсе была и тётя Женя.
Был вечер. Мамы не было дома. Папа слишком надолго задержался в очередной командировке и уже давно жил с другой женщиной. Я читал. К тому времени у меня выработалась привычка засыпать с книгой. A тётя Женя не оставила своей – заботиться о нас с мамой и просто быть доброй. Тётя Женя вошла, предуведомив меня о своём появлении стуком в дверь (ведь я уже вырос), осторожно придвинула стул к кровати и, молча посидев подле меня с минуту, сказала буквально следующее: "Дружочек, ты становишься мужчиной, и, чтобы всё было хорошо, разреши мне – я очень прошу тебя o6 этом – побыть сегодня твоей женщиной". Я промолчал, но не оттого, что согласие не требовало слов, – меня просто взяла оторопь, так не увязывались эти слова с моей, прошу прощения, неполноценностью.
Тётя Женя поднялась со стула и погасила свет. Что-то слышно порхнуло, обдавая меня дурманным ароматом жасмина, и тёплое женское тело оказалось рядом и задышало на меня своим особым, возбуждающим духом. Отвечая на этот зов, каждая клеточка моей плоти задрожала, вернувшись своей плотской памятью на пять лет назад. "Обними меня", – прошептали её губы близко-близко. Мои руки, позабыв девственный стыд, подчинились её команде. "Поцелуй"... Я безотчётно упивался. Секунды. Вдруг там, внизу, под животом, я ощутил какой-то перевёртыш, что-то переходящее из мучительного в сладостное и наоборот. Сознание поплыло. Я откинулся на подушку. "Всё хорошо. Так и должно быть, – пробудил меня родной голос. – Отдохни"...
Через полчаса было блаженство, которого я никогда не забуду. Перед тем как забыться, я прошептал то, о чём мечтал всегда: "Женечка!""
В купе воцарилось молчание. Оно по праву заняло место после точки, поставленной рассказчиком и размноженной стуком колёс до монотонного многоточия. Оно будет длиться до конца пути и оборвётся лишь с последним непререкаемым чугунным тычком.
По обоюдному молчаливому согласию сторон пространство, вдохнувшее воздух коммуналки, позволило остаться ещё одному молчаливому попутчику, точнее, попутчице. На ней был голубой халат, облюбованный розовыми пионами, разинувшими в изумлении от услышанного свои рты, рты, рты...
История четвёртая
Другая
Космос радовался и тревожился. Он впитывал ещё одну мелодию любви. И, очаровываясь ею, делился своим восторгом с теми, кто провожает падающие в ночи звёзды. И, волнуя эфир тысячекратным эхом, дарил им эту мелодию, одну из миллионов, блуждающих в бесконечности.
Космос радовался и тревожился. Он улавливал историю любви, доносившуюся с планеты Земля, из сиротливого северного городка, из окна крошечной пятиэтажки, потерявшейся среди подобных ей.
– Лидочка. Лилия моя. Мне так хорошо с тобой... Отпускаю тебя до завтра.
– До послезавтра. Пора. Пойду.
Дверь за Лидой закрылась, и она осталась одна. И ступеньки повели её вниз... Что с твоим лицом, Лидочка? Что с твоими глазами, лилия? Неужели виноваты эти тусклые стены и эта серая лестница? Неужели это они обесцветили твои нежно-небесные глаза и затуманили мраком ласковый румянец твоих щёк?
Вот чьи-то шаги внизу. Они поднимаются. Ты напугана? Ты смущена? Шаги... выше... выше... Смешались с твоими. Оторвались. Отдалились. И умолкли, прихлопнутые какой-то дверью. A ты? Лида остановилась и осмотрела себя, будто желая найти и стряхнуть с себя, нет, со своего тела, со своего нагого тела, тень от этого прилипчивого взгляда, пронесённого этими шумными шагами. Для чего придуманы тени от взглядов? Чтобы выковыривать плевок из слов, вонь из воздуха, блядь из чулок, дырку из сущего?.. Сейчас ты выскочишь на улицу. И эта чужая улица встретит тебя множеством таких же взглядов и оставит на твоём нагом теле множество таких же теней. Чуждые взгляды. Чуждые тени. Но разве может приветливая летняя улица...
Лида почти бежала, пряча глаза от встречных прохожих. Она торопилась. И мысли её торопились, перегоняя друг друга, спотыкаясь, сталкиваясь, путаясь...
Наконец , она перед дверью своей квартиры. Тебе легче, Лидочка? Твой дом – твоя крепость? Да?.. Нет?.. Да... Нет... Слетело платьице с её дрожащих плеч, пахнущее тёплым дыханием лета. Слетело бельё с её съёжившегося тела, дышащее свиданием с Лерой. Лидочка, какая ты красивая голая... словно лилия, обласканная небом. Лилия, какая ты жалкая голая... словно грех, прячущийся от глаз неба.
Лида спрятала своё тело в халат, достала из гардероба сумку, скомкала сброшенное с себя одеяние, впихнула в неё и схоронила в глубине полированного склепа. Твой дом – твоя крепость? Да?.. Нет?.. Лида поспешила на кухню – сейчас придёт Коля, надо согреть обед. A ещё надо... быть той Лидой, какой была месяц назад. Ты порываешься разрыдаться? Нельзя! Нельзя! Сейчас... А вот и он.
Коля ел свой "суп в сапогах", а она смотрела на мужа и притворялась, что не рыдает. Коля что-то рассказывал, а она слушала и притворялась, что слышит. А потом он поцеловал её в щёку... и ушёл. А она осталась. И его поцелуй остался на её щеке.
Лида подошла к зеркалу. Коснулась пальцами щеки, там, где этот поцелуй. Какой он горячий! Как он обжигает! Как больно! Больно! Какая боль в твоих глазах! Ах, Лидочка! Ах, лилия! А как хорошо было ещё месяц назад! Там были вы – ты и Коля. Там были ваши друзья. Ирочка...
"Ирочка!" Лида побежала в комнату, взяла бумагу, ручку, села за стол, обхватила руками голову и заплакала.
"Ирочка моя, дорогая моя, здравствуй!"
Строчки и слёзы, упакованные в конверт, машинально проглотил железный почтовый служака, а Лида поплелась домой, странно покачиваясь, отрешённая, безразличная к каким-то там взглядам, к каким-то там теням.
– Лидочка, с тобой всё в порядке? – пробудил её голос соседки.
– Антонина Ивановна?! – почему-то удивилась Лида.
– B город со мной не хочешь?
Почему-то не ответившая Лида зашла к себе. Она даже не заметила, что не захлопнула дверь. Хотела переобуться и только теперь увидела, что выходила на улицу в стареньких, с плешинами, тапках и домашнем халате.
Грустно. И смешно. Она содрогнулась в усмешке, выпрыгнувшей из её груди, а та, почувствовав волю над ослабленным человечком, вытащила за собой истерический, судорожный смех. Он колотил Лиду что есть мочи несколько минут, пока не вырвал из неё молящие о прощении рыдания.
Рыдающий смех. Горькие слёзы. Дверь, оставшаяся открытой. Дверь... Может быть, так и надо? Может, так угодно судьбе? Не всё же во власти твоего пьяного рассудка! Не всё же вершить твоим пьяным рукам!
Спёрло дыхание. Ссохлось во рту. Пить! Дрожавшей рукой Лида подняла графин со стола. A он выскользнул из её ослабевшей потной ладони, чтобы упасть и... умереть. "Смерть! Рядом ходит смерть!" – почему-то промелькнуло в её истерзанном сознании. Лида упала на колени и принялась собирать осколки. "Кто подарил нам этот графин? Наш с Колей графин..." И принялась ронять слёзы, разбивающиеся об их с Колей осколки.
"Откуда взялась кровь? Это смерть. Это она подкараулила меня и порезала своей косой". Ополоумевшая Лида шла из кухни в ванную, глядя на кого-то перед собой. Почему в твоих глазах тьма, Лидочка? Почему в твоей руке окровавленное стекло? Опомнись! Лида вцепилась своими стеклянными глазами в зеркальное полотно. Оттуда смотрел на неё чуждый, ненавистный ей лик порочного существа. "Это ты во всём виновата! Я буду истязать тебя. Я избавлюсь от тебя". Она провела осколком по лицу порочной женщины. И вскрикнула от боли и вида алого мазка. "Ну и пусть!" Ещё мазок, превращавший бледное лицо в страшную маску. Лида содрала с себя забрызганную кровью материю, чтобы окровавить развратное тело. Надрывные порезы истощали её плоть. Фонтан, ударивший из руки, на мгновение прояснил её ум. Она зачем-то ринулась в коридор, но её сильно шатнуло и бросило на пол. Домучив на четвереньках долгий путь до комнаты, она как-то вскарабкалась верхней своей половиной на стол, чтобы оставить Коле на прощание несколько слов: " Коля, прости. Ирочка знает всё".
И всё? Дальше – пустота? A дверь, рукой судьбы оставленная приоткрытой?..
Антонина Ивановна толкнула её, заподозрив что-то неладное. Промчалась сирена, разбудив сонное марево города. Примчался Коля, оглушённый голосом телефона.
"Коля, прости, – сдавили голову слова из бездонной пропасти. – Ирочка знает всё". Только ахнул и онемел в ответ далёкий голос Ирочки. Нет, она ещё ничего не знала. Нет, неизвестность будет изводить его бесконечные часы, дни и ночи. A потом её место займёт известность. "Коля, прости..." Господи, прости! И помоги!
Колю встретило молчание друзей. И Лидочкино письмо. Оно пришло в день его приезда. Ира и Олег оставили его одного... с Лидой. Она сама дала ему это право.
* * *
"Ирочка моя, дорогая моя, здравствуй!
Прости за 27 дней молчания, а с учётом нашей скверной почты, наверно, за месяц с лишним. Такое чувство, что уже целую вечность не сплетничали по телефону, не бегали друг к другу похвастать новыми тряпками, не судачили по поводу и без повода на кухне. Казалось бы, какие это всё повседневные бабьи пустяки. A как мне теперь недостаёт этого лакомого кусочка! Этих милых бабьих отдушин! А помнишь последнюю вечеринку у Олечки с Андрюшей? Все уже знали, что Коля получил новое назначение и мы скоро уедем, и были такими сердечными. Ирочка, родничок мой, спасибо вам с Олегом, передай привет и спасибо Азаровым и Олечке с Андрюшей. Поцелуй за меня их Kостика. Он просто чудо, весь в Олечку. Миленькая моя, как мне всех вас не хватает! Особенно тебя.
Жизнь наша здесь понемногу упорядочивается. Коля с утра до вечера служит. Редко забегает домой пообедать, он любит домашнее первое. Ты знаешь, готовка – мой конёк. Я с ним шучу: суп в сапогах. Он ведь, бедный, так спешит, что и сапог не снимает. Колю ценят. Квартиру выделили хорошую, в наше-то время. Ремонта большого не требуется: прежние жильцы, врач полковой с женой, аккуратными были. Только в коридоре их собака немножко обои ободрала, но это ничего: зеркало поставили, и не видно. Я, можно сказать, на всё готовенькое приехала. Мебель Коля сам расставил, а занести солдатики помогли.
Из соседей познакомилась пока только с Антониной Ивановной, медсестрой из госпиталя. Женщина простая и добрая. Кое в чём советует, особенно по покупкам в городе, Городишко маленький, грязный, дымит чернотой. Странно как-то разбросан. В общем, я в нём пока не освоилась. Хорошо, Антонина Ивановна под рукой. Но она мне какая подруга: почти пенсионерка.
Пока... Хотела сказать: пока всё складывается неплохо. А сама плачу. Пишу и плачу. Потому что – дрянь. Потому что – лгу. Лгу, Ирочка. Лгу, потому что не говорю правды. Потому что пишу не то, чем болею. Я ведь болею, Ирочка.
Как бы я хотела вернуть недалёкое прошлое, тебя, Олега, всех-всех вас, без этого назначения, без Колиного отъезда без меня, без моего отъезда без Коли. Без этого гадкого пустого вагона. Без рокового купе.
Вот видишь, мой родничок, я уже не лгу. Сейчас выпью рюмочку и всё расскажу. Всё-всё-всё, до капельки.
Я дрянь, выродок. Боже мой! Сейчас начну. Только с силами соберусь. Может быть, ещё рюмочку, ты поймёшь, ты самая добрая. Нет, я обманываюсь. Ты не поймёшь и не будешь доброй. Никто не поймёт. И не надо. И правильно. Но всё равно выговорюсь, потому что больше не могу. Только пусть этого никто не узнает.
B B-у приехала за три часа до отправления поезда. С билетами, не поверишь, свободно, нигде такого не видела. Купила нехитрую булочку на вокзале и пакетик молока. Съела всё с аппетитом. Господи! Слёзы не дают писать. Нет, Ирочка, Господь меня теперь не простит.
Немного отдышалась. Поедем дальше. Я, кажется, чуточку опьянела.
Съела булочку, посидела в скверике. Время плелось, будто остановилось. И ещё это пекло... Ну ладно. Её я заметила издалека, у входа в скверик. Хорошенькая такая... Какое слово выскочило. Банальность, протёртая до дыр. Это я от тебя прячусь. Мы с тобой хорошенькие, а она... в неё просто нельзя не влюбиться! Вот, Ирочка, и вся моя правда. И слов не надо 6ы никаких. Залапают слова, и запачкают, и задушат. Видишь, Ирочка, какая я стала. Что же ты молчишь? Обругай меня, обзови последними словами, обзови сучкой несдержанной. Ну что же ты молчишь?! Ведь подумала уже, что я такая. Ведь я выродок! Выродок и дрянь!
Ирочка, думай обо мне, что хочешь. Только дай выговориться. Мне очень нужно кому-то всё рассказать, а кому, если не тебе?
Ничего этого я не хотела. Никогда ни о чём таком не думала. Ты сама знаешь. И там, в скверике, ничего ведь не было. Ну, понравился человек. Ну, улыбнулись друг другу. Может же красивая женщина понравиться другой женщине. Красивые, они всем нравятся. Правда? Правда?
Как хорошо стало, когда что-то гулко загрохотало где-то рядом, толкнуло, и за окнами поплыло, медленно, как 6ы нехотя. Какое-то облегчение и радость свалились откуда-то. Моё детское впечатление. Начало чего-то того, чего ждёшь. Поезд тронулся, томительность зала ожидания осталась в скверике, и началось приближение встречи с Колей, с новым местом, с новой жизнью.
A через пять минут пути что-то переменилось, стало не так уютно, подкралось ощущение какой-то тревоги. Может, оттого, что в купе я одна, а путь долгий. Решила выйти в коридор. Дверь открыла и опешила – а ведь было, было какое-то предчувствие – на меня смотрели её глаза: "Здравствуйте. Значит, мы с вами попутчицы?" Голос мягкий, приятный, будто он бережно притрагивается к тебе, к твоей душе. Она вошла и присела, а я осталась стоять в открытых дверях, сама не знаю почему. Стою и волнуюсь, как девочка. Она, верно, заметила это и предложила мне сесть: "Что же вы стоите? Садитесь, и будем знакомиться". Это было как-то особенно, хотя слова самые обыкновенные. "Лера", – сказала она. А я не поняла и спрашиваю: "Что вы сказали?" И это получилось как-то совсем нелепо, она ведь имя своё назвала. Видишь, Ирочка, как я ополоумела. Потом знакомились, долго разговаривали, пили чай. Про себя я радовалась, что до конца пути, а это двое суток, с попутчицей, не одна. Нет, неправильно. Радовалась, была счастлива, что еду именно с ней, с Лерой. A почему "про себя"? Очень хотелось признаться в этом ей. Но не осмелилась. Вот то чувство, с которым я провела двое суток – не осмелилась. Не осмелилась сказать, не осмелилась противиться, не осмелилась сдержаться. Но не осмелилась не в каком-то дурном смысле, нет. Просто испытывала какой-то трепет, боялась что-то разрушить. Вот и до6оялась.
Хорошая дорога, когда времени не замечаешь. И мы с Лерой заболтались, проглядев, как к нам подкралась третья попутчица, ноченька, молчаливая и коварная. Решили ложиться спать, а она, наверно, только усмехнулась.
Ирочка, родничок мой, как я теперь волнуюсь! Аж руки трясутся. Я не хочу, говорю им, чтобы перестали, а они не слушаются. Видишь, буквы пляшут.
Как это случилось?.. Лера, совершенно не смущаясь, разделась... догола разделась, но не легла сразу. Сидя напротив меня в таком не дорожном виде, она принялась... она принялась будить свои груди прикосновениями рук. Я ощутила какую-то неловкость, за себя, вернее, от своего присутствия, оттого что я смотрю. И в то же время я смотрела и любовалась её красотой. Ещё я чувствовала её взгляд на себе. И, чтобы куда-то девать себя, чтобы наступило что-то другое, я сказала Лере, что она очень красивая. Лера встала, наклонилась надо мной и стала говорить: " Ну-ка, поднимайся. Снимай платье". Я подчинилась. Мне почему-то захотелось подчиниться. "Смотри, какая ты красивая!" Она говорила и сама раздевала меня. А я подчинялась. "Смотри, какие у тебя плечи. Какая у тебя грудь". Она говорила и касалась своими руками моего тела. И мне было хорошо. Во мне словно проснулось какое-то волнение.
Знаешь, я вспоминаю, чувством вспоминаю, что уже испытывала такое волнение, такую телесную радость, когда была девушкой, когда мы с мамой мылись в бане и помогали друг другу. Помню её ласковые, любящие руки на своём теле и какое-то приятное возбуждение в нём от этих прикосновений. В те дни, вечерами, когда я ложилась спать, во мне продолжало жить это новое дыхание. Разве могла я тогда подумать?..
B купе, с Лерой, я потеряла контроль над собой. Ирочка, я потеряла рассудок. Она не только трогала меня руками, но стала целовать меня, и уже в эти мгновения я почувствовала приближение необычайного удовольствия, отказаться от которого было не в моих силах. И я отрешилась от всего другого, от прошлого, от будущего, от последствий. Просто я жила этой минутой и не могла ею не жить. Потому что она была совсем новой, совсем другой. Потому что она отличалась ото всех остальных минут. Потому что другие минуты в какой-то степени принадлежали мне, а этой – принадлежала я. Впервые я наслаждалась тем, что с меня снимают бельё, обнажая всё... всю меня. Впервые было всё. Я хочу сказать, что такого сильного, настоящего, такого безрассудного, без капельки разума, такого плотского у меня не было никогда. Ирочка, у меня не было такого с Колей! Понимаешь? A с Лерой... Лера научила меня плотской любви. С Лерой я узнала... предел. И теперь я в плену у этой страсти и ничего не могу поделать с собой. Всё. Всё, Ирочка. Теперь ты ненавидишь меня.
Утром я пробудилась от гвалта, носившегося по перрону. И сразу всё вспомнила. Что было. И что будет мой перрон. И как я тогда? И стало страшно. И я ещё долго пряталась под одеялом. От пространства за спиной, пронизанного вчерашним сном наяву. От жизни, так громко и гадко бормочущей и топочущей за стенкой вагона. От жизни, врывающейся в купе вместе с утренним солнцем. От Леры. Когда я начинала думать о Лере, я не могла чувствовать и думать плохо, я чего-то боялась. Сейчас мне кажется, что я боялась потерять её. Когда вагон снова поплыл, я услышала, как кто-то вошёл и присел возле меня. Я ощутила её руку на голове, и во мне что-то прорвалось. Я бросилась к ней на грудь и разрыдалась как девчонка.
Ирочка, я люблю её. Я часто бываю у неё. Но я люблю и Колю. Я так жалею его. Он ничего не знает. Это так мучительно. Что же делать, Ирочка?
Ирочка, родничок мой, спасибо, что выслушала меня, я знаю, ты выслушала. Спасибо за всё. Я прощаюсь и прошу прощения.
C любовью ко всем вам, Лида".
* * *
Коля отбросил письмо. Прочь! Прочь! Прочь – ей! Прочь отсюда! Его душа отринула прощение. Он отверг человека, написавшего эти строчки. Он отказался от Лиды.
– Коля, куда же ты?
A он и сам не знал, куда он теперь. Ему хотелось одного – отвергнуть себя. Лидиного. Любящего.
Куда?.. Какая-то детская привычка, вдруг пробудившаяся от долгого летаргического сна и не ведавшая о течении времени, привела его на трамвайную остановку, затащила в вагончик и приткнула к окну, которое через мгновение превратится в экран. И побегут кадры. И трамвай со своим кино унесёт мальчика от его печалей и обид...
Коля прильнул к стеклу, запылённому и треснутому. И закрыл глаза, чтобы спрятаться от соблазна выбить его вместе с этой дразнящей раной. Мгла в одно мгновение слизала явь, оставив ему лишь её сизые следы. Ещё мгновение, и сизый след налился кровью – это сквозь мглу просочилась жизнь... в виде знака жизни, изымающего жизнь из жизни, в виде кровавой раны, которая стала расти и шириться. Из глубины её вышла Лида, с письмом в руке. Она стала читать. Для него. Её губы беззвучно шевелились. Но Коля всё понимал. Это были те самые слова. Слова, заставляющие его то захлёбываться от слёз жалости, то задыхаться от ненависти, то цепенеть от безысходности... Лида простёрла к нему руки: "Коля, прости". Он не мог больше выносить свидания с Лидой. Он не мог больше терпеть муку непрощения...
Ночь поглотила Колю. Он плёлся по улицам. По какой-то инерции. Промокший и жалкий. Насквозь пронизываемый Лидиными словами и ледяными струями. И поглощаемый сумасшествием.
Неожиданно Коля остановился: перед ним за сеткой дождя выросла груда лохмотьев. Поверх неё выплыло подобие человеческого лица. Лохматое и уродливое. "Что-то знают эти глаза, – почудилось Коле. – Всё знают". Лохмотья подпрыгнули, забегали и заплясали вокруг него. Туловище, конечности и язык пустились в непристойную пантомиму. Они выковыривали... плевок из слов, вонь из воздуха, блядь из чулок, дырку из сущего. Коля, сжав кулаки, бросился на бродягу. Водяные струны лопались и взрывались под его ударами. Не удержавшись на ногах, он провалился в пустоту... Наглый хохот случайных зрителей, молодых, весёлых и довольных, отрезвил его. Он поднялся из лужи. Подставил лицо дождю. И ушёл за дождевые кулисы...








