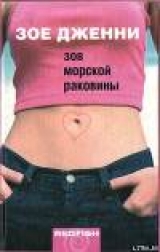
Текст книги "Комната из цветочной пыльцы"
Автор книги: Зое Дженни
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
– И ты, значит, хочешь играть на Пасху Иисуса и думаешь, что тебя пронесут на кресте через всю деревню? Ведь это твоя заветная мечта, Пальмизано? Так вот, я клянусь тебе, что такому грязному ничтожеству, как тебе, никогда не разрешат даже на один денек сыграть Иисуса! Ты понял? Никогда в жизни!
Судорога проходит по его телу. Глаза расширяются и бессмысленно таращатся, рот не хочет закрываться. Маленькая черная дыра под носом. Чересчур длинные руки свисают вдоль туловища как вырванное с корнем растение. Некоторое время мы стоим друг против друга. Боль дернулась в его глазах, превратившихся в две огромные черные шайбы, уже не различающие меня и лишь, как мне кажется, отражающие меня словно в зеркале.
Когда я бегу мимо церкви, то чуть не наступаю на кошку, которая лежит на коврике у лестницы. Она с шипением вскакивает и бежит за мной. Ее раздувшийся и готовый лопнуть беременный живот при каждом шаге болтается из стороны в сторону. Она сворачивает вместе со мной в улочку и исчезает в дырке подвальной стены.
Спальный мешок – это длинная темная трубка, в которую я заползаю. Через щели в стене в дом забралась зима. В трубке абсолютно темно, и я слышу, как стучит кровь в ушах. Внутри этого стука и дыхания, согревающего воздух в трубке и образующего кокон, я хочу заснуть и больше не проснуться.
Этой ночью во сне кружит тихая, но непрекращающаяся метель. Появляется кошка, она рожает котят в холодном подвале. На них тоже падает снег и накрывает их. Затем частые, быстро приближающиеся шаги. За клубами снега, из которых сотканы снежные полотна, не видно ничего, мне слышен лишь скрип сапог, принадлежащих невидимому, но явно опасному обладателю. На следующее утро ночная рубашка Люси прилипает к моему потному телу. Я встаю, иду в сад. Босые ноги оставляют на холодном каменном полу светлые следы, которые моментально исчезают. Земля в саду растрескалась. Ствол инжира торчит из жесткой земли нелепым хвощом. С него свисают скукожившиеся плоды. Цветы все до единого пожухли. В воздухе пахнет снегом. В комнате из цветочной пыльцы все та же простыня, на которой лежала Люси. Я помню запах, который царил здесь, но теперь холод выжил из дома все запахи. И даже Алоис больше не пялится из стен. Стены дома стали гладкими и влажными. Дом опять стал таким, каким он был до того, как в него въехали Алоис и Люси. Ничто больше не напоминает о них. Кажется даже, что цветочная пыльца, желтым ковром покрывающая пол, вовсе не была когда-то принесена в ладонях Люси, а налетела сюда сама через открытое окно, в течение долгих лет. Такое впечатление, что вокруг этой комнаты ничего нет – ни домов, ни других комнат и людей, которые в них живут. Дом и сад застыли в холодном воздухе, ожидая первого снега.
Автобус едет вниз по холму, но это не похоже на прощание. Я не заперла двери дома. Может, зимой туда придут дикие кошки. Они будут сидеть в моей кровати, клубки теплого живого меха, а на улице будет бесноваться зима. Продукты, оставшиеся в холодильнике, я поставила на стол. Но некоторые кошки все равно умрут от голода. Вокзал такой маленький, что почти все поезда проезжают мимо. В ожидании поезда я хожу взад-вперед по платформе. Торговый центр на другой стороне закрыт. На площади ни души. Торговый центр, почти не заметный, как и всё вокруг, окутан серым светом. Только рабочие, копающие улицу перед вокзалом, светятся в своих оранжевых жилетах. Чуть дальше улица перекрыта. Полицейские пытаются направить в объезд нетерпеливо напирающие машины, которые подъезжают вплотную к ограждению и тыкаются в него своими бамперами, будто обнюхивают его, не желая верить, что им не удастся проехать. Чуть подальше, на другой стороне улицы, есть кафе. В окнах видны силуэты посетителей, читающих газету. Такое впечатление, что они не замечают этот транспортный хаос. Я завидую таким людям, которые входят в кафе, заказывают кофе, закидывают ногу за ногу и перелистывают газету. И даже не удосуживаются взглянуть через витрину на улицу, словно ее не существует и она не имеет никакого значения. Между мной и кафе пролегла стройплощадка. Чтобы попасть на другую сторону, мне пришлось бы дойти до самого конца улицы. Но у меня не так много времени до отхода поезда. Какой-то рабочий разгребает камни. Это Лучано, – как и другие, он втиснут в эти оранжевые жилеты. Его лоб лоснится от пота. Я зову его и машу ему на прощание. Но как громко я ни кричу, он не поднимает голову. Громыхание скатывающихся камней мне не перекричать. Вдруг Лучано замирает, откидывает лопату и садится на один из камней. Остекленевшим взглядом он смотрит перед собой, руки сложены на коленях – маленький загнанный зверек, который слишком изнурен, чтобы искать себе норку.
Поезд, на который я поднимаюсь, серебристо-белый, у него вытянутая узкая мордочка. В шестиместном купе в середине есть свободное место. Зажатая между двух пассажиров, положивших на подлокотники руки, я удивляюсь, что сижу вплотную с двумя совершенно посторонними людьми. Все пассажиры в купе что-то читают, а поскольку у меня с собой нет ничего, чем можно было бы забаррикадироваться от всех, я слегка наклоняюсь вперед, чтобы посмотреть в окно. Воздух снаружи не проникает в купе, стук колес не слышен. Даже когда мимо проезжает поезд, не чувствуется ни малейшего колебания. В этом вакууме на рельсах мы подъезжаем к границе. В двери появляется женщина, ее дородная фигура водворяется перед нами, чтобы проверить паспорта. Взгляд хищно скользит по головам, он ощущается почти физически, хотя никто не смотрит ей в лицо. Как по команде, все опускают газеты и книги, раздается лишь суетливое шебуршанье в сумках и карманах курток. Будто каждый почувствовал себя заподозренным этой женщиной в совершении какого-то тяжкого преступления. Девушка, сидящая напротив, наклоняется к сумке, отчего живот нависает над слишком туго затянутым ремнем. Она делает вид, что всё в порядке, но подергивание уголков губ выдает ее замешательство. Едва дверь купе закрылась, пассажиры уже снова отгородились книгами и газетами. У меня не выходит из головы появление таможенницы, и я боюсь, как бы она не вернулась и не вышвырнула меня из поезда. Бывает же такое, что людей несправедливо сажают в тюрьму, потому что путают с кем-то другим. Девушка с туго затянутым ремнем читает журнал «Лиза». Женщина с обложки улыбается мне. Кажется, что она шепчет: «Почему именно тебя должны перепутать и посадить в тюрьму? Не смеши меня. В поезде так много людей. А ты умираешь от страха. Не решаешься даже положить руки на подлокотники. Причем совершенно напрасно. У каждого есть право на подлокотники. Понимаешь, у каждого». Девушка устало захлопывает журнал. Теперь он лежит у нее на коленях. Мне непонятно, как можно спать, когда напротив сидит человек и разглядывает тебя. Девушка устраивается на сиденье поудобнее, она полулежит в нем, словно укутанная в вату. Она приняла такую уютную позу, что ее вид бросает мне вызов. Я хочу, чтобы ей приснился страшный сон, от которого она проснется с криками. С такими громкими криками, что люди подпрыгнут на своих сиденьях и примутся говорить сочувственные слова. Кто-то даже выйдет за водой. Девушке будет страшно неудобно, она станет извиняться, нервно поправлять волосы и в отчаянии искать в сумке пудреницу. И среди всего этого я буду сидеть, с дружеским пониманием смотреть на нее и, будто это самая естественная вещь в мире, положу оба локтя на подлокотники. Я где-то читала, что можно воздействовать на других людей, если всю свою энергию сконцентрировать на какой-то мысли. Сон девушки мне представляется неким цветочным горшком, в который я рассаживаю сновидения, они тянутся вверх и буйно разрастаются в разные стороны, заполняя собой все воздушное пространство ее спокойного сна, и начинают душить его своими ветвями. Но веки девушки даже не дрогнули.
В зале вокзала я ищу отцовское письмо с номером телефона. Я долго роюсь в чемодане, а люди вокруг меня несутся к поездам. Рядом собралась группа школьников, они отправляются в поездку по случаю окончания школы. Они выкрикивают обрывки каких-то фраз, хотя стоят тесным кружком и могли бы общаться шепотом. Какой-то мальчик раздает шоколад. Остальные жадно проглатывают его, воровато озираясь, и вдруг, будто охваченные внезапной паникой, вливаются в человеческий поток и несутся к поезду.
Люди здесь такие же, как в городе, из которого я сегодня уехала. В их голосах все тот же шум, и, может быть, Реа была права, когда говорила, что и в Милуоки то же самое.
Я ожидала услышать голос отца, но к телефону подошла Анна и сонным голосом сообщила, что отец не может со мной поговорить, потому что он простудился и лежит в постели. Но она сейчас же приедет и встретит меня. Через четверть часа я сажусь в просторную темно-зеленую машину. Настоящий семейный фургончик, в котором хорошо ездить в отпуск. У руля возвышается округлый живот, что меня сильно удивляет, потому что Анна в моей памяти осталась стройной и худощавой. Я то и дело смотрю на ее живот, и проходит довольно много времени, прежде чем я понимаю, что она беременна.
– О господи, ты же… – пораженно произношу я, но она с улыбкой проводит рукой по животу.
– Да, ведь ты еще не знаешь, я на седьмом месяце.
Первое, что я вижу, когда вхожу в дом, это детская коляска, она стоит в прихожей, готовая принять малыша и катать его. Анна ведет меня на верхний этаж в комнату отца. Его голова повернута к окну. Пахнет настоем из трав и свежим бельем. На его ночном столике стоит бутылочка с микстурой от кашля. Рядом заметен клейкий след ложки. В комнате очень тепло. Глаза отца блестят от высокой температуры. Его кожа высохла и как-то шелушится. Рядом с кроватью похрипывает увлажнитель воздуха.
– Я надеялся, что ты скоро приедешь. Не хотел писать тебе об этом в письме. Наверное, будет девочка, вчера делали УЗИ, врач сказал, что она совершенно здорова.
Пока он говорит о том, что я могу остаться у них и Анна поможет мне найти работу, я оглядываю комнату в поисках сигаретных окурков, которые раньше, как маленькие солдатики, выстраивались в ряд вдоль края стола. Меня тревожит то, что их нет. Тревожит больше, чем ребенок, чем непривычно мягкое выражение на лице моего отца. Больше, чем пятна на его руках, которые я вижу впервые, и больше, чем увлажнитель воздуха со своим изводящим непрекращающимся хрипом.
– Ты не куришь?
Этот вопрос приводит отца в такое замешательство, что какое-то время он ничего не может произнести и только снисходительно улыбается. Мои ногти с силой впиваются в ладони, чтобы не вцепиться ему в лицо. Без стука входит Анна и приносит термометр.
Паулин живет в подвале. Она говорит, что должна была освободить комнату наверху, потому что теперь им понадобится больше места для ребенка. Вместе мы перетаскиваем с чердака матрас и кладем его рядом с кроватью. Паулин носит мужские рубашки и черные носки. Она показывает мне фотографию своего друга. Он стоит на поле в четырехцветном камуфляже, с автоматом наперевес. Скулы напряжены, он застыл в полной готовности нажать на курок. С гордостью Паулин поведала мне, что он в армии и недавно получил чин офицера. В следующие выходные они вместе поедут в горы и примут участие в специальном тренинге на выживание. Я поинтересовалась, продолжает ли она играть на пианино, но она лишь пренебрежительно морщит нос и начинает ругать Анну и моего отца. Они, мол, наконец-то получили то, на что могут направить всю свою энергию. С ней этот номер не прошел. Я не понимаю, что она имеет в виду, но не спрашиваю. В углу комнаты стоит аквариум. Две рыбки, отделенные друг от друга стеклянной заслонкой, синхронно плавают туда-сюда. Скрестив на груди руки, Паулин подходит к аквариуму.
– Знаешь, что произойдет, если поднять заслонку? – спрашивает она и ехидно усмехается.
Я качаю головой.
– Они сожрут друг друга. Сначала убьют друг друга, а потом пожрут. Они только того и ждут, чтобы подняли заслонку.
Когда я потом спрашиваю, зачем ей вдруг понадобился этот тренинг на выживание, она смотрит на меня с недоумением: наверное, я задала самый тупой вопрос, какой она когда-либо слышала. Во время ужина Анна и отец перешептываются, как заговорщики. Паулин заглатывает еду и затем молча встает из-за стола. Я вынуждена постоянно смотреть на живот Анны, на эту горку, которую она двигает перед собой, но не как грузный, обременяющий предмет, а как легкий надутый шар, который делает ее саму легче и позволяет ей входить в закрытые двери без стука.
В комнате темно. Только аквариум подсвечен, и рыбы беспокойно плавают в нем взад-вперед; кажется, будто они смотрят друг другу в глаза. Голубые остро срезанные плавники тревожно колышутся, поблескивая в воде будто металлические. Рыбы без устали плавают вдоль заслонки туда-сюда, и я спрашиваю Паулин, когда эти проклятые рыбы наконец угомонятся. Паулин высится на кровати рядом с моим матрасом, она отвернулась к стене и не отзывается. Она спит или, может, просто плачет в стенку. В этом доме стены такие тонкие, что, кажется, можно услышать, как в животе у Анны растет ребенок. Ее живот слегка пульсирует под охраной стен, будто только для того и построенных. Живот, непрестанно растущий, заполняющий и вытесняющий всё на свете, даже отцовские окурки. Вдруг мне приходит в голову, что отец ничего не спросил о Люси. Он вообще ни о чем не спросил. Если бы и спросил, я бы не нашлась, что ответить, – в моей памяти лицо Люси сродни стертому пятну, общение с которым невозможно. Но ее туфли у меня в чемодане. Голубые детские туфельки, купленные для меня лет десять назад да так и не отправленные мне. Не знаю, что может вызывать у меня большее отвращение, чем эти туфли. Тихо складываю я свою походную кровать. Туфли кладу на кухонный стол с запиской: «Для нее». В прихожей, уже дойдя до детской коляски, я возвращаюсь назад. Все происходит мгновенно, когда я, не глядя в аквариум, вытаскиваю заслонку.
Рано на рассвете я выхожу из дома. Машин еще нет, и я иду посередине улицы, как раз по белой линии, разделяющей дорогу на две полосы; иду по белой линии навстречу городу, словно ведомая нитью, которая медленно, шаг за шагом, обвивается вокруг меня. Издалека я вижу огонек на фабричной трубе. Маяк мигает каждые две секунды в незыблемом ритме. Где-то там, на самом верху многоэтажки, должна быть комната, в которой люди остаются наедине с собой, под защитой стен, с которых по каплям стекает шум. Через окно комнаты я бы смотрела на небо, а открыв окна и выглянув вниз, увидела бы город, игрушечный и безобидный. На окраине между новостройками разбит парк. Черные птицы застыли на голых ветвях. Падает первый снег. Две пожилые женщины неподвижно, как манекены, сидят на скамейке, прислонившись друг к другу. Со стороны кажется, что им тепло, а я уже так долго на холоде, что успела забыть о нем. Я присаживаюсь на соседнюю скамью, они смотрят на меня, во взгляде явное недружелюбие. Я знаю, что мешаю им. Но все равно мне хочется остаться здесь. Я не скажу им, что просто хочу смотреть, как падает снег. Снег, который не остается на земле толстым слоем, а тает, и поэтому я все время жду новую снежинку, жду этот непродолжительный миг, когда она появляется и еще не успевает растаять. И вместе с этими женщинами я буду ждать снежную пелену на земле. Покрывало из снега.








