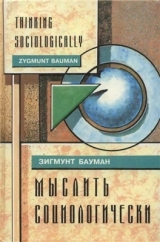
Текст книги "Мыслить социологически"
Автор книги: Зигмунт Бауман
Жанр:
Обществознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Или это только так кажется. Если сами неоплемена и не заботятся об охране входа, то есть некто, кто это делает, – рынок. Неоплемена по сути своей являются стилями жизни, а стили жизни, как мы с вами видели, почти всецело сводятся к стилям потребления. Доступ к потреблению, причем к потреблению в любом стиле, осуществляется через рынок, через акт покупки рыночного товара. Очень мало вещей потребляются без предварительной покупки, и такие бесплатные потребительные стоимости, которые не были приобретены как товары, в большинстве случаев не используются в качестве строительного материала для известных стилей жизни. Если некоторые из них и способствуют определению специфического стиля жизни, то на такой стиль смотрят свысока, как на лишенный блеска и престижа, как на презренный, непривлекательный и даже оказывающий деградирующее воздействие на людей, его практикующих. (Так происходит с большинством тех, кто из-за нехватки средств ограничен в своей свободе выбора, кто не может выбирать все, что угодно, кто обречен ограничивать свое потребление тем, за что не надо платить, кто, тем самым, не ведет себя подобающим потребителю образом и исключается из рыночных отношений, – это люди, чье состояние описывается как бедность. В обществе потребителей бедность означает ограничение или отсутствие потребительского выбора.)
Кажущаяся доступность широких и разнообразных неоплемен, каждое из которых практикует свой стиль жизни, имеет мощное и неоднозначное воздействие на нашу жизнь. С одной стороны, мы испытываем эту возможность как снятие всех ограничений нашей свободы. Теперь мы вольны «перемещаться» из одного личностного качества в другое, выбирать, кем мы хотим быть и что нам с собой делать. И кажется, нас ничто не сдерживает, ни одна мечта не представляется неуместной, не соответствующей «нашему положению». Это похоже, и вполне справедливо, на освобождение – на радостное ощущение несвязанности какими бы то ни было узами, принципиальной достижимости всего, по крайней мере в мечтах, отсутствия каких бы то ни было окончательных и неизменных условий. Но поскольку любой пункт нашего назначения, длительного или временного, представляется целиком и полностью делом нашего выбора и результатом того пути, по которому мы шли к своей свободе в прошлом, постольку и винить за него мы должны только самих себя (или превозносить в зависимости от степени удовлетворенности). Мы все «сами себя сделали», и нам постоянно об этом напоминают: нет никакого смысла урезать наши амбиции. Любой стиль жизни сколь угодно отдаленного неоплемени выступает как вызов. Если мы находим его привлекательным, если его превозносят выше, чем наш, то мы чувствуем себя обделенными. Он искушает нас, притягивает, заставляет сделать все, что в наших силах, только бы присоединиться к нему. Наш реальный стиль жизни теряет свою прелесть. Он больше не приносит нам былого удовлетворения. А поэтому нескончаемы наши усилия обрести новый стиль. Мы не можем остановиться и сказать: «Я достиг, я сделал это, теперь я могу расслабиться и отдохнуть». Как раз в тот момент, когда я собрался пожинать плоды своих долгих трудов, на горизонте появляется новое искушение, и я уже больше не чувствую себя победителем. Одним из результатов моей свободы (т. е. свободы потребительского выбора, свободы сотворения из себя самого кого-то иного посредством усвоения или неприятия различных стилей потребления) является то, что я, кажется, обречен всегда оставаться в состоянии обделенности. Сама возможность все новых и новых соблазнов и их очевидная доступность лишают радости любое достижение. Когда пределом служит небо, ни один из земных уделов не кажется достаточным, чтобы приносить удовлетворение. С гордостью выставляемые напоказ стили жизни не просто многочисленны и разнообразны, зачастую их представляют как различающиеся по своей ценности, по достоинству, которым наделяются их представители. Мы все «окультуриваем» себя сами, но есть более и менее утонченные культуры – высокие, средние и низкие. Если мы соглашаемся на менее, а не на самую лучшую, то с этого момента мы вынуждены признать, что наше не очень престижное социальное положение является естественным следствием не очень-то старательного «самокультивирования».
Но на этом история не кончается. Стили жизни других людей, даже самые утонченные, потому так дразнят, кажутся близкими и доступными, что они не скрываются. Напротив, они появляются соблазнительно манящими и открытыми; в самом деле, неоплемена не живут в крепостях за толстыми стенами, за крепостными рвами и башнями, так что любой прохожий может вступить в их пределы. И все же, как мы видели чуть раньше, вход не столь уж и свободен, как кажется; эта особого рода несвобода потому и представляется столь зловещей и потрясающей, что ее реальные стражи невидимы. Реальные же стражи – рыночные силы – не носят униформы и не несут ответственности за конечный успех или неудачу предприятия (в отличие от государственного регулирования потребностей и их удовлетворения, которое не может оставаться невидимым и тем самым является уязвимым для общественного протеста и легкой мишенью для коллективных усилий реформирования). В случае поражения злополучный прохожий должен знать, что это только его собственная вина. Он рискует потерять веру в самого себя, в силу своего характера, ума, таланта, устремлений и усердия. Что-то со мной не так, сделает он вывод и, возможно, обратится за помощью к специалисту, к психоаналитику, чтобы исправить «повреждения» в своей личности. Специалист подтвердит его подозрения: да, условия тут ни при чем, это скорее какое-то внутреннее течение, что-то скрытое в поврежденной личности потерпевшего поражение, что мешает ему воспользоваться возможностями, несомненно имеющимися в этих условиях. Специалист поможет перепроецировать расстройство (фрустрацию) на саму подверженную ему личность. Таким образом, негодование от такой фрустрации не перельется через край и не будет направлено на внешний мир. Невидимые стражи, преграждающие желанный путь, так и останутся невидимыми и еще более надежными, чем раньше. А мечты, которые они рисовали такими соблазнительными, так и останутся неразвенчанными. Они сохранят свою притягательность и искусительную силу: они стоят ваших усилий, это вы по какой-то причине не можете заставить себя предпринять необходимые усилия. Неудачники тем самым лишаются последнего утешения поносить задним числом ценность того стиля жизни, который они тщетно пытались освоить (пресловутое утешение «зеленого винограда»: мне не удалось заполучить его, но он и не стоит того, чтобы стремиться к нему любой ценой, поэтому не так-то уж много я и потерял. Было замечено, что очень часто неудача в достижении цели, превозносимой в качестве высшей и благородной, порождает чувства негодования, озлобленности и зависти, не только направленные против самих целей, но и стремящиеся распространиться на людей, похваляющихся тем, что достигли их).
Сколь вероятным это ни казалось бы при данных обстоятельствах, гораздо чаще неудача в достижении особо желанного стиля жизни не является виной стремившихся к нему людей. Даже те стили жизни, которые оказываются наиболее труднодостижимыми, должны быть представлены как общедоступные, если их хотят успешно продавать: их рекламируемая доступность – необходимое условие их соблазнительности. Они вызывают покупательную мотивацию и интерес потребителей потому, что возможные покупатели думают, будто искомые ими модели потребления могут быть приобретены в дополнение к восхвалениям и восхищению, будто эти модели – законные предметы практического действия, а не просто уважения и поклонения. Именно такое представление (от которого рынок вряд ли когда-либо откажется) предполагает равенство потребителей в их способностях свободно выбирать и самостоятельно определять свое социальное положение. В свете этого предполагаемого равенства неудача в приобретении вещей, которые есть у других, оскорбительна и унизительна.
Но неудача фактически неизбежна. Реальная доступность альтернативных стилей жизни предопределяется способностью предполагаемого их участника позволить приобрести себе соответствующие символы; проще говоря, той суммой денег, которую он может на них потратить. Истина заключается в том, что у одних людей денег больше, чем у других, поэтому они имеют большую свободу выбора, чем другие. На практике позволить себе наиболее вожделенные, хваленые и наиболее престижные стили могут только обладатели самых больших сумм денег (вот настоящий билет на рынок и пропуск к предлагаемым рынком благам). По сути дела то, что вы сейчас читаете, является тавтологией – утверждение, определяющее предмет, в то же время претендует на его объяснение. стили, которые могут быть приобретены сравнительно небольшим числом особенно богатых людей, рассматриваются тем самым как наиболее почтенные и достойные поклонения. Восхищение вызывает именно их нераспространенность, чудесными их делает их практическая недоступность. Приобретая их, ими гордятся, поскольку они – атрибуты исключительного, особого социального положения. Они служат признаками «лучших людей», это «лучшие стили жизни», поскольку их практикуют «лучшие люди». И товары, и люди, потребляющие их (при этом демонстрация является одним из основных способов их употребления, если не самым главным), получают высшие оценки благодаря именно этому «союзу».
Все товары имеют прикрепленный к ним ценник. С его помощью отбирается совокупность потенциальных покупателей. Он не определяет непосредственно решения, которые фактически принимают покупатели – они остаются свободными. Но он проводит границу между возможным и реальным – границу, которую данный покупатель преступить не может. За кажущимся равенством шансов, провозглашаемым и развиваемым рынком, скрывается практическое неравенство покупателей, т. е. неравенство четко различаемых степеней практической свободы выбора. Это неравенство ощущается как подавление и в то же время как стимул. Оно порождает болезненное чувство обделенности со всеми его пагубными для самооценки последствиями, которые мы рассматривали выше. Кроме того, оно вызывает невероятные усилия ради увеличения покупательной способности – усилия, которые поддерживают неистребимый спрос на рыночное предложение.
Таким образом, несмотря на то что рынок превозносит равенство, он же порождает и воспроизводит неравенство в обществе потребителей. Типичный, вызванный рынком или обслуживаемый им тип неравенства поддерживается и постоянно оживляется ценовым механизмом. Определенные рынком стили жизни наделяют подразумеваемым отличием благодаря ценникам, делающим их недостижимыми для менее обеспеченных покупателей; и эта функция «наделения отличием» делает их более привлекательными, тем самым поддерживая присвоенную им высокую цену. В конце концов, оказывается, что при всей предполагаемой свободе покупательского выбора рыночные стили жизни распределяются не равномерно и не случайно; каждый из них стремится сосредоточиться в определенной части общества, выполняя таким образом роль признака социального положения. Стили жизни склонны приобретать, можно сказать, классовую специфику. Тот факт, что они собраны из вещей, которые свободно продаются в магазинах, вовсе не делает их проводниками равенства, хотя и превращает их в фактор, постоянно подпитывающий ощущение приемлемости действительного неравенства. Теперь это неравенство становится более невыносимым и нестерпимым для относительно бедных и обделенных, чем тогда когда каждому социальному сословию, как правило, наследственному и неизменному, было четко предписано, каким имуществом ему можно владеть.
Именно против этого предписанного неравенства на самом деле борется порождаемое и поддерживаемое рынком неравенство. Рынок преуспевает за счет неравенства доходов и богатства, но он не признает сословий. Он сводит на нет все двигатели неравенства, кроме ценников. Товары должны быть доступны любому, кто может заплатить их цену. Стили жизни – все стили жизни – пригодны для грабежа покупателей. Покупательная способность – единственное право, признаваемое рынком. По этой же причине в рыночных потребительских обществах набирает небывалую силу сопротивление всем другим, предписанным видам неравенства. Привилегированные клубы, не принимающие в число своих членов людей определенной расы или национальности, рестораны и отели, преграждающие вход посетителям «не с тем цветом кожи», владельцы недвижимости, не желающие продавать ее покупателям по той же причине, – все это подвергается ожесточенным нападкам. Преобладание власти поддерживаемых рынком критериев социальной дифференциации, как кажется, подавляет все остальные критерии: не может быть ничего такого, что нельзя было бы купить за деньги.
Очень часто лишения, обусловленные рынком, расовой или этнической принадлежностью, пересекаются. Группы, удерживаемые на низших ступеньках ограничительными «предписаниями», как правило, заняты на плохо оплачиваемой работе, а потому и не могут позволить себе стиль жизни, предназначенный для «лучших людей». В таком случае предписывающий (аскриптивный) характер их депривации (лишенности) остается скрытым. Видимое неравенство объясняют меньшими талантами, стараниями или сообразительностью представителей обделенной расы или этнической группы; если бы не их врожденные пороки, они преуспели бы так же, как и другие. Стать похожими на тех, кому они завидуют или хотят подражать, было бы им вполне доступно, если бы они захотели и приложили к этому старание.
Однако такое объяснение невозможно в случае с теми представителями обделенных (в другом отношении) групп, которые, преуспев на рынке, все еще не допускаются к «лучшим стилям жизни». Что касается денег, то они могут позволить себе и высокие взносы в клубе, и высокие цены в отеле, но все равно вход им туда заказан. Тем самым демонстрируется предписывающий, или аскриптивный, характер их депривации (лишения); они узнают, что, вопреки обещаниям, за деньги нельзя купить все и что для положения человека в обществе, для его благополучия и достоинства мало просто прилежно зарабатывать деньги и тратить их. Это открытие подрывает их веру в свободный рынок как гарантию человеческой свободы. Насколько нам известно, люди могут различаться по способности (точнее, возможности) покупать билеты, но никому не может быть отказано в билете, если он может позволить себе его купить. В рыночном обществе предписывающая (аскриптивная) дифференциация возможностей не находит оправданий и по этой причине – невыносима. Вот почему во главе всех попыток сопротивления против дискриминации по какому-либо признаку, кроме покупательной способности, стоят зажиточные и более удачливые представители дискриминируемых рас, этнических групп, религиозных сект, языковых сообществ (в определенной степени феминистское движение также черпает силы из факта дискриминации, чуждого «духу» или по крайней мере обещаниям потребительского общества). Эпоха «сделавших себя» людей, господства «племен», представляющих стили жизни, дифференциации посредством стилей потребления – это в то же время и эпоха сопротивления расовой, этнической, религиозной и гендерной дискриминации, эпоха непримиримой борьбы за права человека, т. е. за уничтожение каких бы то ни было запретов, кроме тех, которые в принципе (согласно представлениям нашего типа общества) могут быть преодолены усилиями любого человека как индивида.
Глава 12
Средства и возможности социологии
От одной главы к другой мы с вами путешествовали по миру нашей общей повседневной жизни. Социология была приглашена нами в качестве гида: наш путь пролегал через наши обыденные заботы и проблемы, и перед социологией ставилась задача комментировать, что мы видим и делаем. Как и в любом путешествии под руководством гида, наш гид, мы надеялись, постарается, чтобы мы не пропустили ничего важного, и обратит наше внимание на вещи, мимо которых сами бы мы прошли, не заметив их. Мы также ожидали, что гид объяснит нам то, что до сих пор мы знали лишь поверхностно; расскажет нам об этом то, чего мы не знали. Мы полагали, что в конце нашего путешествия будем знать больше и понимать лучше, чем в начале; когда мы опять возвратимся в нашу повседневную жизнь после этого путешествия, мы будем лучше вооружены для того, чтобы справляться со стоящими перед нами проблемами. И не обязательно наши попытки разрешить их будут более успешны, но по крайней мере мы знаем, что это за проблемы и что требуется для их решения, если оно вообще возможно.
Я думаю, что социология, насколько мы узнали о ней в нашем путешествии, вполне справилась с поставленной задачей; но она разочаровала бы нас, если бы мы ожидали от нее чего-то большего, чем просто комментария, набора объяснительных примечаний к нашему повседневному опыту. Именно комментарий и должна предоставлять социология. Социология – это углубление того знания, которым мы обладаем и пользуемся в нашей повседневной жизни, поскольку она раскрывает некоторые весьма тонкие различия и не вполне очевидные связи, недоступные невооруженному глазу. Социология отмечает больше деталей на нашей «карте мира», а также расширяет эту карту за пределы нашего повседневного опыта, с тем чтобы мы видели, как обитаемые нами территории вписываются в не исследованный еще нами окружающий мир. Разница между тем, что мы знаем и без социологии, и тем, что мы знаем теперь, после знакомства с ее комментариями, не является разницей между ошибочным и истинным знанием (хотя, давайте признаем, что иногда социология то тут, то там исправляет наши мнения); это скорее различие между уверенностью в том, что наши переживания и опыт можно описать и объяснить одним и только одним способом, и знанием того, что возможные – вероятностные – интерпретации многочисленны. Можно сказать, что социология – это еще не предел наших поисков понимания, но ободрение для того, чтобы продолжать их, и препятствие на пути самодовольства, убивающего любознательность и останавливающего всякие поиски. Говорят, лучшее, что может сделать социология, это – «подстегнуть ленивое воображение», показывая несомненно знакомые вещи в неожиданных ракурсах и тем самым рассеивая обыденность и самодовольство.
А вообще, относительно того, что может и должна предлагать социология как «социальная наука» (т. е. как совокупность знаний, провозглашающих превосходство над простыми мнениями и суждениями и обладающих надежной, достоверной, правильной информацией о том, как в действительности обстоят дела), существуют два очень разных ожидания.
Одно из них ставит социологию наравне с другими видами специального знания, обещающими поведать нам о наших проблемах и рекомендующими нам, что с ними делать и как от них избавиться. Социология рассматривается как что-то вроде учебника по искусству жизни, подсказывающего нам, как достичь желаемого, как перепрыгнуть или обойти препятствия на пути к нему. В конечном счете это ожидание сводится к вере в то, что раз мы знаем о взаимозависимости различных элементов нашей ситуации, то мы сможем свободно ее контролировать, подчинять ее нашим целям или по крайней мере заставить ее лучше служить им. Собственно, это и называется научным знанием. Мы так высоко ценим его за то, что оно делает нас мудрее, и эта мудрость, как нам кажется, дает нам возможность предсказывать, чем все обернется; за его способность предсказывать ход событий (а тем самым и последствия собственных действий), позволяющую нам действовать свободно и рационально, т. е. делать только такие ходы, которые гарантируют желаемый результат.
Второе ожидание тесно связано с первым, но оставляет открытыми положения, подчеркивающие идею инструментальной пользы, т. е. предпосылки, которые у предыдущего ожидания не было нужды выделять. Контролировать ситуацию так или иначе должно означать приманивать, принуждать или как-то еще заставлять других людей (которые всегда являются частью ситуации) вести себя таким образом, чтобы их поведение способствовало достижению того, что нам нужно. Как правило, контроль над ситуацией не может не означать также и контроля над другими людьми (в конце концов, искусство ведения жизни и представляется как «способ завоевывать друзей и влиять на людей»). В этом втором ожидании желание контролировать других людей выходит на первый план. На социологию возлагаются надежды, что она поддержит усилия по созданию порядка и устранению хаоса, который, как мы показали в предыдущих главах, является отличительным признаком нашего времени. От социолога, исследующего внутренние побуждения человеческого поведения, ожидают практически полезной информации о том, как следует все упорядочить, чтобы выявить показательные типы поведения или, наоборот, предотвратить поведение, не соответствующее сконструированной модели порядка. Так, фабриканты могут спросить у социологов, как предотвратить забастовки; командующие войсками, оккупирующими чужую страну, могут спросить, как бороться с партизанами; полицейские могут проверить практические рекомендации по рассеиванию толпы и сдерживанию потенциальных бунтовщиков; управляющие торговыми компаниями могут затребовать наилучших способов искушения потенциальных покупателей; чиновники, занимающиеся делами общественности, могут спросить, как сделать нанявших их политиков более популярными и избираемыми; сами же политики могут обратиться за советом, какие методы поддержания законности и порядка наиболее эффективны (т. е. как заставить своих подданных подчиняться закону, желательно добровольно, даже тогда, когда им не нравятся эти законы).
Суть всех этих требований заключается в том, чтобы социолог советовал, как урезать свободу некоторых людей так, чтобы, несмотря на то что их выбор будет ограниченным, поведение все-таки было бы более предсказуемым. От социолога требуется знание о том, как преобразовать данных людей из субъектов их собственного действия в объекты действия других людей; как применить к человеческому поведению на практике что-то вроде модели «бильярдного шара», в которой все, что делают люди, целиком и полностью обусловливается толчками извне. Чем больше человеческое поведение будет походить на движения такого «бильярдного шара», тем более полезными будут и услуги социологов для поставленной цели. Даже если люди не могут перестать выбирать и принимать решения, то внешний контекст их действий должен подвергаться таким манипуляциям, при которых было бы совершенно исключено, чтобы их выборы и решения были направлены против желаний манипуляторов.
Чаще всего такие ожидания выливаются в требование научности социологии: социология должна оформлять свою деятельность и ее результаты по образцу наук, которые мы все высоко ценим за их явную практическую полезность, т. е. за приносимые ими ощутимые выгоды. Социология должна выдавать столь же точные, практически полезные и эффективные рецепты, какие выдают, например, физика или химия. По их замыслу, эти и подобные им науки имели целью приобретение вполне определенного вида знания, т. е. такого, которое в итоге ведет к полному овладению объектом исследования. Этот объект, сконструированный наподобие «природного» объекта, не наделен собственной волей, целеполаганием, поэтому он может быть безо всякого сожаления полностью подчинен воле и целеполаганию человека, стремящегося использовать его с целью лучшего удовлетворения своих потребностей. Язык науки, описывающий «природные» объекты», был тщательно очищен от всех понятий, соотносящихся с целью или смыслом; после этой очистки остался только «объективный» язык, конструирующий свои объекты лишь постольку, поскольку они, во-первых, воспринимают, а не производят действие, и, во-вторых, направляются внешними силами, однозначно представляемыми как «слепые», т. е. не направленные на какую-либо определенную цель и свободные от каких бы то ни было намерений. Описанный таким образом естественный мир воспринимался как «свободный для всех», как целина, ждущая, когда ее возделают и преобразуют в спланированный с определенной целью участок, более пригодный для человеческого обитания. Объективность науки нашла выражение в том, что она докладывала о своих открытиях бесстрастным, техническим языком, подчеркивающим непреодолимое различие между людьми как носителями целей и природой, предназначенной для формирования и преобразования в соответствии с этими целями. Наука провозгласила своей целью способствовать «господству человечества над природой».
Главным образом с этой целью и предпринимались исследования мира. Природа должна была изучаться с тем, чтобы мастеровые знали, как придать ей желаемую форму (представьте, например, скульптора и глыбу мрамора, которую он хочет преобразить в подобие человеческой фигуры. Чтобы осуществить эту цель, он должен прежде всего знать о внутренних свойствах камня. Отбивать и откалывать куски мрамора, не разбивая его, можно только по некоторым определенным направлениям. Для того чтобы придать куску мрамора задуманную форму, т. е. подчинить камень своему замыслу, скульптор должен научиться распознавать эти направления. Искомое им знание подчинило бы мертвый камень его воле и позволило преобразовать его в соответствии с представлениями скульптора о гармонии и красоте). Именно так и было сконструировано научное знание: объяснить объект науки означало получить возможность предсказать, что произойдет, если то-то и то-то имеет место быть; обладая такой способностью предсказания, человек получает возможность действовать, т. е. навязывать уже завоеванной и покоренной части реальности свой замысел, наилучшим образом отвечающий поставленной цели. Реальность рассматривалась прежде всего как сопротивление человеческой целенаправленной деятельности. Задача науки заключалась в том, чтобы найти способы преодоления этого сопротивления. Конечное завоевание природы означало бы освобождение человечества от природных ограничений, возрастание, так сказать, нашей коллективной свободы.
Все добытое ценное знание должно было соответствовать этой модели науки. Любой вид знания, желающий снискать общественное признание, найти себе место в академическом мире и получить свою долю общественных ресурсов, должен был доказать свое сходство с естественными науками, свою способность выдавать столь же полезные практические указания, которые позволят нам лучше приспособить этот мир для человеческих целей. Требование приспособиться к стандарту, установленному естественными науками, было настойчивым и не терпящим возражений. Даже если мысль о роли архитекторов или проектировщиков социального порядка и не посещала отцов-основателей социологии, даже если единственным, к чему они стремились, было понять более полно человеческое положение, они не могли (скрыто или явно) не принять доминирующую модель науки как прототип «хорошего знания» и образец всепонимания. Поэтому они должны были показать, что для изучения человеческой жизни и деятельности можно изобрести такие же точные и объективные методы, как и методы, используемые науками о природе, и что в результате их применения может быть получено столь же точное и объективное знание. Они должны были доказать, что социология сможет подняться до статуса науки и тем самым быть принятой в академическую семью на равных с ее более старшими и задающими тон членами.
Долгий путь, пройденный социологией от этого стремления к ее современному социологическому дискурсу (способу рассуждений и обмена суждениями), объясняет и его специфическую форму с тех пор, как социология обосновалась среди других наук в мире академического преподавания и исследования. Усилия сделать социологию «научной» доминировали в этих рассуждениях о ее судьбе и призвании; данная задача заняла почетное место среди интересов участников обсуждений. Нарождавшаяся академическая социология использовала три стратегии для выполнения указанной задачи, все они были апробированы и последовательно соединились в той форме, которую приняла официальная социология.
Первая стратегия нагляднее всего просматривается в трудах основателя академической социологии во Франции Эмиля Дюркгейма. Дюркгейм принял как само собой разумеющийся факт существования модели науки, разделяемой всеми областями знания, которые претендуют на научный статус. Данная модель характеризуется прежде всего объективностью, т. е. четким отделением объекта исследования от изучающего его субъекта, представлением этого объекта как чего-то «внешнего», что должно быть подвергнуто рассмотрению исследователя, должно наблюдаться и описываться на строго нейтральном и отстраненном языке. Так как вся наука действует одним и тем же образом, то научные дисциплины различаются лишь тем, что общий всем им тип объективного рассмотрения направляется на различные области реальности; мир, так сказать, делится на участки, каждый из которых исследуется отдельной научной дисциплиной. Все исследователи одинаковы: все они владеют сходными техническими навыками и занимаются деятельностью, подчиненной сходным правилам и законам поведения. И реальность, которую они изучают, для всех одна и та же, всегда состоящая из «внешних» объектов, ожидающих наблюдения, описания и объяснения. Отличает же научные дисциплины друг от друга только разделение исследуемой территории. Различные отрасли науки делят мир между собой, и каждая из них берет на себя один его фрагмент – свой собственный «набор вещей».
Если дело с науками обстоит именно так, то для того, чтобы социология смогла занять свое место в науке, т. е. стать наукой, она должна найти фрагмент мира, еще не освоенный существующими научными дисциплинами. Подобно мореплавателю, социология должна открыть континент, над которым еще не объявлен ничей суверенитет и над которым она может установить собственное несомненное господство благодаря своей научной компетенции и авторитету. Проще говоря, социология как наука и как отдельная, независимая научная дисциплина может быть легитимирована только в том случае, если найден до сих пор не известный «набор вещей», ожидающий научного анализа.
Дюркгейм полагал, что специфически социальные факты, т. е. явления коллективности, не свойственные ни одному конкретному человеку в отдельности (как общие представления и образцы поведения), могут быть приняты как такие вещи и изучаться в объективной, отстраненной манере подобно другим вещам. В самом деле, эти явления представляются индивидам вроде нас с вами почти такими же, как и остальная «внешняя» реальность: они жестоки, упрямы и не зависят от нашей воли признавать или не признавать их, поскольку мы не вольны избавиться от них. Они присутствуют здесь независимо от того, знаем мы о них или нет, почти как стол или кресло, занимающие определенное место в комнате, независимо от того, смотрю я на них или думаю о них. Более того, я могу игнорировать их присутствие только в ущерб себе. Если я буду вести себя так, словно их нет, то буду жестоко наказан (если я игнорирую естественный закон всемирного тяготения и покину комнату через окно, а не через дверь, то буду наказан – сломаю ногу или руку. Если я игнорирую социальную норму – закон и моральный запрет воровать, то я также понесу наказание: буду заключен в тюрьму или подвергнут остракизму со стороны своих товарищей). Фактически я постигаю существование социальной нормы трудным путем: когда я нарушаю ее и тем самым «нажимаю на спусковой крючок» карательных санкций против меня.








