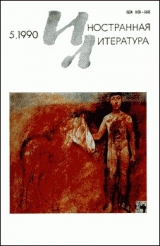
Текст книги "Вот такой конец войны"
Автор книги: Зигфрид Ленц
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Может, командование уже разбежалось...
– Я на боковую, толкните, если что важное...
Разговор затих; мы потягивались, зевали, прислушивались к шуму за окнами: там останавливались автомашины, раздавались торопливые шаги и скороговорка приветствий у подъезда.
Еще не стемнело, когда все обратили внимание на штурмана; он направился к полке и стал быстро перелистывать папки и формуляры, пока не нашел почти чистый лист бумаги. Вырвав его, он подошел к подоконнику и стоя начал писать, писал не отрываясь, словно все обдумал заранее. Мы не знали, что он пишет, но у всех было такое чувство, что это касается каждого из нас, и, может, именно поэтому никто не посмел нарушить тишину. Возле полотенец лежали большие надписанные конверты; штурман вытряхнул содержимое из одного, зачеркнул надпись и печатными буквами начертал на нем звание и фамилию нашего командира. Потом согнул вдвое конверт, подошел ко мне и устало присел рядом.
– Вот, – сказал он, – отдайте это командиру, когда-нибудь.
Кто-то крикнул: «Встать! Смирно!» Мы вскочили и стали навытяжку перед еще молодым седоволосым офицером, который вошел без стука. Он сделал нам знак «вольно». Некоторое время постоял в раздумье, потом не спеша двинулся от одного к другому, каждому кивал головой и предлагал сигарету из жестяной коробки, причем я заметил, что на правой руке у него не хватает трех пальцев. Он уселся на подоконник и сказал, глядя в пол:
– Я ваш защитник, моряки, дело обстоит неважно – И добавил монотонным голосом: – Выдвинуто обвинение: угроза вышестоящему начальнику, невыполнение приказа, бунт.
Ну и тишина, внезапная полная тишина! Ни один из нас даже сигарету не поднес ко рту.
Первым опомнился пиротехник.
– Но мы же капитулировали? – спросил он.
– Да, – ответил офицер, – подписана частичная капитуляция.
– Значит, нас не имеют права обвинять, – сказал пиротехник, – во всяком случае не немецкий военный трибунал.
– Для служащих военно-морского флота Германии, – пояснил офицер, – остается в силе подсудность немецкому военному трибуналу, таковая не отменена.
– Но ведь мы... – сказал пиротехник, – мы сейчас под охраной британской администрации?
– Да, – ответил офицер, – но это ничего не меняет в судебной власти государства.
Он пригласил всех подойти к нему поближе и, сидя на подоконнике, расспросил нас о том, что же произошло на борту MX-12.
Разболевшийся у меня тройничный нерв немного утих, правда, еще жгло, дергало, слезился глаз. Пока мы шли по мрачному охраняемому коридору, я слегка прижимал носовой платок к глазу и виску; неожиданно дорогу мне преградил часовой и потребовал, чтобы я развернул сложенный платок и встряхнул его. После этого он дал мне чувствительного пинка, и я примкнул к товарищам, которые цепочкой молча шагали под развешанными на стенах рисунками старых кораблей. Помещение, куда нас ввели, похожее на столовую или на конференц-зал, было плохо освещено; у стен стояли часовые в касках и с автоматами; по обе стороны огромного массивного стола, с которого свисал имперский флаг, были поставлены скамьи и табуретки, пожалуй, многовато скамей и табуреток. Нас было восемь. Мы промаршировали по дощатому полу под командой кривоногого боцмана и по его знаку остановились перед скамейками; садиться было еще нельзя. Затем появились наш командир с вахтенным офицером, их сопровождал какой-то офицер; они вошли через ту же дверь, что и мы, направились к табуреткам напротив нас и остановились там в ожидании. Командир не бросил в нашу сторону ни единого взгляда – ни вопросительного, ни ответного, – хотя все мы не спускали глаз с его лица; он просто смотрел мимо нас, терпеливо, как бы отсутствующе. Даже вахтенного офицера, стоявшего рядом с ним, он, казалось, не замечал.
Морской судья со свитой, войдя через боковую дверь, молча прошествовали к столу, шесть человек, все в военной форме, последним шел защитник; после того как они по кивку судьи заняли места, нам тоже разрешили сесть. Судья – пожилой, впалые щеки, мешки под глазами – деловито открыл заседание; говорил он отрывисто, сдержанно, время от времени поднимая лицо и щурясь на потолочные плафоны. Сначала, когда судья перечислял пункты обвинения, в его монотонном голосе чувствовалось безразличие, но как только он стал называть наши фамилии и звания по списку личного состава, то будто преодолел усталость, голос его стал отчетливее, порой он подчеркивал отдельные слова, ритмично постукивая серебряным карандашом по столу. Степенным движением руки судья предоставил слово офицеру, лицо которого показалось мне знакомым – вероятно, я видел его фотоснимок в каком-то журнале: светлоглазый, очень коротко остриженный блондин, у которого на мундире красовалась одна-единственная высокая награда – орден за храбрость. Он аккуратно положил на стол свою фуражку с идеально натянутым синим верхом – ни единой складки, ни вмятины. По записям он восстановил этапы последнего рейса MX-12: время отплытия, сообщение задания в открытом море, начало заговора, угроза оружием командиру, отстранение его от должности, наконец, срыв операции и самовольное решение идти обратным курсом. После чего он заключил, что эти события произошли в исторический момент, когда идет борьба, решающая вопрос «жизни и смерти немецкого народа». При этих словах защитник пристально посмотрел на него и что-то быстро записал в блокноте.
Командир повел себя не так, как от него ожидали; вместо связного изложения событий на борту он ограничился ответами на задаваемые вопросы. Отвечал он медлительно и обращался не столько к «орденоносцу», сколько к ведущему протокол секретарю, с лица которого не сходило изумленное выражение.
– Скажите, как гласил полученный вами приказ.
– Курляндия. Мы должны были идти в Либаву, в Курляндию.
– С каким заданием?
– Принять раненых.
– Принять?
– И вывезти. В Киль.
– Экипаж знал приказ?
– Как только мы вышли в море, я его объявил.
– Значит, экипажу он был известен.
– Так точно.
– Каким курсом вы намеревались идти?
– Северо-восточным, вдоль шведских территориальных вод. А потом повернуть на юго-восток.
– Ваши люди знали, что в Курляндии еще идут бои? Что целая армия – хотя и окруженная – оказывает героическое сопротивление?
– Большинство знало, пожалуй.
– Следовательно, они знали, что их сражавшимся товарищам необходима помощь?
– У MX-12 было задание взять раненых.
– Раненых... да, раненых товарищей, которые несколько дней лежат на косе под Либавой. И ждут. Ждут, чтобы вы отвезли их домой.
– Это нам было известно.
– Так. Известно. И тем не менее экипаж не подчинился приказу. Знал, что от этого зависит судьба раненых, и не подчинился. Из трусости.
– Это не было трусостью.
– Нет? А что же тогда?
– Я уже два года командую MX-12. И знаю людей. Это была не трусость.
– Тогда скажите, почему экипаж угрожал командиру. Почему его отстранили от должности...
– Из-за риска. Наверно, решили, что идем на слишком большой риск.
– Оценивать рискованность операции – дело командира. Он несет ответственность. Вы согласны со мной?
– Так точно.
И вдруг, когда защитник попросил его рассказать о событиях на мостике, командир посмотрел в нашу сторону. Взгляд его, скользнув по нам, остановился на штурмане, надолго; казалось, будто они разговаривают глазами, и разговор этот был не резкий, полный упреков, а скорее растерянный. Отвечая на просьбу защитника – описать случившееся с его личной точки зрения, командир упомянул сначала ходившие среди моряков слухи о предстоящем конце войны, сказал о настроениях, породивших эти слухи – еще на стоянке в порту, а не когда вышли в море, – но и признал, что на борту не было никаких нарушений дисциплины.
– Корабль шел курсом согласно приказу, – сказал он, – экипаж умело действовал в операции по спасению и при воздушном налете. Незадолго до второй вахты мостик заняли, люди были вооружены. Потребовали прекратить операцию и следовать в Киль. Я отклонил их требование. Штурман Хаймсон отстранил командира от должности. Командование тральщиком он взял на себя. Командира и первого вахтенного офицера посадили под арест.
– Господин капитан-лейтенант, – спросил защитник, – знал ли экипаж, что подписана частичная капитуляция?
– Так точно, – ответил командир.
– Когда это стало известно?
– Мы были в море уже часов десять.
– О капитуляции сообщили вы?
– Нет.
– Но вы разговаривали об этом с отдельными членами экипажа?
– Так точно.
– С кем?
– Со штурманом Хаймсоном.
– В каком духе? Вы не помните?
– Мы говорили об условиях капитуляции.
– Об условиях... Вам известно, что одним из условий капитуляции является перемирие?
– Так точно.
– Вы придерживались бы этого условия?
– Думаю, что да.
– Даже если бы на вас напали? Если бы, допустим, советские самолеты атаковали МХ-12?
– Не знаю.
– Чтобы выполнить условия капитуляции, вам пришлось бы отказаться от любого сопротивления. МХ-12 находится в зоне действия британских военных сил. Другое условие, между прочим, гласит, что все операции следует прекратить.
– Я получал приказы от штаба флотилии.
– То есть, вы выполнили бы ваше задание в любом случае? Даже если бы при этом нарушили условия капитуляции?
– Чего-то надо придерживаться.
– Господин капитан-лейтенант, насколько хорошо вы знаете свой экипаж?
– Большинство уже было на борту, когда МХ-12 базировался в Норвегии.
– Означает ли это, что вы были готовы положиться на ваших людей?
– Так точно.
– В любой ситуации?
– В любой.
– Вы когда-нибудь предполагали, что вас могут отстранить от командования судном?
– Нет... Нет.
– Как же это могло случиться, по вашему мнению? Что тут не сошлось?
– Я уже говорил: дело в риске. Многим показалось, что он слишком велик. Они считали, что у MX-12 нет шансов проскочить в Курляндию.
– Могло ли быть так, что на поведение экипажа повлияло известие о капитуляции?
– Вполне.
– Тут у вас нет никаких сомнений?
– Никаких.
– Иными словами: вы считаете возможным, что экипаж подчинялся бы вашему приказу, если бы до него не дошла весть о капитуляции?
– Нам довелось бывать вместе во многих операциях, в том числе сложных.
– Ответьте на мой вопрос.
– Думаю, если бы не объявили капитуляцию, MX-12 шел бы сейчас курсом на Либаву.
Один раз сделали перерыв. Судья со свитой удалились, командиру и вахтенному офицеру предоставили возможность покинуть помещение, но оба решили остаться. Они сидели рядом и тихо разговаривали. А мы с нетерпением – суд вышел, нас никто не стеснял, – вглядывались в командира так, словно в эту минуту напряженного ожидания должно было быть сказано нечто, касавшееся только нас и никого другого. Но... не дождались ни слова, ни оклика, ни обвинения. И вот, прервав наконец оцепенелое молчание, мы тоже начали советоваться, сосед с соседом, выслушивая и сообщая шепотом по цепочке то, что считали полезным. Только пиротехник не шептался; не обращая никакого внимания на присутствие часовых, он в полный голос заявил, что не признает этого военного трибунала, он даже назвал его «судилищем», ибо война окончена, так что выносить приговор и вообще судить можно сейчас только именем английского короля. Наверно, потому, что никто из нас ему не возражал, он сразу же по возвращении судей попросил слова, и ему разрешили сделать заявление. Слушали его неохотно, с удивлением, в какой-то момент показалось, что морской судья собирается лишить его слова; но все же он дал пиротехнику высказаться и лишь потом с сарказмом заметил:
– Меня бы удивило, если бы человек с вашим прошлым не сомневался бы в правомочности суда.
Свет в плафонах мигал, часто совсем выключался. В темноте я массировал виски и прижимал к глазу носовой платок – чуть влажный, он приносил облегчение. Всякий раз, когда гаснул свет, я чувствовал, как до моего плеча дотрагивается рука, рука штурмана. Он стоял рядом со мной и стоя отвечал на вопросы «орденоносного» офицера, отвечал монотонно, с паузами, иногда признавая свою вину. «Так точно, – говорил он часто, – так точно».
– Это бунт, – сказал офицер – Коллективное неповиновение приказу в открытом море – бунт. Вам известно, что за это полагается?
– Так точно.
– Вы осмелились отстранить командира от командования. В ходе военной операции. Повторяю: в ходе операции. В то время как повсюду немецкие солдаты послушно выполняли свой последний долг, вы подстрекали экипаж к неповиновению. Вы стали зачинщиком мятежа.
– В тот момент у нас была только одна цель: спасти. судно и экипаж.
– Что вы говорите! Хотели спасти судно и экипаж? Вы хотели улизнуть, удрать! Пусть другие лезут в Курляндию, а мы – по домам, хватит!
– Экипаж твердо решил прекратить операцию.
– Весь экипаж?
– Почти весь. Командир знал это.
– Вот как, командир знал. И тем не менее он придерживался приказа. И тем не менее был готов выполнить задание. Он всем показал пример, как надо исполнять свой долг... Вы думаете, он хотел пожертвовать тральщиком? Вы так думаете?
– Нет.
– Вот видите! Таким людям, как ваш командир, обязаны сотни тысяч спасенных... Таким, как он, которые были готовы чем-то рисковать, а если потребуется, и жертвовать собой.
– Мы хотели избежать жертв, бессмысленных жертв.
– Вы беретесь судить о том, что такое бессмысленная жертва?
– Так точно.
– Ну и поскольку вы считаете себя на это способным, вы захватили с вашей кучкой командирский мостик. Отстранили командира. И посадили его под арест.
– Если б я этого не сделал... Экипаж был полон решимости применить силу. Они вооружились сами, без моего приказа.
– Ах так... Значит, это ваша заслуга, что на борту не дошло до стычки? Что не началась стрельба?.. Я вас правильно понял? Что, отстранив командира от должности, вы предотвратили кровопролитие?
– Я попытался это сделать. Последствия мне были известны.
– В таком случае вам было также известно, что командир корабля в военно-морском походе обладает дисциплинарной властью?
– Так точно.
– Он имел право расстрелять вас. Но не сделал этого. Чтобы избежать кровопролития, он выполнил ваши указания.
Офицер, взявший на себя защиту, очевидно, знал, что штурман за время войны дважды менял тральщики, пошедшие ко дну. Он спросил, где это случилось, и штурман ответил:
– Первый раз в Нарвике, второй – при разминировании Немецкого залива.
– Что было после вашего спасения?
– После того как меня выудили, я тут же подал рапорт и попросился на корабль.
– Сколько времени вы прослужили на МХ-12?
– Два года.
– Какие у вас были отношения с командиром?
– Об этом я не хотел бы говорить.
– Вы могли бы что-нибудь сказать о его капитанских способностях?
– Мне это не положено.
– Но вы признавали их?
– Так точно. Всегда.
– И тем не менее вы не верили, что он проведет МХ-12 в Курляндию? И обратно?
– С этим никто бы не справился, даже лучший моряк.
– Откуда вы знаете?
– Я видел кладбища кораблей – у Риги, у Мемеля, у Свинемюнде... Мы оказывали помощь при многих кораблекрушениях... А сигналы бедствия. По радио мы знали, сколько сигналов SOS было передано. Восточнее Борнхольма нельзя было пройти.
– После того как вы взяли командование над МХ-12, вы получили приказ от штаба флотилии.
– Так точно.
– Что говорилось в приказе?
– Встретиться с МХ-21.
– Где?
– У Готланда.
– С какой целью?
– Вместе следовать в Курляндию.
– Этого не произошло?
– Нет. МХ-21 подожгли. При воздушном налете. Было повреждено машинное отделение, он утратил маневренность.
Морской судья допросил меня под конец. Те, которых он опрашивал до меня, будто бы почти ничего не слышали и вряд ли что видели; по их уклончивым ответам было заметно, как они старались не взвалить вину на штурмана. Судья, кажется, совсем выдохся – у него был вид больного малярией. Усталым голосом он спросил меня, видел ли я и слышал, будучи рулевым, так же мало, как и другие; я посмотрел на сидевшего напротив командира и сказал: нет. Судья поднял голову и с ироническим выражением одобрительно мне покивал, как бы говоря: вот это да, кто бы подумал!
Я решил говорить все, что знал:
– Они были в очень хороших отношениях, командир и штурман. Насколько я понимал, они старые друзья... Нет, никаких угроз я не слышал... Нет, штурман никогда не заявлял, что экипаж возьмется за оружие... Только забота о судне и об экипаже... Штурман не отдавал приказа занять мостик, ни в коем случае... Да, его голос я услышал, лишь когда заговорили о капитуляции. Насилие... Кто его посадил под арест, уже не помню... Да, те слова я точно запомнил: «беру командование на себя со всеми вытекающими последствиями». Он добавил еще: «и буду отвечать за это».
Судья слушал меня задумчиво и вдруг неожиданно спросил:
– Эй, вы плачете?
– Нет, – сказал я, – глаз болит.
Они удалились на совещание, а мы опять молча сидели напротив друг друга. Командир сидел выпрямившись, в его позе было что-то отстраняющее; я не осмелился просто встать и вручить ему письмо, которое мне доверил штурман. Пиротехник беспрерывно сворачивал самокрутки и украдкой передавал их нам – на «после». Сидевший рядом со мной штурман закрыл глаза, словно задумавшись, а радист – это было видно – боролся с усталостью, то клевал носом, то вскидывал голову.
Без приказания мы поднялись, когда вернулись судьи, и так как они не сели за стол, то и мы остались стоять. Под глазом и в виске дергало и стучало, мне вдруг почудилось, что судей стало больше, и не только это: хотя говорил один морской судья, мне казалось, будто я слышу несколько голосов и все они смешивались, перекликались, искажались и накладывались друг на друга. Говорилось о законах военного времени, которым все должно быть подчинено, о дисциплине, воинской чести и выполнении долга в последний час. Был упомянут устрашающий исторический пример: мятежные элементы на борту тяжелых боевых кораблей. Произносились заключения о товариществе на море, товариществе в бою и среди хаоса, и снова и снова о дисциплине – железной дисциплине, которая дает шанс выстоять. Чтобы эффективнее бороться с явлениями упадка дисциплины и разложения, гроссадмирал издал особые приказы; выдержки из них были в заключение процитированы. За неподчинение приказу, угрозу действием вышестоящему начальнику и вооруженный бунт во время военного похода: к смертной казни – штурмана Хаймсона и пиротехника Еллинека. Несколько тише голос добавил:
– Приговор подлежит утверждению.
Я взглянул на командира. Он был в ужасе. Как бы пробуя, он пошевелил губами и, наконец, внятно произнес:
– Безумие, это безумие! – Тяжело ступая, он подошел к столу, вытянул руку в сторону судьи и повторил: – Безумие, такого приговора быть не может!
Морской судья пропустил его замечание мимо ушей и перечислил полагавшиеся нам сроки ареста.
Мы их тоже уговаривали, штурмана с пиротехником, не только защитник; была, наверно, уже полночь, когда они наконец поддались и сели рядом, чтобы написать ходатайства о помиловании на бумаге, которую принес защитник. Они медлили, вздыхали, подыскивая обороты, растерянно взирали на защитника, а тот сидел, покуривая, на подоконнике и как будто не выражал готовности выручать их нужными словами; он продиктовал им только адрес, сам сложил ходатайства и сунул их в приготовленные конверты. В отношении приговоров ему нечего было сказать, а может, он и не хотел говорить; сколько радист и сигнальщик ни просили его прокомментировать решение суда, он пожимал плечами и с уверенным видом говорил: «Подождем, давайте подождем». Прежде чем он ушел, штурман взял у меня свое письмо, адресованное командиру, и у дверей передал его защитнику. Вручая конверт, штурман был так озабочен, словно от этого письма зависело очень многое. Прощаясь, защитник положил руку на плечо штурману. Кто-то, улегшийся под полками, крикнул: «Потушите свет!» – я повернул выключатель и лег на пол. Каждому хотелось сказать многое, но никто не решался начать, и чем дольше длилась тишина в помещении архива, тем охотнее мы с ней примирились.
Осторожно открыв дверь, часовой некоторое время всматривался в нас, потом окликнул обоих по фамилии, не громко, не в приказном тоне, а как бы осведомляясь. Мы все поднялись и двинулись к двери, и наш спокойный, требовательный вид побудил часового отступить к порогу.
– Еллинек, – сказал он, – Еллинек и штурман Хаймсон, мы должны отвести вас на борт.
«Почему на борт?» – спросил кто-то, на что часовой ответил: «Там чего-то ожидается, важный гость». Мы удивленно переглянулись, на серых лицах появился проблеск надежды: на борт... ходатайство о помиловании... Вызывают на борт... Мы пропустили их к дверям, а сами стали ходить взад-вперед и не могли успокоиться, пытаясь обосновать столь быстро возникшую надежду. Бледный верзила с помощником принесли хлеб, повидло, поставили на стол дымящийся алюминиевый бачок и молча удалились. Ни один из нас не притронулся к завтраку. Когда прозвучали залпы – нет, не залпы, это были две очереди из автомата, – сигнальщик застонал, другой матрос опустился на колени у батареи, его начало тошнить. Каждый на что-то оперся, к чему-то прислонился, все напряженно прислушивались.
– Это же бред, – сказал сигнальщик – Сволочи, ведь война кончилась!
– Она никогда не кончится, – сказал радист, – для нас, кто на ней был, никогда не кончится.
– Это не приговор, – сказал сигнальщик, – это убийство. Слышите, это убийство!
Радист нагнулся над матросом, который стоял на коленях у батареи, и посмотрел ему в лицо.
– Иди к раковине, – сказал он, – ну, вставай.








